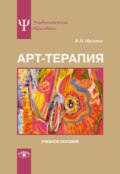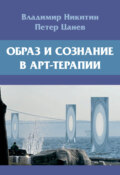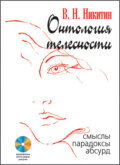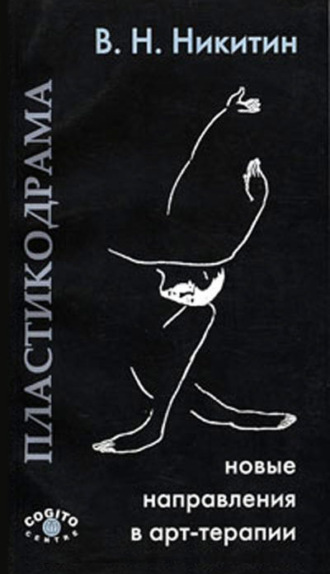
Владимир Никитин
Пластикодрама. Новые направления в арт-терапии
Глава 2
Феноменология образа телесного «Я»

Отправной точкой в движении к бессознательному через познание телесной креативности в нашем исследовании выступает образ телесного «Я» в структуре целостного образа «Я». В свою очередь, представления о собственной структуре образа телесного «Я» помогут нам приблизиться к пониманию механизмов продуцирования телом информации и способов ее обработки на рациональном уровне.
Психологические исследования подструктур самосознания не могут проходить вне дискуссии о том, что, собственно говоря, мы определяем как образ «Я». «Я» есть то, с чем человек сталкивается, когда обращает внимание внутрь себя, то есть интериоризирует свои представления о себе и мире. Представления человека об образе своего «Я» предопределяют и формирование его модели «мира», то есть его отношения к своему месту в нем. В свою очередь, его представления об образе своего телесного «Я» свидетельствуют о степени его самопознания.
К сожалению, несмотря на широкий спектр существующих конструктивных идей в теории самопознания парадигма отношений «Я» концептуального и «Я» телесного рассматривается в большей степени в рамках психотерапевтических, а не социально-психологических подходов. В то же время исследования самосознания в области нейропсихологии Н. К. Корсаковой, А. Р. Лурии, Е. Д. Хомской доказали значимость развития представлений об образе телесного «Я» для совершенствования высших психических функций. По данным этих исследователей, высокий уровень развития кинетических и кинестетических показателей имеет позитивную корреляцию с качеством и длительностью концентрации внимания, со способностью к абстрактному мышлению, со словарным запасом, любознательностью и творчеством. Освоение речи, становление мышления в онтогенезе опосредуется характером развития психомоторики, представляющей собой первооснову для самоосознания. Но если вопрос о продуктивности сенсомоторной сферы для развития высших психических функций в достаточной мере исследован отечественными и зарубежными психологами, то необходимость изучения содержания структурных компонентов образа телесного «Я» остается открытой.
Искусственное расчленение «Я» на психическое и телесное и построение системы социального образования на этой основе приводит к разрушению холодинамической модели познания, неоправданному допущению существования исключительно рассудочного и физического типов деятельности, которые оправдывают формирование внесенситивного, внечувственного типа личности. Потеря чувственности обуславливает процесс разрушения целостного образа «Я», то есть утрачивание личностью способности к идентификации образа своего «Я». «Любое проявление психического – восприятие, телесное ощущение, воспоминание, представление, мысль, чувство – несет в себе особый аспект принадлежности „мне“… осознание их непринадлежности мне… есть феномен деперсонализации», – писал К. Ясперс (Ясперс, 1997, с. 160). Нам близки концепции «рефлексивной жизнедеятельности целостности организма» Л. П. Киященко и «примата психики над телом» М. З. Воробьева, Е. Т. Соколовой, рассматривающих феномен Человека как продукт «синкретически развивающегося единства» природного и социального.
Первичным условием структуризации целостного образа «Я» выступает необходимость «присвоения» человеком своего тела, его внутреннего и внешнего (социального и культурного) содержания. Осознание образа «Я» невозможно без формирования у личности системы осознанного восприятия составляющих структуры образа телесного «Я». Само же восприятие тела немыслимо без вовлечения его в движение, ощущение, чувствование и мышление, разворачивающихся в границах социокультурных доминант.
Исследования психофизиологии движения Н. А. Бернштейна (Бернштейн, 1947), природы произвольных движений А. В. Запорожец (Запорожец,1960), механизмов управления движениями В. П. Зинченко (Зинченко, 1979), инструментального действия Н. Д. Гордеевой (Гордеева, 1995) показали, что моторные схемы движения не могут быть механистично усвоены. Качество овладения сложными двигательными навыками зависит от структурной организации сенсомоторного акта, от характера взаимоотношения между когнитивными компонентами действия, формируемыми в рамках определенных этно-субкультурных моделей, которые, в свою очередь, определяют эффективность деятельности человека как продукта соответствующих социально-культурных отношений в целом. Однако описание опосредованной связи когнитивных показателей невербального действия с характером и уровнем развития сенсомоторной сферы для решения задач коммуникации можно встретить только в литературе, посвященной психологии музыкальных способностей (Теплов, 1985; Ержимский, 1988).
Взаимозависимость сенсомоторных, энергетических и когнитивных функций показана в социально-психологических работах по изучению методологии обучения одаренных детей. Отмечается центральная роль «аффективного ядра» в организации сложных двигательных актов во время восприятия; показана зависимость между способностью замечать и отслеживать движение и восприятием речи (Кацулло, Музетти, 1994), между низким порогом мышечного чувства и депрессивным состоянием (Бертолини, Нери, 1994). Таким образом, психологическое содержание сознания, «сращиваясь» с определенной социальной средой и непрерывно углубляясь в ее бытие, проявляется в телесном опыте. Познавая телесные функции и форму, мы, тем самым, проникаем в экзистенцию психического «Я». «Если содержание действительно может покоиться только под формой и проявлять себя как содержание этой формы, значит, форма доступна только через тело» (Мерло-Понти, 1999, с.142).
2.1. Структура образа телесного «Я»
Исследование моделей развития самосознания включает рассмотрение феномена образа телесного «Я», роли образа тела в структуре самосознания человека (фото 1). В отечественных и зарубежных школах психологии вопрос о генезисе образа телесного «Я» до сих пор недостаточно изучен и в основном рассматривается с позиций двух подходов: «кинесико-проксемического поведения субъекта общения» и «психосемиотики невербального общения», направленных на исследование и интерпретацию значений невербальных знаков пространственно-временных характеристик коммуникаций и характера экспрессивной невербальной интеракции при интерперсональных отношениях. Кинесико-проксемический подход позволяет исследовать такие характеристики, как дистанцию между партнерами, направление движения их тел, место расположения, синхронность проявления движений тела, динамичность смены паттернов невербального поведения, степень расслабленности-напряженности, открытости-закрытости позы, характер и направленность взгляда, прикосновения и т. д., то есть кинестетические и пространственные параметры общения между людьми.

Фото 1
Начало системного анализа было заложено в работах представителей психотерапевтических школ З. Фрейда и Э. Кречмера, а также в телесно-ориентированных подходах современной школы психотерапии: В. Райха, А. Лоуэна, А. Александера, М. Фельденкрайза, И. Рольф. В многочисленных исследованиях выявлена ведущая роль представлений человека о структуре своего тела, о его функциях в развитии самосознания. Так, М. Фельденкрайз продемонстрировал взаимозависимость между образом телесного «Я» и самооценкой. Он показал, что характер поведения человека может отражать механизмы компенсации воображаемой ущербности тела.
Дальнейшее развитие телесно-ориентированных теорий привело к возникновению представлений о теле как о границе «Я». Тело стали наделять качеством трехмерности и не отождествлять с образом «Я». В работах С. Фишера и С. Кливленда через понятие «границ образа тела» была показана устойчивая связь между степенью определенности образа телесного «Я» и личностными характеристиками индивида. Нарушение представлений о границах образа тела свидетельствует о слабой автономии, высоком уровне личностной защиты, неуверенности в социальных контактах. По данным С. Фишера, обнаружен значительный уровень корреляции между высокой степенью осознанности дорсальных (задних) зон тела и такими личностными свойствами, как контроль над импульсивными действиями и негативным отношением к реальности.

Фото 2

Фото 3

Фото 4
Образ телесного «Я» можно рассматривать и с позиции восприятия внешних форм тела, представленной тремя подходами:
1) тело как носитель личностных и социальных значений, в которых изучается эмоциональное отношение личности к своей внешности;
2) тело как объект, наделенный определенной формой; акцент в исследовании ставится на когнитивном компоненте его восприятия;
3) тело и его функции как носители определенного символического значения (фото 2–4).
Особое внимание заслуживают кросс-культурные исследования, позволяющие вычленить пан-культурные формы невербальных знаковых коммуникаций. К панкультурным знакам относят те невербальные формы коммуникаций, которые отражают аффективное отреагирование. В то же время невербальные действия, несущие символическое, иллюстрирующее и регулирующее значение, выступают как культурно опосредованные. В данных исследованиях обнаружена интеркорреляционная зависимость между способностью к передаче жестов в пантомимическом действии и способностью к символической активности (фото 5).

Фото 5
Наиболее полное описание подходов к анализу семантического пространства невербального поведения в США в 40 – 70-е годы прошлого столетия, приводится в работах А. Меграбяна (Меграбян, 2001). Особое внимание в семантически-ориентированных исследованиях уделяется вопросу изучения мимических и голосовых проявлений человека, находящегося в состоянии аффекта. Анализ наблюдений строится на основе описания факторов трехмерной структуры: оценки (позитивности), силы (статуса) и реактивности. Так, по мнению большинства исследователей, невербальное сообщение передается посредством мимических и голосовых знаков и с помощью некоторых поз и положений: естественная расслабленность тела может демонстрировать степень уверенности субъекта; его скрытая активность отражает степень реактивности человека по отношению к объекту общения.
Невербальное общение есть непосредственное выражение человеком своих смысловых установок, в то время как речевой акт передает прежде всего значения, то есть невербальное поведение выступает как форма передачи личностных смыслов, отражающих симультанную природу невербальной коммуникации в противовес сукцессивному, дискретному характеру речевых высказываний. «Динамические смысловые системы», по мнению Л. С. Выготского, представляющие собой единство аффективных и интеллектуальных процессов, не могут быть переведены на язык внешней речи.
Нам наиболее близки позиции М. З. Воробьева, Л. П. Киященко, Е. Т. Соколовой, которые рассматривают образ телесного «Я» как психическое образование, включающее в себя «явления сознания»: традиции, предрассудки, планы, желания, потребности и т. п. Отмечается взаимозависимость культуры тела и культуры мысли; в их единстве, «образующем целостность», доказывается доминанта психического по отношению к соматическому, которая опосредована культурой социума. В исследованиях образа физического «Я» прослеживается взаимосвязь и взаимовлияние аффективных и когнитивных процессов, их роль в становлении личности. Опираясь на исследования зарубежных психологов, в том числе П. Федерна, Дж. Чанлипа, Д. Беннета, Р. Шонса, Г. Хэда, С. Фишера и др., Е. Т. Соколова выделила три направления исследований образа телесного «Я»:
1. Образ тела либо интерпретируется в контексте анализа активности определенных нейронных систем (Г. Хэд), и в данном направлении такие понятия, как «схема тела» и «образ тела», тождественны друг другу, либо эти понятия имеют самостоятельное значение (П. Федерн); «схема тела» характеризует устойчивое знание человека о своем теле, в то время как «образ тела» предстает как ситуативная психическая репрезентация собственного тела и рассматривается как результат психического отражения.
2. Представители второго подхода Дж. Чанлип, Д. Беннет полагают, что «образ тела» является результатом психического отражения. Они различают «абстрактное тело», то есть тело концептуальное, и «собственное тело», построенное на восприятии своего тела.
3. Сторонники третьего направления, в частности Р. Шонс и С. Фишер, «образ тела» рассматривают как сложное комплексное единство восприятия, установок, оценок, представлений, связанных с телесной формой и функциями. Так, Р. Шонс выделяет четыре уровня в модели образа тела: схема тела, телесное «Я», телесное представление, концепция тела. Схема тела свидетельствует о стабильности восприятия тела в пространстве. Характер оценки телесного «Я» определяет степень телесной самоидентичности. Телесное представление отражает фантазии человека о своем теле и его ассоциации. Концепция тела соединяется с рациональным мышлением и соответствует формальному знанию о теле.
Восприятие и оценка телесных форм носит эмоциональную окраску и осуществляется как на интерсубъективном, так и на интрасубъективном уровне. Первый уровень оценки связан со сравнением своих внешних данных с внешними данными других людей, второй – с переживанием удовлетворенности от восприятия форм и качеств своей телесной самости, которая отражает степень соответствия внешних данных требованиям, предъявляемым себе личностью. При этом следует различать восприятие «внешнего» тела, соотносимое с социальной оценкой его индивидуумом, и восприятие «внутренней стороны» тела, которая осознаваема личностью, но не познаваема другими, то есть социально не рефлексируема, «хотя ее восприятие и оказывает весьма значимое влияние на социально-очевидное и социально-значимое поведение индивида» (Быховская, 2000, с. 153). Таким образом, можно вычленить два типа восприятия-отношения субъекта к своему образу телесного «Я»:
1) образ телесного «Я» по отношению к другим в сопоставлении с нормами и требованиями социального окружения;
2) образ телесного «Я» по отношению к своему восприятию и пониманию смысла своего существования независимо от выносимых оценок и суждений других.
Как в первом, так и во втором случае личностная оценка образа своей телесности не может быть неэмоциональной. По мнению Е. Т. Соколовой (Соколова, 1989, с. 51), «аффективный компонент образа внешности характеризует эмоционально-ценностное отношение ко внешнему облику и складывается из совокупности эмоционально-ценностных отношений к отдельным телесным качествам. Каждое такое отношение образовано двумя параметрами: эмоциональной оценкой качества и его субъективной значимостью».
Значимость для сознания образа телесного «Я», безусловно, детерминирована филогенетически закрепленными биологическими законами воспроизведения себе подобного и сложившимися в процессе онтогенеза личности социально нормированными представлениями о половой ориентации. Именно поэтому демонстративность поведения молодых людей зачастую выступает как отражение их телесной идентификации, как стремление к бессознательному удовлетворению своего биологического предназначения. По-видимому, столкновение в сознании двух разнополярных систем оценок образа телесного «Я» (для себя и для других) является одной из главных причин развития личностной тревожности и, как следствие этого, ориентации подростков и юношей на акцентуированный характер поведения в обществе.
Исследования природы и типов акцентуаций получили свое развитие в работах как отечественных, так и зарубежных ученых: А. Д. Глоточкина; К. Леонгарда; А. Е. Личко; Н. Н. Толстых и др. К акцентуированным психопатическим чертам характера относят те личностные качества, которые удовлетворяют описанию трех критериев: тотальности проявления – повсеместности и вневременности; относительной стабильности характера; социальной дезадаптации. Все эти признаки характера, по мнению А. Е. Личко, можно наблюдать в подростковом и юношеском возрасте у психотических индивидуумов. Однако при акцентуациях характера может не быть ни одного из этих признаков, а порой нельзя наблюдать присутствие всех этих трех признаков сразу у «здорового» акцентуированного индивидуума. «Акцентуации характера – это крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психогенных воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим» (Личко, 2000, с. 63). В то же время исследования интеркорреляционных связей между степенью удовлетворенности индивидуума образом своего телесного «Я» и его индивидуально-личностными характеристиками показали прямую зависимость характера акцентуаций от уровня личностной тревожности, уровня депрессии и успешности самореализации. Таким образом, через изменение отношения личности к образу своего телесного «Я» возможно трансформировать его отношение и к характеру восприятия образа себя в целом, и к стратегиям и формам своего поведения в социальном окружении.
Роль и значение образа телесного «Я» у индивидуумов в социокультурном срезе необходимо рассматривать в контексте социально-психологического развития и социальной адаптации личности. Анализ социально-психологической литературы по этому вопросу показал ограниченность экспериментальных исследований по выявлению связи между уровнем зрелости представлений индивидуума о своем образе телесного «Я» и характером его личностной и социальной идентификации, коммуникативных и адаптационных возможностей. В ведущих теориях формирования идентичности роль образа телесного «Я» в самосознании личности исключительно биологизируется (А. Адлер, П. Бергер, Р. Бернс, А. Лоуэн, Т. Лукман). С одной стороны, указывается на организмические предпосылки социального конструирования реальности в сознании, с другой – подчеркивается существование диалектического противостояния двух составляющих сущностей человека: «индивидуального биологического субстрата» и «социально произведенной идентичности». При этом диалектика развития личности проявляется в форме преодоления сопротивления биологического начала процессу ее социального формирования.
Большинство авторов, исследующих психотические нарушения в восприятии образа телесного «Я», отмечают усиленное внимание декомпенсированной личности к своему телу, к анализу своего физического образа, недостатки которого могут вызвать состояние фрустрации, тревоги, социальной дезадаптации (синдром дисморфофобии). Переживание физической неполноценности затрудняет общение, препятствует адаптации индивидуума в социальной жизни. По мнению К. Клейст, искажение образа телесного «Я» сопровождается снижением «чувства Я», приводит к деперсонализации. Нам созвучна позиция А. А. Меграбяна, согласно которой сознание собственного тела является синтезом самовосприятий и служит механизмом отделения «Я» от внешнего мира; нарушение этого механизма может привести к деперсонализации с потерей чувства «Я».
Анализ представленных концептуальных моделей роли и места образа телесного «Я» в самосознании позволяет говорить о недостаточной продуктивности существующих подходов при исследовании феноменологии телесных проявлений. Такие понятия, как «схема тела», «телесное Я», «телесное представление», «концепция тела», отражающие философский аспект социально-психологического подхода, характеризуют восприятие субъектом своего образа «биологического тела», его морфологических, динамических качественных показателей и свойств. За пределами внимания исследователей при таком подходе остается образ «феноменологического тела», отражающий влияние на личность всего спектра историко-культурных, социальных, психологических, личностных факторов. Содержание образа «феноменологического тела» может быть раскрыто посредством исследования таких характерологических качеств-признаков невербального действия, как сенситивность, чувственность, осознанность, эстетичность, вызревающих в конкретных социально-психологических условиях. Развитие у человека представлений об образе «феноменологического тела» позволяет снять проблему оценки восприятия своей «схемы тела»; актуальное значение для индивидуума теперь уже обретает не восприятие формы, а переживание содержания телесного действия. В гармоничном развитии образа двух тел, в их синергичном слиянии мы видим возможность гармонизации образа телесного «Я» (см. рисунок 1).

Рис. 1. Стратегии развития образа телесного «Я»