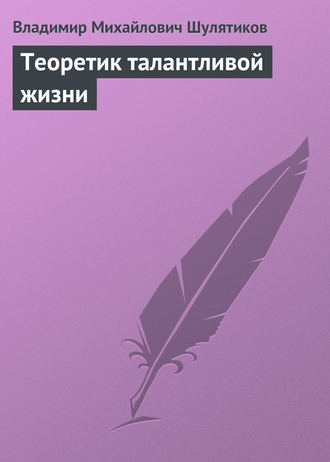
Владимир Михайлович Шулятиков
Теоретик талантливой жизни
Торжество «слабых», торжество «нормальных», торжество посредственности, торжество ничтожества – вот что бытописатель «хмурого царства» должен был признать самою невыносимой, самою дикою нелепостью из числа тех, какими в его глазах изобилует жизнь. Подобную нелепость он на каждом шагу оттенял наиболее яркими, наиболее выразительными штрихами своей художественной кисти. Подобная нелепость получила для него значение непреложного закона жизни.
Закон этот находит себе реалистическое объяснение; в переводе на язык групповых соотношений он выражает следующее: общественный агломерат, интересы которого защищает наш автор, хозяином исторической сцены почитаться не может; судьбы исторического развития в руках иных общественных сил. Лопахин и Орлов – представители последних. Обрисовать Лопахина и Орлова как людей сильных духом, обладающих сколько-нибудь цельной душевной организацией значило бы для художника интеллигентного пролетариата изменить самому себе, впасть в крупное противоречие с усвоенным им миросозерцанием.
К каждой человеческой личности Чехов, – повторяем, – подходит со своим «сверхклассовым» критерием: он, прежде всего, спрашивает, насколько данная личность удовлетворяет известным психологическим требованиям. Требуемые психические качества оказываются профессиональными качествами общественной группы, к которой принадлежит сам художник, являются для названной группы главнейшим орудием в борьбе за жизнь. Имея перед собой представителей иных общественных групп, притом групп, стремящихся так или иначе заправлять ходом исторического движения, и производя над представителями этих групп требуемую оценку, идеолог профессиональной интеллигенции должен руководиться императивом групповой логики: сознание различия в средствах, какими располагают отдельные общественные тела, отстаивая свое существование, составляет необходимый момент группового самочувствия. Подчеркнуть это различие, то есть, в данном случае, охарактеризовать своих антагонистов как людей, лишенных известных психических качеств, – прямая обязанность художника интеллигентного пролетариата. Напротив, приписать представителям иных общественных групп «душевную силу» значит для означенного идеолога поставить этих представителей на одну доску с собою.
Итак, рисуя Гамлета-Лопахина и «падшего ангела» – Орлова, Чехов руководился «групповыми» соображениями. Можно было бы остановиться на ряде аналогичных случаев из его писательской практики. Загляните, например, под кровлю семейного очага купцов Лищевых («Три года»), фабрикантов Ляшковых («Случай из практики») или Анны Акимовны («Бабье царство»), кулаков Цыбукиных («В овраге»)[11] или Тереховых («Убийство»). Перед вами целые вереницы обитателей буржуазного мира, и вы знакомитесь с ними в те моменты, когда им приходится испытывать приступы внутреннего маразма, когда, так или иначе, изобличаются их душевные «слабости», своеобразный «гамлетизм». Все поименованные примеры поучительны, но мы не будем разбирать, к каким художественным приемам прибегает автор в каждом отдельном случае, желая иллюстрировать положение, продиктованное ему гением интеллигентного пролетариата.
Гений интеллигентного пролетариата – недобрый гений. Повинуясь его внушениям, художник одной рукой, – и притом весьма своеобразно, – подчеркивает несходство групповых интересов, а другою рукой… затушевывает это несходство. Избирая верховным критерием критерий психологического порядка, он тем самым открывает путь к произвольным сопоставлениям различных общественных типов. «Неизвестный человек» ставит Орлову следующий вопрос: «Отчего мы утомились? Отчего мы, в начале такие страстные, смелые, благородные, верующие, к тридцати – тридцати пяти годам становимся уже полными банкротами? Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвение в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости? Отчего мы, упавши раз, уже не стараемся подняться и, потерявши одно, не ищем другого? Отчего?» В разбор вопроса по существу мы входить не будем; нам важно, в данном случае, только это «мы». Себя и Орлова «неизвестный человек» объявляет детьми одной и той же общественной среды. Разницу между собою и своим антагонистом он видит в формах постигшего их падения: сам «неизвестный человек» гаснет в чахотке, человеком, «цинически топчущим ногами портрет своей молодости», является Орлов. Но оба они, по представлению «неизвестного человека», слеплены из одного теста: зародыши надлежащего психического развития в них одинаково были вложены, дарами чистой, прекрасной молодости они одинаково обладали; не будь каких-то необъяснимых «проклятых причин», они одинаково оказались бы «настоящими людьми», неутомимыми носителями прогрессивных начал, шли бы по общей дороге. Но, увы, они, родственные души, пали; падая, получили ушибы и поражения разного типа и лечатся от названных ушибов и поражений разными средствами: в этом вся беда. «Мы», «общество» – выдвигается пресловутая формула, имеющая неопределенную ценность, позволяющая набросить романтическое покрывало на некоторые стороны общественных отношений.







