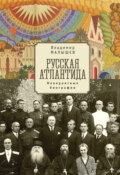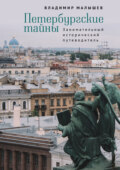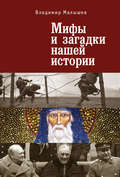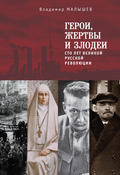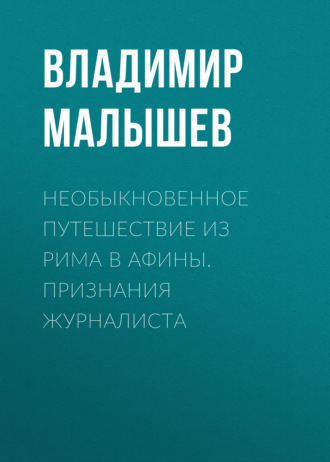
Владимир Малышев
Необыкновенное путешествие из Рима в Афины. Признания журналиста
«Нам не дано предугадать…»
Впрочем, я слишком отвлекся на африканские воспоминания. На отделении истории Ирана Восточного факультета ЛГУ мы учили сразу четыре иностранных языка. Первым был, разумеется, персидский, второй – арабский, третий – английский, а со второго курса нам добавили еще и афганский. Знать афганский в те годы! Буквально накануне введения нашего «ограниченного контингента» в Афганистан и начала долгой и кровопролитной войны. А военно-учетная специальность на военной кафедре у меня была такая, что если бы я оказался в «Афгане», то сразу бы попал туда, откуда мало кто вернулся живым. Но, видно, не судьба была…
Да и кто в те беззаботные годы «застоя» знал, что всего через несколько лет советский спецназ будет штурмовать дворец Амина, начнется война, об ужасах которой, нам, простым советским людям, станет известно лишь после того, как она закончится? Кто знал, что еще через несколько лет нашим мальчишкам придется на танках ехать уже по Чечне? Нет, «нам не дано предугадать»…
Впрочем, некоторые предсказывали. У Брежнева числился в первых помощниках Александров-Агентов – очень влиятельный в те времена человек. Свою дочь он пристроил у нас в ТАССе, где, разумеется, она долго не засиделась, а была оперативно направлена, конечно же, не на «стройку коммунизма» в Сибирь, а редактором отделения ТАСС в Италию. Когда я очутился в Риме его заведующим, то у меня «в подчинении» в роли корреспондентов оказались: уже упомянутая дочь первого помощника генсека, сын зампреда КГБ и сын известного московского академика. Как я, скромный приезжий из Питера (а в те времена это вовсе не было преимуществом), без «руки» и вообще без влиятельных родственников в Москве мог очутиться во главе такой солидной компании знатных отпрысков советского истеблишмента? Сам до сих пор не понимаю, как такое могло случиться. Впрочем, а ведь надо было же кому-то работать, «тянуть воз»…
Но я это к тому, что упомянутая дочка помощника генсека в минуту откровенности поведала, ссылаясь на своего папу, как тот предсказывал в узком кругу: «Вот некоторые сейчас критикуют: мол, застой, старики в Политбюро и т. п. Но погодите, товарищи! Придет время, и вы еще пожалеете об этих спокойных временах!» Кое-кто, конечно, до сих пор жалеет…
На втором году учебы на Восточном, я перешел сразу на второй курс Филологического факультета, на итальянское отделение. И только благодаря этому выбору мой жизненный путь привел меня не в пылающий войной Афганистан, а совсем в другие страны. А перевелся я потому, что еще до того, как я захотел стать историком, мечтал стать кинорежиссером. Даже тайком пытался поступить во ВГИК. Тайком, потому что потихоньку, никому ничего не говоря, послал документы в Москву на творческий конкурс. То есть, свалял еще большего дурака, и, разумеется, получил вполне законный «отлуп».
Впрочем, меня несколько извиняет тот факт, что я тогда не знал, что поступить на элитный, режиссерский факультет в те годы мог только сын знаменитого автора гимна СССР или, в крайнем случае, кто-нибудь, приехавший с Алтая, кого брали в рамках, так сказать, рабоче-крестьянской разнарядки. Да и что я знал тогда, мальчишка с Васильевского острова, который в детстве занимался с приятелями тем, что таскал патроны у солдат на стрельбище и делал из них «бомбы»? Патрон раскрывался, порох из него пересыпался в металлическую шайбу, которая сверху завинчивалась болтом. Потом эта «бомба» бросалась из окна во двор или в пролет лестницы, где с ужасным грохотом взрывалась. Бомбометатели-балбесы, мы с восторгом наблюдали из какого-нибудь укромного уголка за паникой, которую вызывал наш очередной «теракт». Впрочем, тогда никто таких слов еще и не знал.
Популярными у нас были и были прыжки на полном ходу с трамваев, у которых тогда не было автоматически закрывающихся дверей. Прыжок мог оказаться удачным, а можно было и остаться без ног.
Другим любимым развлечением ленинградских мальчишек тех лет были путешествия по крышам сараев. Газ в квартиры еще не провели, и все питерские дворы загромождали разнокалиберные дровяные сараи. Прыгать с крыши на крышу – был наш любимый спорт, потому что никаких спортивных площадок нигде во дворах, конечно, не было. Но и опасный, разумеется. Иногда можно было ободраться до крови гвоздями, или свалиться вниз и свернуть себе шею.
Зимой, в любой мороз, мы шли с братом в наш сарай – у каждой семьи во дворе был свой – и пилили там при тусклом огне свечки дрова, которыми потом топили печь и кухонную плиту. В те годы Васильевский остров, где я провел школьные и студенческие годы, считался самым хулиганским в Питере районом. «И каждый вечер в час назначенный» из подворотен выходили вовсе не томные блоковские барышни, а бледные личности в брюках клеш и низко надвинутых на глаза, модных тогда мохнатых кепках-лондонках. Из темных переулков доносился громкий разбойничий свист и чьи-то жалобные крики: «Караул, грабят!». Возвращаться домой из школы, – а зимой в Питере темнеет рано, – надо было дворами, далеко стороной обходя эти опасные шайки.
Отец мой, морской офицер, всю войну провоевал на Балтике. До сих пор у меня сохранилась его фотография: бледный после ранения молодой капитан в черном кителе с орденом «Отечественной войны». Рядом – кудрявая совсем еще молодая девушка с модной тогда прической «а ля Нина Дурбин» – моя мать, которая во время войны работала в строительном батальоне – копала под окруженным Ленинградом противотанковые рвы и строила под немецкими бомбами «Дорогу жизни» через Ладожское озеро. За эти подвиги ее наградили медалью «За оборону Ленинграда». Что, впрочем, потом оказалось недостаточным, чтобы получать ветеранскую пенсию.
А где ваши военные документы? – строго спросили ее, как она потом мне рассказывала, в собесе.
Да вот, медалька «За оборону» есть… – робко ответила моя мать.
Медаль – это не документ! – решительно возразили вершители судеб питерских стариков и отправили ее восвояси.
Документы ее стройбата, конечно, не сохранились. Какие там документы! Когда мать с отцом вернулись после снятия блокады в нашу квартиру на 15-й линии Васильевского острова, то она оказалась пуста. Чтобы спастись от холода, соседи не только сожгли все книги и мебель, но даже доски от паркета. В дни помпезных празднований 300-летия Петербурга многие забыли, что в нем творилось в годы блокады. Мать рассказывала, что когда утром выходила из дома, то иногда трудно было открыть парадную: в ней стоймя стояли, плотно прижавшись друг к другу, окоченевшие покойники. При артобстреле люди не успевали добежать до убежищ и прятались в парадных, там их и убивали осколки. А трупы умерших от голода лежали в сугробах вдоль тротуаров, их долго никто не убирал. Когда я приезжаю в Питер и вхожу в свой дом, то всегда щупаю руками эту толстую дубовую дверь парадной, окрашенную уже в советские времена коричневой шаровой краской. Ведь она – сама история! Сколько всего видела! Дом был построен в 1913 году, о чем свидетельствует надпись, выложенная кафельной плиткой на фасаде, каким-то старательным немецким купцом.
А еще меня поразил рассказ матери о том, как их стройбат попал однажды под обстрел возле кладбища на окраине Ленинграда. Бомбы попали в могилы, и скрючившихся на земле девчонок в солдатских шинелях завалило сверху гробами и разорванными на части истлевшими покойниками. Так эти вчерашние школьницы и пролежали вместе с ними на обледенелой земле всю ночь. Натерпелись страху. А может, им приходили в голову и мысли вполне философские. Ведь «под каждой гробовой доской…» и т. д.
Какую же награду получили мои родители после этой ужасной войны? Нет, никто, слава Богу, не пострадал от репрессий, никого не посадили. Но отец был тяжело ранен и потом долго болел. Двое его братьев, мои дяди, умерли сразу после войны. Один был контужен в голову, пришел с фронта живым, стал играть в футбол – он был заядлым игроком, – мяч попал в раненую голову. Он пришел домой, лег и умер. Дедушки и бабушки и со стороны матери, и со стороны отца – все погибли в блокаду. Да, что я вам рассказываю! Обычная судьба, обычной питерской семьи…
Отец после войны стал пить, потом заболел, попал в больницу и тоже умер. «И чего пьют эти русские!? – брезгливо удивляются на Западе. – Что это за странный народ пьяниц и ленивых мечтателей-Обломовых?» А на долю какого другого народа в Европе выпали за минувший век такие страшные испытания, как на долю русского народа? К тому же нынешнее, страшное и повальное пьянство, никакая не «историческая традиция», а – коммунистический «подарок» России.
Пили, конечно, и при царе и крепко пили. Но нисколько не больше, а даже еще и меньше, чем другие «просвещенные народы» Европы. Царская Россия была только на 14 месте в мире по потреблению крепких спиртных напитков. А знаменитая фраза князя Игоря – «веселие Руси есть нити», вовсе не имеет того комического смысла, который ей приписывали, что выпивохи, мол, русские. Как отмечал великий историк Лев Гумилев, это был древний воинский обряд, ритуал совместного питья вина вместе с дружиной, который объединял и от которого князь Игорь не мог отказаться. А настоящее, страшное, повальное пьянство, разрушающее семьи и уродующее жизни, началось уже в советские времена. Началось от отчаяния и безнадежности. Поколение же моего отца споили на фронте. Выдавали перед атаками спирт. А вот в царской армии во время войны 1914 года и вообще во всей России в то время был «сухой закон»!
Мать одна поднимала нас с братом, дала нам возможность окончить школу, а потом и университет. Крутилась, как могла. Работала продавщицей в магазине, потом шила ботинки на обувной фабрике. Помню, самым большим лакомством в те годы у нас дома был кусок булки, обсыпанный сверху сахаром. Однако, нет, не голодали, были – спасибо партии и правительству! – сыты. Были даже сравнительно неплохо одеты. Мать перелицовывала старые «трофейные» отцовские пальто и пиджаки, привезенные из Германии, где отец служил некоторое время уже после окончания войны. По специальности, он был горный инженер, работал в ГДР и возле Карловых Вар в тогдашней Чехословакии, где располагались секретные урановые рудники. Только в страшном сне могло присниться, что в начале 1990-х годов (ведь и никакой большой войны не было!) мой брат, инженер-химик, который к тому времени уже станет инвалидом (работал в институте с радиоактивными препаратами), станет собирать на улицах «собчаковского» Петербурга пустые бутылки, чтобы не умереть с голоду!
Так о чем это я? Ах, да, о кинематографе. Это были годы, когда все сходили с ума от итальянского кино. Увидеть на каком-нибудь просмотре затертую копию фильма «Евангелия от Матфея» Пазолини или «Ночей Кабирии» Феллини – было пределом мечтаний. Разве знал я тогда, что потом в Риме сам встречусь с Феллини? Фотография с подписью этого великого режиссера до сих пор стоит на моем столе…
А для того, чтобы изучать итальянское кино, как я мечтал, надо было знать итальянский язык. За два месяца я прошел всю программу первого года обучения на итальянском отделении и был зачислен сразу на второй курс. Кино я тогда так и не стал заниматься. Когда окончил университет, мне выдали свободный диплом, распределения не проводилось вообще. Это было редкостью в те времена, когда всех распределяли на работу в принудительном порядке. Я же оказался предоставлен сам себе.
Свобода… «Свобода, бля, свобода, бля, свобода!», – как рычал потом с эстрады один популярный бард. Распределения, как я уже говорил, не было. Работу пришлось искать самому. Но как было найти ее в Ленинграде, без связей, с дипломом, где было написано: «преподаватель итальянского языка, учитель французского»? В лучшем случае можно было устроиться в «Интурист» и носить чемоданы за пьяными финнами или терпеливо объяснять заезжим итальянским коммунистам, почему они заблуждаются со своим «еврокоммунизмом».
Впрочем, шанс – раз! и сразу – в благополучные «дамки» у меня все-таки был. Когда я уже заканчивал университет, меня вызвали «на собеседование». В номере одной из известных ленинградских гостиниц сидели человек пять очень серьезных мужчин в темных костюмах. Они долго и внимательно оглядывали с ног до головы стоящего перед ними высокого и тощего юношу в очках, а потом один из них строго спросил: «Хотите на работу к нам?»
• Куда это «к вам»? – глупо переспросил я, хотя, конечно, догадывался, кто и зачем вызвал меня на собеседование.
• В органы! – лаконично уточнил строгий дядя.
Но что я мог им ответить? Помню, пробормотал нечто невразумительное. Мол, мечтаю о том, чтобы писать, заниматься кино и какую-то ерунду в этом же духе.
– Литературный труд? Это – тяжелый хлеб! – резонно заметил один из них. Покачал головой и тяжело вздохнул, как бы давая понять, какую глупость я делаю, отказываясь от столь заманчивой перспективы. А что такая перспектива, может, и в самом деле оказаться очень и очень заманчивой показало время. Достаточно вспомнить о невероятной карьере одного другого, известного всему миру выпускника Ленинградского университета. Да не только его одного…
Круто я попал!
Заботы по трудоустройству привели меня, в конце концов, в Москву, в ТАСС. Один московский знакомый, с которым мы подружились в Сомали, уже работал там и даже был секретарем комсомольской организации. По тем временам это значило немало. Узнав, что я маюсь без работы, он обещал помочь: «Кажется, – со значением сказал он, – нам нужны специалисты с итальянским». И добавил: «Уточню в кадрах…». Через некоторое время приятель действительно позвонил и все также коротко сказал: «Давай, старик, приезжай!».
Так я оказался в одном из самых привилегированных тогда в СССР мест – Телеграфном агентстве Советского Союза. Там, в Главной редакции иностранной информации и в самом деле нужен был редактор со знанием итальянского языка. «Круто я попал!», – как сказали бы теперь.
Опущу подробности переезда в Москву, который оказался совсем не легким. Я уже был женат и вариант «московской невесты», на что мне сразу и довольно прозрачно намекнул строгий начальник Управления кадров ТАСС Степан Матвеевич Герман, бывший офицер СМЕРШа, не проходил. Пришлось разменивать ленинградскую квартиру жены. В результате я оказался в крохотной комнатушке огромной коммуналки, но зато в самом центре столицы.
«Москва моя-я-я! Ты самая любимая-я-я!». Хорошо помню свой первый день в качестве столичного жителя. Я вошел поздно вечером в пустую комнату прямо с поезда «Ленинград-Москва» с легчайшим чемоданчиком в руке. По дороге в холодном плацкартном вагоне простудился, и голова раскалывалась от жара. Полученная в результате сложного обмена, комната была совершенно пуста. Пол толстым слоем покрывала пыль, на которой сохранились прямоугольные отпечатки мебели, вывезенной ее прежними обитателями – пожилыми супругами Брейтер, переехавшими в Ленинград. Соседка, пожалев новоявленного москвича, выдала мне раскладушку и старое одеяло. Так началась моя жизнь в столице нашей Родины Москве.
Первой покупкой стал шикарный пружинный матрас, на который я копил несколько месяцев. Потом приобрел в хозяйственном магазине четыре массивные пластмассовые банки, поставил на них матрас, и, в результате, получилась не менее шикарная кровать. После узкой и неудобной раскладушки она показалась мне царским ложе. Стол нашел на лестничной площадке, его хотели выбросить соседи, но я их уговорил отдать его мне. Потом приехала из Ленинграда жена и повесила в комнате занавески. После этого комната уже совсем стала похожа на обычное, «благоустроенное», как говорили в те времена, жилище советского гражданина.
Мне всегда было смешно читать описания Достоевским жизни нищего студента Раскольникова, который – ах, бедный! – ютился в двухкомнатной каморке, и щи ему готовила кухарка. Великий «инженер человеческих душ» времен царской России и представить себе не мог, какую жизнь устроят потом для обитателей его страны коммунисты. Причем, не где-нибудь на Колыме, а в самом центре Москвы и даже много лет спустя после окончания разрушительной войны.
Но мне еще повезло. В коммунальной квартире, где я поселился, было всего четыре комнаты, и, в каждой – всего по одному жильцу. Такая квартира называлась «малонаселенной». Под потолком громадной прихожей тускло мерцала электрическая лампочка, как бы напоминая, что именно русский инженер Яблочков был ее изобретателем, а углы тонули в вечной темноте, свидетельствуя, в свою очередь, что это великое изобретение было сделано все-таки во времена Достоевского.
На кухне у каждого жильца имелся отдельный столик для «готовки» с куском старенькой клеенки. Покрытая несмываемым слоем жира газовая плита была одна на всех. Зато у каждого – своя собственная конфорка. Над водопроводным краном на ржавом гвоздике красовался мятый листок бумаги: «Расписание дежурств по кухне». Когда и кому мыть полы, и убирать места общего пользования, то бишь, ванную и сортир.
Квартиру, наверное, никогда после Великой Октябрьской социалистической революции, как следует, не мыли, и потому в ней стоял ничем неистребимый запах какой-то гнили. А ведь жил-то я тогда в самом теперь престижном месте Москвы – в Трехпрудном переулке! Трехпрудный переулок, дом 11/13. Чтобы теперь купить квартиру в этом доме надо платить миллионы долларов!
В переулок сходи Трехпрудный,
Если помнишь мои стихи…
Писала когда-то Марина Цветаева. Ее дом тоже стоял в этом месте. Кажется, на том, где потом построили какое-то японское представительство. Я тогда, конечно, не догадывался, в каком заповедном уголке оказался и потому, как только появилась возможность, купил в ТАССе кооперативную квартиру и с восторгом покинул коммуналку в Трехпрудном переулке. О чем сейчас, разумеется, жалею…
В ТАССе моя зарплата составляла поначалу 120 рублей. Этого еле-еле хватало только на питание, поскольку большую ее часть мне приходилось отсылать жене в Ленинград. Обычно я покупал в магазине пачку риса и пакет молока и по воскресеньям варил рисовый суп. В будние дни обедал в ТАССе, где была дешевая и очень неплохая по советским стандартам столовая (биточки неизвестно из чего и компот из сухофруктов в мокрых стаканах!).
Кстати, я ничего не писал про шкаф. Какая же комната без шкафа? Но он мне был не нужен. Из гардероба у меня имелись всего лишь один пиджак и одна пара брюк. Пиджак был такой старый, что бахрому на рукавах приходилось для приличия время от времени обрезать ножницами.
Когда я в первый раз с трепетом вошел в Редакцию стран Западной Европы Главной редакции иностранной информации, где начал работать в должности младшего редактора, то меня поразили роскошные заграничные костюмы сотрудников, уже успевших побывать за рубежом. Заведующий редакцией Николай Демьянович Туркатенко, теперь уже, к сожалению, покойный, только что вернулся из Лондона. На нем был темно-зеленый пиджак английского твида, а в руке дымилась настоящая английская трубка (в те времена в офисах еще можно было курить). А аромат от заграничного табака был – обалдеть! Пиджак Николай Демьянович всегда снимал и работал в редакции в подтяжках, что тоже выглядело вполне по-заграничному. Совсем, как знаменитый американский телекомментатор Ларри Кинг, о котором я тогда еще ничего не знал.
Вскоре я заметил, какой сильный отпечаток накладывает страна на человека, долго в ней прожившего. Туркатенко, много лет проработавший в Англии, выглядел как истинно британский джентльмен. Говорят, что его хорошо воспитанный сын, когда они вернулись из Лондона в Москву, входил в автобус и вежливо здоровался: «Доброе утро, джентльмены!» Представляете, какие физиономии были при этом у хмурых с утра «джентльменов» в переполненном московском автобусе времен зрелого застоя?
Другой тассовец, Володя Байдашин, долгое время работал в Индии. Конечно, что как уроженец Москвы, он не имел ни с Индией, ни с индусами ничего общего. Однако когда вернулся домой после многих лет работы в Дели, то при взгляде на него так и хотелось воскликнуть, как патриотично кричали в одном советско-индийском фильме: «Хинди – руси, бхай-бхай!» Глазки у него сузились, лицо пополнело: вылитый индус, да и только! Словом, влияет среда обитания на человека, еще как влияет!
Конечно, я тогда и не догадывался, что пройдет всего несколько лет, я побываю в Риме, вернусь оттуда в модном итальянском пиджаке в талию, а потом, еще несколько лет спустя, и сам сяду на место Туркатенко за стол заведующего Редакцией стран Западной Европы…