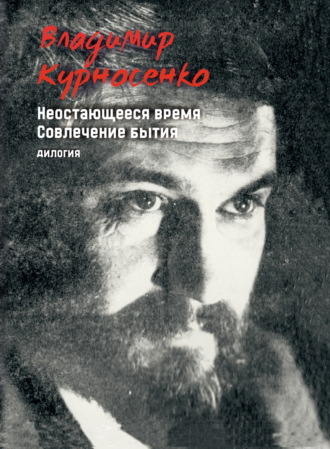
Владимир Курносенко
Неостающееся время. Совлечение бытия
К 75-летию со дня рождения
Владимир Курносенко
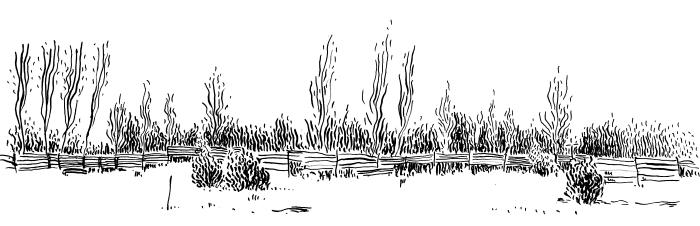
© В.В. Приймак, 2022
© Н.В. Литварь, 2017
© Издательство «БОС», 2022
Максим Замшев,
российский поэт и прозаик, публицист, главный редактор «Литературной газеты»

Проза Курносенко очень манкая. С первых страниц читатель попадает в своеобразную воронку, из которой выбраться лучше всего к концу повествования. Открывает книгу изумительно размашистая автобиографическая повесть «Неостающееся время». Это семь небольших рассказов, в каждый из которых вложен, расцвечен, красиво вынут из общей жизненной канвы автора какой-то эпизод. Сразу бросается в глаза, что Курносенко много ищет на уровне языка, стилистики, вводит диалектизмы, слова характерные и малоупотребительные. И все с большим вкусом, изящно, без вычурности и манерности. Это придает тексту большую договоренность, коррелируется с щемящим тоном названия, подергивает светлой грустью зрелости.
Продолжает книгу роман «Совлечение бытия», составляющий по замыслу автора с «Неостающимся временем» дилогию. Хотя сказать, что этот роман – сюжетное продолжение повести, конечно же, нельзя. В нем так же колоритен и метафоричен язык: «Время двигалось внутри себя трудно, точно неочищенное растительное масло». Но сюжет значительно более разветвлен, романно расставлен персонажами и обстоятельствами, а композиция подчеркнуто полифонична, содержит несколько фабульных объемных пластов. Этот объем создает не только разнообразие смыслов и линий, но и большое количество отсылок к другим текстам, если угодно, текст все время подогревается на очагах мировой культуры и за счет этого наращивает от страницы к странице безусловную художественность. В итоге описание путешествий одной судьбы вырастает до философской притчи, где суть существования, его сакральный смысл важнее сценарных перипетий. Еванге-листичность финала романа воспринимается куда сильнее, чем воспринималась бы самая лихая и изобретательная событийная развязка.
Неостающееся время
Ювенильная сюита в семи рассказах
В Аверн спуститься нетрудно…
Вспять шаги обратить… —
Вот что труднее всего!
Вергилий. Энеида

«Разметался пожар голубой…»
…чтобы не погибли они и с тебя не были взысканы души их…
Преп. Исаак Сирин
У нас был 9 «б», а у них «а», и потом соответственно «а» и «б» – десятый и одиннадцатый.
Все, как и ныне, сидели на газово-нефтяной трубе, но тогда это называли завоеваниями социализма, а сейчас, продолжая сидеть, стараются вообще не называть.
Засим, как полагается, «а» упало, «б» пропало… И… ну и…
Наш «б» был, выражаясь по-учительски, пожалуй что, посильнее их «а». Когда к середине шестидесятых школа закончилась, серебряных и золотых медалистов у нас насчиталось в полтора раза больше.
Но зато у них там, за стеною, по тайному моему проницанию, шла какая-то интереснейшая жизнь, и сквозь глухую оштукатуренную разгородку просачивалось порой ее высокое предположительно одушевление…
Наш же «сильный» класс был раздроблен на группы, которые от поры до поры, навбирав из атмосфер сряща и беса полуденного, превращались во враждующие группировки, и дружеской «мироколицы», общей среды и, тем паче, высоты отношений посему не было.
Вялотекущая, как хроническое воспаление, борьба и была, собственно, нашей коллективною жизнью.
Наверное, и у них, за стеною, все было не так просто, редька в чужих руках всегда слаще, но в ту замечательную пору я объяснял себе наше уступанье «ашникам» отсутствием лидера.
Лидер он, дескать, что-то такое знает в глубине души, он идет и зовет за собой, а все прочие, влекомые зовом, сплачиваются, сдруживаются и объединяются в атакующем порыве в единый кулак.
Что всяк человек ложь, сосуд скудельный и что надеяться на него не стоило бы, а нужно его, человека, по-человечески прощать и по-божески любить вопреки всем проявлениям, в те пятнадцать-семнадцать лет в голову мне еще не заходило и даже не заглядывало.
Причину беды, то есть притыку классной дружбе, я усматривал, повторяю, в отсутствии лидера-вождя.
У них же там, в «а», за стеною, лидеров этих было аж-ник два! Легально-формальный, мужской – бессменный секретарь общешкольной комсомольской организации Саша Трубецкой и другой лидер, другая… неформальная, Оля Грановская…
Школа считалась элитной, с английским уклоном, а с наших девятых в ней организовали еще и раннюю трудовую специализацию: желаешь – учись радиомонтажу, хочешь – приобретай профессию лаборанта-микробиолога…
Брали нас в «а» и «б» без троек в табеле и, получив аттестат, «радиомонтажники» поступали в политех, а «микробиологи» в медицинский.
Не прошедшие в аристократические «а» и «б» обучались на слесарей и водителей грузовиков в «в» и «г».
Сегодня я думаю, что получить права или стать слесарем полезнее, нежели выращивать в чашках Петри зримую только под микроскопом пакость на зловонном бульоне, но и тут тогда провиделось что-то вроде чуда, неохватимая «простым» умом поэтически-таинственная «научность».
Общеизвестно, что девочки старательнее и лучше учатся в школе. Поэтому наши «а» и «б» были на три четверти «женские», а слесарно-шоферские «в» и «г» – мужские.
В «в» учился Сеня Согрин (Фасс), герой и жертва следующего моего рассказа, а в «г» Женя Рыбаков и еще один корешок, который скоро появится в этом.
Женя Рыбаков был наш туалетный певец, а я был член клуба любителей его пения.
В большую перемену Женя небрежно опирался рукой в оконное стекло и, подстукивая себе по нему пальцами, пел что-нибудь негромко из безымянного еще Высоцкого, Киплинга или, скажем, «Полюшко-поле».
У него все получалось одинаково прекрасно.
По необходимости забегавший сюда Саша Трубецкой среди нас, немногочисленных фанатов Жениного пения, носил заочную кличку Сачок-Трубачок, потому что на городских соревнованиях по спортивному ориентированью он, сумев обминуть (обмануть) два контрольно-зачетных пункта, привел сборную нашей школы к триумфальной победе.
Сейчас Саша один из заместителей главного редактора популярнейшего в стране печатного издания, он убежденный демократ, ценитель правового поля и весьма-весьма состоятельный человек, а в те-то наши наивные шестидесятые сыну рядового секретаря райкома из полузасекреченного провинциального города, чтобы взять да вот так и поступить в МИМО[1], куда он непременно хотел, кроме всячески блестящих способностей, пятерок и английского требовалась специфически целевая характеристика.
Вот он, Саша, и старался… Всем сердцем, всей крепостью, всем холерическим темпераментом своим и тайным содержимым головы вел нас, массы, к некоей куда-то «победе».
(Меня на приеме в комсомол, приподнявшись из-за стола, где сидел обыкновенно директор, он, к примеру, спросил: «А кто такой Морис Торез?»)
Сегодня сердце Саши Трубецкого сокрушено, по-английски, привычно ему выражаясь, в доме его в шкафу запрятан скелет… жизнь, как и всех нас, не обошла его ни горем, ни едва сносимой бедой, но в ту нашу пору potentia existendi[2] он был особенный и отдельный, и его и думать не моги было застать ни среди курцов-табакуров подле поющего Рыбака, ни наипаче меж выпивающих пред танцами на школьном вечере.
Да еще очки эти. Да скрипка (альт).
Наружно Саша был без одной маленькой минуты альбинос, светло-желтовато-льняной улыбчивый живчик-протей, без притворства доброжелательный, бодрый, ясный и феноменально, на диво энергичный…
Когда нам было за сорок, он по-приятельски признался мне, что в молодые годы не понимал, когда при нем жаловались на усталость, сам по себе он попросту не ведал, что это такое: «уставать».
И ко всему прочему была у него, у Саши, не искусственная, а бог ведает откуда взявшаяся подлинная харизма, как полюбили у нас с недавнего времени говорить, – дар безусловной моральной внушительности и убежденья… еще поднесь наш школьный выпуск вспоминают по нему. A-а, дескать, выпуск Трубецкого! Знаем…
А когда однажды возбужденной студенческой компанией ввалились мы с хохотом в пустой, заканчивающий смену трамвай и вагоновожатая, не разглядев в зеркальце, как бросались в кассу деньги, остановила движение, мне пришлось быть свидетелем этой Сашиной харизмы.
– Бросайте! – объявила она через усилитель, заедаясь и еще пуще строжась от неполной уверенности. – Оплачивайте проезд или трамвай дальше не пойдет.
И вот Саша подошел вплотную к двери кабины и тихо, спокойно глядя сквозь очки в глаза вагоновожатой, сказал: «Продолжайте движение!»
И та, почему-то сразу догадавшись, что не права и ошиблась, что за билеты уплочено, а что это у нее такой «ндрав» располагающего властью человека, – подчинилась требованию; мы поехали.
И не через МИМО, а закончив сперва Мориса Тореза, потом какие-то курсы при ООН, дипломатом Саша все-таки стал, побыл им довольно долго, лет восемь, и прожил их по преимуществу в Швейцарии…
Однако из-за каких-то небрежностей, позволительных лишь сынкам серьезных людей, Саша вошел в конфликт со своим начальством, с «кураторами» и, круто сменив профессию, с их же, кажется, подачи, пошел работать в газету.
Еще в восьмидесятые-девяностые молодые ребята-журналисты суперпопулярного сего издания, перемигиваясь, звали его между собой «агент».
Вторым лидером – вожаком 9 «а», неформальным, была Оля Грановская.
Она тоже, как и Саша, была беленькая и невысокая, но только у него лен был с желтизной, а у нее, как у Белоснежки, чуть-чуть голубоватый.
Вприбавок еще эти прядки-кучерявинки на месте встречи висков и большого выпуклого лба…
Так они и летали там по 9 «а», как две капустные бабочки, две легкие белые снежинки, так и вспурживали события-вьюги…
Школа, как говорилось, была у нас центровая, престижная, и учились в ней большею частью потомки вузовских профессоров, прокуроров, партработников и кагэбэшников, то бишь дети уездной якобы элиты, но чьею дочкой была Оля Грановская, осталось для меня тайной.
Подозреваю, что кто-нибудь из инженеров, из так называемых порядочных людей, сиречь не шибко чтобы духовных, но и сберегающих худо-бедно душу в тех, что выпало по судьбе, течениях, веяниях и потоках.
Впрочем, как это также случается, могла и сама по себе… без яблони… Ибо, как сказал Иоанн Предтеча: «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму».
У одного из двух-трех лучших писателей той поры, у Юрия Казакова, папа был плотник-сантехник, а мама уборщица…
В спорте, в общественной или художественной деятельности Оля не выделялась, активной комсомолкой не слыла и тем не менее истоком и ключом всего интересного у «ашников» за стеной была, думаю, она.
Вставал однажды, к примеру, и бурно обсуждался вопрос: «Человек ест, чтобы жить, или живет, чтобы есть?»
О чем бы говорить-то вроде? Кто ж это в девятом классе не ответит…
Между тем жизнь идет, человек внедряется мало-помалу в суету мира, и, если приглядеться, тягловым двигателем у большинства делается добыча хлеба: жить, чтобы есть.
О том же, что стараться нужно не о пище тленной, но и о пище, пребывающей в жизнь вечную[3], что думать надо «о Царствии Божием и правде Его…», что жить – искать исполнения воли Божией, а не заполнять впрок телегу, поставленную с перепугу впереди лошади, – из выбравших «жить, чтобы есть», мало кто и озадачится ведь за поисково-кусочным недосугом.
…Или вот – далее про Олю – обсуждение повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики!»
Обсуждали ее в 9 «а» одни девочки, помню. Исключительно.
От знавшего Балтера литературного критика мне привелось сведать потом, лет через двадцать, как он сам, автор, понимал участие и участь своих героев в Великой Отечественной войне.
Он считал, что наведенный коммун-ересью юношеский пыл их, «досвидания-мальчиков»[4], был сродни использованному с противной стороны гитлерюгенду…
Наверное, это, про гитлерюгенд, была и у Балтера лишь одна из вырвавшихся в горький час «правд» о войне.
Но и у Оли, у затейщицы небывалого того обсуждения, была выбрана из этой балтеровской сердцем выпетой вещи, исчленена была одна не затрагивающая ничьих тонких политик заповедно-важная нить.
Героиня повести восьмиклассница, и ей, как Джульетте, нету еще и пятнадцати, и вот она смиренно без малейшей заботы о себе, отдает девичье-детскую невинность свою уходящему на фронт Ромео…
Что конкретно говорилось там, за стеною, по этому поводу, ведомо только девочкам из тогдашнего 9 «а» да, быть может, еще Духу Божьему, витавшему по-над их партами, но только мысль по-серьезному и субстанционально, так сказать, поговорить не над спущенной облоно темой, а по-живому и для живой же себя, принадлежала, я уверен, Оле.
В девятом классе пришел новый директор школы, молодой последователь известного педагога-новатора Сухомлинского.
Сухомлинский полагал, что изобличать и репрессивно выкорчевывать из детей «плохое», чтоб оно не разбухало, не надо, – надо развивать и способствовать росту «хорошего», и тогда, разрастаясь, оно самостоятельно, само по себе вытеснит помаленьку «плохое».
И вот пошли у нас всякие поддерживающие рост «хорошего» праздники.
Праздник «чести школы» (не помню, что это).
Спортивный праздник – школьные олимпийские игры.
Праздник… э… песни… Да, Праздник песни. Именно так.
Новый директор сам повел в нашем 9 «б» русский язык и литературу, и за все годы ни-шатко-ни-валкой учебы моей литература в школе начала мне потихонечку нравиться.
Эдак как-то бодро, подбористо он, неплохой волейболист, ходил туда-сюда между рядами парт наших, помахивал согнутою рукой и читал:
Я лежу, —
Палатка
в Кемпе «Нит-Гедайке»… —
без усилья попадая в ломано-неясный будто бы, а в реалии грациознейший, из черненого несгораемого серебра кованный ритм…
С Маяковским у них, у нашего директора В.А. и поэта революции, обнаружилась одна задача – уговорить себя и всех, кто соглашался слушать, что хамский, блефующий и духовно беспомощный режим, не поперхнувшись сожравший всех без исключенья детей своих, способен по глубочайшему их хотению и по щучьему велению переделаться в великодушный и понимающе-человечный.
Умри, мой стих, —
безукоризненно в интонации читал нам В. А., —
Умри, как рядовой,
Как безымянными
на штурмах
мерли
наши…
Отец его в тридцать седьмом был арестован по пятьдесят восьмой и сгинул где-то в ГУЛАГе еще до войны.
Его вырастил отцовский друг.
Сам же он, трактуя человеческое существование диалектически-марксистски, в практической жизни вел себя как прирожденный христианин – чуял в себе душу, не отдавая ее в услуженье ни мамоне, ни плоти своей, ни закамуфлированной под «ответственность» честолюбиво-гордынной самости…
И вот назначен был Праздник песни, устроенный и воплощенный всеми нами по его, В.А., педагогической идее.
Мы выехали электричкой на озеро Еловое, разместились в привезенных и тамошних, турбазовских, палатках и ранним вечером, часов эдак в пять, собрались вокруг какой-то сымпровизированной и возвышенной относительно зрителя «эстрады».
И хорами, ансамблями, трио, дуэтами и соло стали друг перед другом петь и взаимооцениваться.
Ашники под водительством альтиста Трубецкого спели про травой поросший бугорок не дождавшейся «героя мужа своего» Прасковьи.
Мы – про лежащего неживым в бурьяне дружка.
Вэшники и гэшники – еще что-то хорошее на душевные послевоенные слова Алексея Фатьянова…
Громким баритоном под аккордеон Женя Рыбаков спел про русскую бригаду, бравшую Елисейские поля, и отчего-то хуже, чем это бывало в туалете под подстукиванье, тихо.
Мы расчувствовались и «оплакивали вслед», расширяя в себе хорошее, сгинувших и погибших на войне, да только… – сдается мне с некоторых пор – «били чувством» все-таки повыше цели.
Мы сами были еще не настоящие, из голых намерений, из гуттаперчи… Бройлеры без завязи, без структурирующего онтологического центра в душе…
Мы еще, как называл это Павел Васильев, не начинали жить.
Не ведали, как опасно ходим.
Что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими.
Что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их[5].
Не помню, кто и с какой песней победил в тот раз. Кажется, что не мы.
…Но зато вечером, поздно, в зачине единственной ночи на родниково-родоновом озере Еловом (с лодки на глубине тридцать метров тогда еще было различимо дно) произошло событие, из-за которого я и затеял, собственно, все это вспоминать и рассказывать.
В первый раз у нас с «а» произошел вечер у одного костра, к сожаленью, полуформальный и совсем краткий, поскольку, вдосыть напереживавшись днем, мало кто отыскал силы задерживаться к ночи. Мало-помалу все отошли спать-почивать по давно ожидавшим их палаткам со спальниками.
Осталось в конце концов трое – мой затесавшийся не к своим кореш из 9 «г», я и… да, Оля Грановская, неформальный лидер, Белоснежка и Снежная королева из застенно-загадочного 9 «а».
Как-то раз «для смеху» прошедший от балкона до кухонной форточки по полого-узенькому бордюру на пятом этаже, но, по таинственному устройству души, никогда ни с кем не дравшийся кореш курил сигарету, я подкладывал веточки, а Оля (она была в светло-красном вигоневом свитерке под цвет костра), со светлыми куделечками у лба, Оля спела нам одну такую штуку а капелла, «орифлему»[6], я бы сказал, на слова не дозволявшегося к употребленью у нас в стране Сергея Есенина.
Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б нежной касаться руки
И волос твоих цветом в осень…
Голосок у певуньи был небольшой, не шибко-то и музыкальный, но не фальшивящий, ясный.
К тому же пела Оля с одушевлением и не на публику, не нам с корешем, а как бы самой себе или еще ближе, самому предмету послания, той женщине-музе…
И получилось хорошо. С поэзией.
Получилось – ночь, костер и вот такая девочка-снежинка, поющая изъятого у народа, у языкотворца… звонкого забулдыгу подмастерья[7].
Тут были и открытие, и риск, и какая-то неведомая еще мной красота.
Духовная, как догадался я спустя время.
Красота и радость пребывания в Духе Божием.
И я влюбился в эту девочку, в Олю Грановскую…
Не плотью-кровью, не томленьем животно-эротической тяги к наслаждению, как на беду себе «влюблялся» после в сменявшиеся «объекты», а влюбился хорошо, честно и без корысти, как любил до этого отца, маму, сестер и дедушку с бабушкой, как любил, не очень-то про это зная, поющего на большой перемене Женю Рыбакова и читавшего Маяковского В.А.
Поступь легкая, не-е-ежный стан-н… —
пела Оля, —
Если б знала ты сердцем упорным,
Как умеет любить хулиган,
Как умеет он быть покорным…
По соснам ходил, шумел поверху предрассветный озерный ветер, языки и отсветы пламени шевелились по тоненькому ее, Оли, свитерочку, а у покрытого туманом озера выстывающая трава готова уже была принять росу.
И все это единилось, нанизывалось на терпко-горькие строчки чужого, почти что предсмертного признания… Все это отныне было Оля…
Товарищ мой, дружок из 9-10-11 «г», чей отец по его просьбе брал меня пару-тройку раз на открытие охоты, закончит наш яминский политех, толкнет, выйдя на производство, несколько очевидно полезных «рацух», с одною неуловимо похожей на него женщиной смастерит двух шустреньких погодков – пацанов, да и будет себе жить-поживать, ища и наискивая примин своей сметке в тех разнообразно меняющихся условиях, в которые нам всем посчастливится вляпаться…
Но!..
Добрых два десятка лет, стоило нам увидеться, стоило посидеть-выпить, как словно ни с того ни с сего он набычивал шею, раззявливал особым своим манером рот и нутряным безмелодическим сипом выводил, «задушевно» прикрывая глаза:
Был я весь, – как запущенный сад,
Был на женщин и зелие падкий…
И не будь, не сиди ошую, не верти по-птичьи шустрой востроглазой головкой боевая подруга, он и вправду зарыдал и восплакал бы, как плачут крапленые с отмороженными зенками воры в законе о какой-нибудь куцехвостой канарейке, отбитой ими у хищника и прилетевшей «однажды зимой» благодарить юного спасителя.
Как плачут о несвершившемся и лучшем…
Что до меня, то по истечении срока я кое-как дотумкал задним числом, что той ночью на Еловом я пережил нечто наподобие малой призывающей благодати…
Мозг мой в воспоследовавшие недели-месяцы сам собою как-то задышал и расправился. И все столь ценимые вокруг внешние достижения, включая математику, сделались ему нипочем, как говорится, ни на понюх табаку…
Подобно тугоумному до встречи с ангелом отроку Варфоломею, я стал с одного вникновения-взгляда запоминать прочитанное, без напряженья заучился по всем без исключенья предметам и, что было важнее, лучше начал угадывать и жалеть несчастных, запутавшихся на мякине окружающих людей.
На какое-то время я заболел и Есениным, конечно, прочел «Погорелыдину» Клюева, разузнал, что сумел, про русский старообрядный Север в фонде ограниченного пользования в публичке…
А когда позади остались институт, три районных года по распределению, и в видах приглядеться-примериться к будущему я поступил в открытую всем желающим клиническую ординатуру, мне и повстречалась на родных улицах незабвенная наша Оля Грановская…
Стояло позднее, переспавшее какое-то лето, канун помраченья и осеннего холода, и день был влажный, моросливый, с низкою серою ватой над крышами вместо облаков.
Из-за смоговой заводской копоти листья на деревьях едва шевелились, словно устав. И мимо-то них, мимо мощных барочно-сталинских стен эмвэдэвского городка, шла не быстро и не медленно, шагала навстречу на легких своих ножках она, Оля.
Здороваться на улице бывает и нехорошо, как заявиться без приглашения в дом, либо зайти в него, не позвонив.
Узнала Оля меня, нет ли, неведомо и поныне, но она прошла, не взглянув, «не поднимая глаз», как в рубцовской песне, с тою, мне показалось, едва различимой в уголках губ усмешечкой, которой женщины скорей защищаются от моря своих бед, нежели ищут причинить их кому-то.
Она и сама была на сей раз под стать дню – потускневшая и не великолепно-победительная, как раньше, не гордая, а будто поуменыпившаяся телом за минувшие годы, с едва намеченными под кофточкой не кормившими молоком грудными железами.
Отмахав с разгону шагов пятнадцать – «Господи! Да это же Оля, она!..» – я мало-помалу опамятовался и, победив свою сковавшую по рукам и ногам застенчивость, оборотился, вернулся назад и пустился заглядывать за все близлежащие углы в переулки.
Увы! Все было напрасно.
«Отошел и где он?» – писано про подобное в одной хорошей книге.
«Если она не замужем, – лихорадочно думал я, – если не ходила, то ведь…»
Я был так сбит с панталыку, так ошарашен тою могущей быть, но не сбывшейся встречей, что долго после, десятилетиями, возвращаясь памятью, примерял к Олиной мелькнувшей тайне разнообразные ключи и отмычки…
И шли, мелькали, отстукивали за окном экспресса, мчавшегося невесть куда, дни, недели, полустанки, станции, города и годы.
Так сложилось, что после ординатуры я очутился за тыщу верст восточней Уральского хребта, в достославном и еще более крупном, чем Яминск, научно-промышленном центре, а школьный мой дружок, не читавший почти за недосугом никакой такой изящной словесности, но зато чуть не в уме щелкавший неведомые мне интегралы, прибыл туда в командировку от заводского КБ.
«Что это, – издевался он, беседуя, над тогдашними песнями и заодно беллетристикой, – «пойду и б е з а д р е с а брошу письмо?» – и куцепалые в мелких ноготках долони[8] его разводились в подчеркивающем чужую глупость недоумении.
Жилось мне в ту пору особенно как-то худо, в тайном для себя унынии, в суетных, обреченных распаду координатах, однако я, как все попавшие в чужую, косную и несущую волну, бодрился и хорохорился, изображая полное осмысление жизненной задачи.
В литературу, в прозу, я по-прежнему еще не пришел (меня не пускали), а из хирургии, боясь задумов своих и заводов, навострял помаленьку лыжи…
Приезд кореша был некстати и по иным, семейным неспоспешествующим гостеприимству обстоятельствам, но, тем не менее, мы все же выпили, посидели и поговорили…
Вспомнили, как записывались в парашютную секцию, «чтобы испытать», и как он, кореш, все-таки прыгнул, совершил свой прыжок, а мне, плохому танцору, опять что-то помешало – не хватило терпенья на все необходимые приготовленья и фильтры.
Как выбросил я в окно автобуса забытый им нечаянно вещмешок с ластами и подводным ружьем, как выкликал чрез силу и стыд его имя, не услышанное за шумом улицы…
В паническом испуге выкликал, а он шел, уходил и ушел, не оглянувшись ни на съежившийся посередь пустой дороги рюкзачок, похожий на сиротеющее животное, ни на меня, орущего в полуотворенное заднее стекло удалявшегося автотранспорта…
Вспомнили и поговорили про В. А., народного академика, директорствовавшего в подобной нашей школе в Москве… О запропавшем куда-то Жене Рыбакове…
Об отбывавших неподалеку срока декабристах, и как Иван Пущин сказал, что, будь он во время дуэли в Петербурге, Пушкин остался бы жив.
– Это почему это? – удивился кореш, поднимая на меня полудетские голубые еще глаза.
– «Пуля Дантеса встретила бы мою грудь!» – процитировал я чужое высказыванье из буквы в букву.
И гость мой нахмурился. Затуманился и в грустном восхищении выдохнул в простоте сердца:
– Ах ты, Пущин…
А под утро, в дурном предчувствии, я заглянул в «гостиную», где он спал, и обнаружил, что так оно и есть, что раскладушка пуста, а голубоглазый визитер покинул дом мой, не простившись.
«Обиделся!» – мигом проник я в подоплеку, поскольку рыльце мое было в пуху.
Раззадоренный авторской иллюзией и алкоголем, я попенял вчера, что вот никто-то из друзей-товарищей не читает, никто не соблаговолит посочувствовать в трудную минуту…
Но что это-де ничего, и ладно, сказал я, но вот Александр Блок полагал (во где пуля-то…), что не поэта избирают для развлеченья себе возлежащие по обывательским лужам «читатели», а наоборот, он, поэт, «если тока поэт», своими тоскующими по раю песнями осуществляет селекцию в человецех.
Для пущайшего проятия, по-видимому, я так и выговорил – «в человецех».
«Гым-м…» – сказал теперь я наутро, в час расплаты.
Орифлему «Разметался пожар голубой…» мы отчего-то оба не стали петь на сей раз, да и про плоды-урожаи собственной селекции я как-то тоже упустил ненароком оповестить.
Одну, только одну, зато едва не чрезмерной тяжести новость довел в приезд свой мой кореш до моего сведенья… Сказал, что ненаглядная наша певунья, Оля Грановская, что она умерла…
Что слыхал вроде бы от кого-то из своих «гэшников», от девочек, что-то такое…
– Брехня, Васьк! Грубые враки! – отмел начисто и не колеблясь чужое «сведенье» Сашок-Трубачок, прилетевший ко мне спустя год из столицы нашей еще советской родины. – Издержки глухого телефона, плохих контактов и недоразумений! Жива Гранька, – успокаивал он, – ничего с ней, красавицей, не подеялось… – И, заметив, как бледнею и краснею я на его речь, улыбнулся располагающей белозубой улыбкой. – Правда, не совсем чтобы здорова… Хы! – Он, коснувшись, пошевелил перстами у виска и беззлобно хохотнул. – Чокнулась девка трошечки, ага! В монашк… Постригл… Диве…
Из автобусного репродуктора струился поднимающий дух «прибывших авиапассажиров» «Марш энтузиастов», нас с Трубецким грубо встряхивало на некомфортных задних сиденьях, и посему не все из сообщаемого я слышал отчетливо.
– В Дивеево? В монастыре? – Сердце мое сжималось и запустевало в священном ужасе от радости. Я не хотел верить ушам своим. – А разве он открылся? Он действующий?
Громадный полуторагодовалый хладно-осклизлый камень сваливался с моей души, озадаченной Олиной «смертью», и теперь, растроганный, готовый расплакаться, я уточнял нарочно мелочи и подробности.
Густо и мужественно обросший изжелта-белой, чрезвычайно как-то ему шедшей щетиной, Трубачок был доволен, что потрафил знакомому человеку.
– В Дивеевский, точно… Да! – не вполне уверенный в непривычных терминах, он утверждающе кивал, пожимал плечом и снова и снова многократно тряс головою. Он был, кажется, и не совсем протрезвевши от каких-то неведомых мне причин. – Как это… ага… пустынь… Кто-то из наших ездил прошлый год… Мать Мария… Нет, сестра Мария… Не помню… Послушанье у нее какое-то там…
Говорил он неспешно, громко и как-то по-новому солидно, придавая сообщаемому закругленный и полноправно органический вид.
Не верить было невозможно.
Несмотря на запах недоперебродившего коньяка, недопустимую дипломату небритость и только что «взятый» четырехчасовой авиаперелет, он оставался активен, бодр и, как могло показаться на первый взгляд, готов к любым самым энергичным действиям и поступкам.
Но ближе к дому различимой сделались непримечаемые в нем раньше растерянность и словно б грустящие о чем-то остановки в речи и мимике.
«Да-а, – громко говорил он то ли наблюдаемому им чему-то внутри себя, то ли теченью внешнего снаружи. – Да-а-а!..»
И вздыхал.
Абсолютно неожиданный (фантастический) визит его ощущался еще более некстати, нежели давешний корешев, был – снег на голову, кусок стекловаты, сунутый за шиворот со злым умыслом…
Мы ведь не числились тогда даже в приятелях…
На втором курсе Трубецкой женился на нашей однокласснице, девочке из одной со мной группком-пании, и это, наверное, она, Геля, предположил я с раздражением, теперь вот, когда у Трубачка что-то случилось, отправила мужа сюда без спросу и предупреж денья.
Было нам в ту пору лет по тридцать семь-тридцать восемь, Пушкина в этом возрасте убили, а я, как определил в прошлом году кореш из «г», «понаслушавшись» речей и мнений преподавателей и сокурсников в литинституте, только что соблаговолил окреститься в одной местной дышащей на ладан церквушке.
Окрестился, но в реалиях был неведающим, что творить, «праведником» с застившим горизонт бревном гордыни в глазу.
Я сам нуждался.
Полухмельной небритый Трубачок, претерпевший какое-то свое крушение ближний, был стоявший пред выбором брат, и он вправду терпел нужду в ведающем свет истины совете, а я, озлобленный, блуждавший впотьмах духовный недоносок… чем мог помочь я в его тоске и кручине?
«Да-а-а… – сказал Трубачок, когда мы вошли в подъезд, – вот тут ты, значит, и…»
И шумно выдохнул, прикивовывая сам себе.
Я, однако, решил потерпеть, проявить выдержку и не забегать поперед батьки в пекло с прогнозами, а если-де, решил я, не забегать, то суть вещей как-ни-то выявит себя, дело само подскажет, как лучше его делать.
Скоренько кое-как с дороги умывшись, сунув чресплечную нерусскую суму свою в угол горницы, где ночевал общий наш по школе сотоварищ, и с одного взгляда дипломатически угадав неуместность пира в домашних моих условиях, Трубецкой, в целях «спокойно поговорить-пообщаться», пригласил тогда меня в ресторан, в самый тут у нас дорогой и самый центральный.
В кабак, как в те годы иначе говаривалось.


