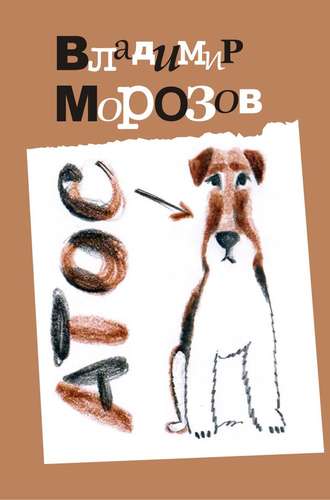
Владимир Игоревич Морозов
Атос
Дик, естественно, успел раньше, – всё таки четыре ноги, не две.
Вновь пса я увидел лишь минут через десять. Как ни в чём ни бывало, подошёл он ко мне и ткнулся в ладонь окровавленной, облепленной серым пухом мордой. Чего, мол, сидишь, пошли дальше, тетеревята в лесу ещё остались, добудем и тебе.
Не стал я искушать судьбины, больше мы с ним за такой мелочью не ходили.
С Диком я охотился в разных компаниях на лосей и кабанов года два, но большому крупному кобелю, притравленному по зверю, скучно и тесно было в стенах многоэтажного дома, и я увёз его в деревню знакомому пасечнику. А вскоре и азарт пропал, скучно как-то стало участвовать в кабаньих и лосиных охотах. Обидно было видеть на утоптанном, убитом ногами снегу кучку мяса, что совсем недавно была большим и резвым животным. Живые-то, они, гораздо интереснее.
Впрочем, вернёмся к Атосу.
Появление Атоса II
– Пора нам завести для тебя собаку, – как я уже рассказывал, заявила мне жена.
Какой же охотник не мечтает о хорошей рабочей собаке! Впрочем, об этом я уже говорил. И, хотя и не считал себя очень уж хорошим охотником, но собаку хотел. Такую собаку, чтобы можно было охотиться по дичи. То есть ходить с ней в лес за тетеревами-глухарями и на болото за всякими куликами, да утками.
Для этих целей более всего подходила легавая собака: сеттер или пойнтер и я сказал об этом супруге.
– Не знаю я никаких сеттеров-пойнтеров, – заявила она, – а собаку, охотничью, между прочим, с настоящим родословным паспортом, я уже нашла. – И жена рассказала, что знакомая с её работы продаёт пса охотничьей породы, что кобельку этому год и деньги за него она той своей знакомой уже отдала.
Принялся я было выпытывать какой породы наше новое приобретение, но жена только и сумела объяснить, что пёс невелик, лохматой черно-бело-рыжей масти и по паспорту зовётся Атосом.
Из объяснения я решил, что это спаниель. Спаниели, хоть к легавым породам и не относятся, но тоже предназначены человеком для охоты на пернатую дичь. И мы поехали за собакой.
Я нажал кнопку, и за обитой искусственной кожей дверью тренькнул звонок. Вслед за электрической трелью, а вернее, практически одновременно с нею, раздался звонкий заливистый лай.
Из глубины квартиры прошлёпали тапочки, недовольный голос пробурчал: «Цыц, ты, позвоночное!», послышался мягкий тычок, словно подопнул кто меховую подушку, и лай захлебнулся. Скрежетнул язычок замка и дверь распахнулась, впустив нас с женой в прихожую.
Спаниеля в квартире не было. Из-за полуспущенных с объёмистого хозяйского живота штанин трико ядовито-синего цвета, высовывалась настороженная морда фокстерьера. Морда имела клочковатые лохмы жёсткой, даже на вид, шерсти трёх цветов по всему объёму от настороженных ушей до влажной пимпочки носа. И глаза.
Эти глаза цвета ореховой скорлупы, живые, энергичные и чуть лукавые, и смирили меня с новоприобретением.
А то, представьте сами, какой жестокий облом – хотел собаку для охоты на уток, а получил пса для добычи лисиц и барсуков. Причём в норах.
Раскапывать норы мне уже приходилось, и перспектива заняться этим вновь, абсолютно не прельщала.
Как я рыл лисьи норы
Я тогда жил с родителями в селе и заканчивал среднюю школу. В наследство от деда-охотника достались мне штучная ижевская двустволка двенадцатого калибра и гончий пёс Набат. Набат был уже в довольно почтенном возрасте, но охотничьей страсти не потерял совершенно. Я же был юн, весел, лёгок на подъем и любопытен. Охотничья горячка моя, ещё в малом детстве разожжённая окружавшими деда, а значит и моё просыпающееся сознание ружьями, собаками и охотницкими байками, пылала широким лесным пожаром. И мы втроем: я, Набат и двустволка практически каждое воскресенье, единственный в те времена день недели, когда в школе не было занятий, пропадали в лесу. Я уже не говорю об осенних каникулах. Впрочем, что там греха таить, – дело прошлое, давнее, – бывало, и уроки прогуливали.
Некоторые мои знакомые, те, что пишут суровую прозу, во всеуслышание заявляют, будто никогда не писали стихов. Уверяю вас, – врут, обманывая не столько собеседника, но, в основном, себя самих. Нет такого человека, что не пытался бы в романтическом старшеклассном возрасте срифмовать хотя бы пару строк.
Я – не исключение. До сей поры помню две рифмовки, сочинённые мною в школьные годы – одна про Пушкина, другая – о ружье. Александр Сергеевич – ладно. Не станем тревожить, всё-таки – наше всё. А вот про стволы, пожалуйста, – процитирую.
«Иду по лесу властелином, – сочинил я. – Курки на «товсь», стрелять готов. Со мною Бог, крестная сила и пара ижевских стволов»!
«Товсь» – словечко из армейского лексикона – укороченное «Готовся», команда предваряющая приказ «Огонь!», или «Пуск!» в зависимости от обстоятельств и мощи имеющегося под рукой вооружения.
Строчками этими я ужасно гордился, и, бывало, приговаривал их, бродя по лесам и лугам. Правда, нигде и ни перед кем не озвучивал. Заканчивались шестидесятые годы, и было бы странновато слышать о Боге и крестной силе от комсомольца. Ну да это так, к слову. Вернёмся к костромичу Набату.
Паратый гончак был, казалось мне, неутомим, несмотря на возраст. Теперь-то я понимаю: солидность возраста компенсировалась солидностью же жизненного и охотничьего опыта. В окрестных поскотинах Набат знал все заячьи тропы и переходы, и потому наши воскресные вылазки редко заканчивались впустую. Выстрел, как правило, гремел ещё до обеда, гончак, добирал подранка, когда дробовой заряд ложился не по месту, задевая зверька лишь краем осыпи, или гнал добычу на следующий круг, помечая ход свой густым размерным лаем. Самое большее через полчаса, заяц висел на верёвочке, подтянутый за задние лапы, а Набат, сжевав пазанки, так охотники называют передние заячьи лапы, отрезанные по скакательному суставу, лежал прямо в снегу, или сидел, терпеливо дожидаясь, пока я очиню зверька и приберу мясо.
Так было и в то декабрьское воскресение, только выжлец не лёг дожидаться, а, покрутившись вокруг, ушёл. И тут же погнал. По азарту и яркости гона, я сразу определил: гонит по красному – лисицу то есть, но бросить начатое дело не мог. Пока я торопливо доснимывал шкуру и освобождал заячью тушку от потрохов, зверь увёл собаку в дальний конец поскотины, и гон сошёл со слуха.
Получилось так, что я устроился чинить зайца в каком-то десятке метров от опушки, где лисовин, то, что это был именно лис, самец, я определил позднее, когда прошёл по следам в пяту и отыскал место, где зверь помочился на трухлявый пенёк, расположился на днёвку. Зверь лежал и терпеливо слушал лай собаки по лесу, выстрелы и даже наше топтание рядом с лёжкой. Прочь он бросился лишь тогда, когда Набат нюхом ли, по следам ли определил место и оказался в прямой видимости.
За остаток короткого хмурого дня я успел уйти по гонному следу далеко от села, практически за границы освоенного мною с собакой пространства, – там кончались лоскутья колхозных полей и сенокосов и начинались большие леса. Здесь по крутым склонам оврагов, ощетиненных сучьями мрачных еловых зарослей, матёрый лисовин и принялся водить моего Набатку на широких кругах. Тут, в сумерках уже, пару раз довелось мне различить на краю слуха глухие стенания гона. Начало быстро темнать, и я повернул обратно.
Лазать в темноте по крутым склонам оврагов среди елового валежника, щетинящегося острыми сломами сучков, было просто опасно. Да и не ночевать же, в самом деле, в зимнем лесу, – до дома всего-то чуть больше пяти километров. Но в темноте эти чуть больше растянулись часа на три, и в тепле я оказался уже ближе к ночи.
Такое бывало и раньше. Уведённый хитрым красным зверем, Набат в азарте погони ничего не слышал и не сходил с гона, – кричи, не кричи. Не обращал он внимания и на выстрелы.
Верный найденному следу, гончак не бросал его до той поры, пока лиса не понорится, не оборвёт след, забившись в узость земляного лаза, или не начнёт водить собаку по кругу, строго гонным следом, и пёс не запутается в этой следовой мешанине. Волков тогда в наших местах было не слышно, и я смело уходил в село, оставляя собаку.
Домой Набат возвращался, как правило, под утро и когда я вставал и перед школой выходил его проведать, лежал в конуре. Даже к корму поднимался он лишь к вечеру и тяжело шёл к миске с едой, припадая на все четыре натруженные гонной работой лапы.
Но на следующее утро конура была пуста. Какая уж тут школа, и я, схватив ружьё и сунув за пазуху краюху хлеба, пустился своим вечерним следом. Говорят, у каждой человеческой души имеется свой ангел-хранитель. Похоже, свои хранители берегут и собачьи души. Иначе, с какой бы стати, выбегая со двора, я почти машинально подхватил большой топор и сунул его рукояткой за опояску патронташа.
Топор оказался в самый раз. Ушлый лисовин, поводив собаку по крутым склонам, ушёл в барсучьи норы, которыми был изрыт берег одного из оврагов. Гончак в горячке сунулся следом.
Я прошёл вдоль склона и быстро обнаружил отнорок, которым лис выбрался наружу. Я обошёл склон и берег оврага, осмотрел каждый вход, но выходного собачьего следа не было. Тогда я позвал пса, как обычно подзывал его к себе, и берег откликнулся глухим взвизгом. Набат был тут. Он ждал меня, и, самое главное, был жив!
На дне оврага начали скапливаться сумерки, когда я заостренными берёзовыми кольями и топором пробился через мёрзлую, пусть и не толсто, поверхность земли и смолистые еловые корни, и открыл лаз, в котором застрял гончак. Мышцы у невольного пленника закоченели, и потому первое время мне пришлось тащить его на себе.
Как только я его не волок: на руках перед собой, укладывал на плечах, пытался даже тащить подмышкой и на волокуше из срубленных ёлок. Часто отдыхая, мы добрались до ближней от села поскотины, и я уже собирался оставить собаку в лесу, а самому сходить домой за санками. Пёс словно понял мои мысли. После очередной остановки, он встал и, подрагивая шкурой, побрёл к дому самостоятельно, покачиваясь и неуверенно переступая.







