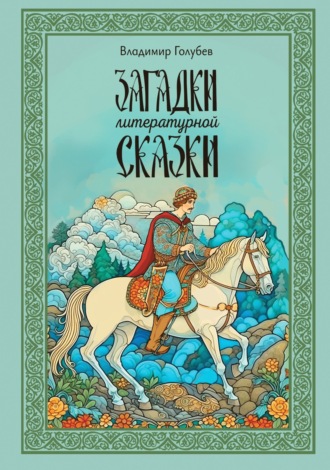
Владимир Голубев
Загадки литературной сказки
* * *
Василий Лёвшин тоже попал под обаяние произведений Вольтера. Однако к концу 80-х годов нашёл в себе мужество порвать с «вольтерьянством». В 1788 году он публично покаялся в специально написанном трактате под названием «Письмо, содержащее некоторые рассуждения о поэме г. Вольтера „На разрушение Лиссабона“». В своём произведении Лёвшин, несмотря на давивший на него авторитет французского вольнодумца, вступил в спор с его идеями. В трактате он приводит десятки самых разнообразных примеров, делает множество отсылок, доказывая, что знаменитая поэма, как и бóльшая часть сочинений Вольтера, – жестокое заблуждение, «хула на Бога». Свои писания белёвский мыслитель определил как «защищение» всеми доступными и допустимыми средствами «закона христианского». Конечно, это не была защита, полностью основанная на догматах христианства. Он признаёт наличие провидения, веры, видит смысл жизни человека в добродетели. Позиция Лёвшина опиралась на популярный в то время деизм, к счастью, не такой революционный, как у Вольтера и его последователей.
* * *
Мы не просто так упомянули интерес к русскому народному творчеству, которое Василий Алексеевич, видимо, прекрасно знал с самого детства. Пристальное внимание к устному фольклору, истории России, обычаям и нравам народов у русских писателей второй половины XVIII века, в том числе и у Лёвшина, в основном было вызвано просветительской идеологией. Русские беллетристы выдвинули проблему национального характера, проявили неподдельный интерес к русскому языку. Писатели из демократического лагеря, к коим относился и наш герой, использовали народное творчество для сближения литературы с действительностью.
В то время интерес к «славянским древностям», русской старине и национальной мифологии активно и неустанно пробуждают у россиян своим творчеством М. Д. Чулков и М. И. Попов (о них мы ещё поговорим позже). Подобное увлечение вывело Лёвшина-переводчика на эту тропу. Сначала он работает над переводом с немецкого «восточной повести» «Визири, или Очарованный лавиринф» (ч. 1–3, М., 1779–1780), а затем приступает к многотомной «Библиотеке немецких романов» (ч. 1–3, М., 1780). В ней были собраны «германские древности» – романы как рыцарские, так и народные (бытовые). Видимо, опыт составления этой библиотеки, а также знакомство с ранее вышедшими в Париже «Всеобщей библиотекой романов» и «Голубой библиотекой» народных романов (сказок), как отмечают практически все исследователи творчества Лёвшина, наводят его на мысль о создании такой же библиотеки, но уже романов собственно русских. «Библиотека немецких романов», переведённая Лёвшиным с немецкого, – вещь предромантическая, так говорит В. Шкловский. А мы от себя добавим, что именно романтизм являлся благодатной почвой для расцвета литературной сказки.
«Романы, – писал Лёвшин в предисловии, – были первые книги большей части народов. Они содержат вернейшие изображения наших времён, наших обычаев, пороков и добродетелей. Оные суть толико ж нравоучительных картин, где истина скрывается под покрывалом выдумки. Дичайшие орды, равно как просвещённые народы имеют оные собственные». А раз так, то, что, мол, говорить о народе русском, издавна просвещённом (в смысле, принявшем христианство). Писатель убеждён: в России также имеются свои романы, но они из-за того, что русские «опоздали выучиться грамоте», не удостоились «предания на письме» и «хранятся только в памяти», а потому никто до сих пор не «почтил оные собранием и изданием в печать». Вот эту историческую несправедливость и решает исправить Лёвшин. Он приступает к их составлению – реконструкции и в «подражание» прежде него «начавшим подобные предания» (имеются в виду М. Чулков и М. Попов) издаёт в 10 томах – 5 книгах под общим названием «Русские сказки, содержащие Древнейшие Повествования о славных Богатырях, Сказки народные и прочие оставшиеся чрез пересказывание в памяти Приключения» (ч. 1–4, М., 1780; ч. 5–10, М., 1783; 4-е изд. – 1829) «с намерением сохранить сего рода наши древности и поощрить людей, имеющих время, собрать всё оных множество, чтоб составить Библиофику Русских Романов» (ч. I, с. 4).
Для писателя XVIII века роман, что удивительно, занимал не то место, какое занимает в наше время, когда он почти вытеснил остальные жанры. В те времена проза уже одним тем, что она проза, считалась (за исключением ораторской) литературой низкой пробы. Поэтому представитель высокой литературы Сумароков резко высказывается против романа, делая исключение только для «Дон Кихота» как романа, направленного против романа. Но рыцарский роман, так удачно пародируемый Мигелем де Сервантесом, не умер, он продолжает существовать до сих пор. Роман также нещадно осмеивался и позже, в эпоху романтизма, пока не появился вновь, уже в другом качестве. Он был вскоре переосмыслен писателями, вобрал в себя национальный оттенок, возникла установка на психологию героев, их развитие по ходу повествования, на мотивирование поступков, явились новые способы поэтического изображения. Даже космополитизм старого рыцарского романа, убитый романтизмом, вернулся в XX век благодаря фэнтези.
* * *
Переводчик Василий Лёвшин в примечании к части I упоминал, что для нас также имеет большую ценность, о стиле, языке романов, который он после перенесёт на свои «Русские сказки»:
«Прелагая на наш язык сии Немецкие древности, которые в оригинале представлены самым тогдашнего времени наречием, должен я сколько возможно сохранить древнюю Литературу: почему читатели да извинят отступление моё от слога нынешнего, ибо следует мне переводить оные Литерально, дабы сколько возможно дать понятие каковыми степеньми вычищались от грубости своей слово-предложения и вкус сочинителей».
Также исследователи отмечают ироническое отношение к тогдашней сказке у Лёвшина, и не только у него. Автор вроде бы извиняется за свои «безделицы». В то же время в Европе существовала и другая реакция на подобные произведения. Например, чрезвычайная заинтересованность в сказке у представителей высокой литературы в Германии (Г. Лессинг, И. Гёте, К. Виланд).
В русской литературной сказке Лёвшина произошло похожее явление. Многие романы немецкого сборника галантны, переполнены любовными приключениями или сказочно-пародийны. Отсюда и идёт та пародийная сказочность, которую мы потом находим в «Русских сказках», что, по уверению В. Шкловского, по своему построению является при чередовании жанров подражанием «Библиотеке немецких романов», и поэтому они, конечно, более сборник романов, чем сборник сказок.
Полагая, что «повести о рыцарях – не что иное, как сказки богатырские», Лёвшин создаёт на основе русских былин, исторических преданий и песен цикл повестей – богатырских сказок о временах «Великого князя Владимира Святославича Киевского и всея России», повествующих о том, как «сражались и служили у него славнейшие Богатыри: Добрыня Никитич, Алёша Попович, Чурило Пленкович, Илья Муромец и дворянин Заолешанин», с чьей помощью «побеждал он греков, поляков, ятвягов, косогов, радимичей, болгаров и херсонян» (ч. I, с. 3, 7). Считая, что «начертания» жизни и «обыкновений» народных есть сказки (романы) народные, Лёвшин «во удовольствие любителям сказок» пишет несколько оригинальных литературных произведений (новелл) – бытовых сказок плутовского, аллегорического и комического характера, основанных на реалиях современной ему российской действительности (о Тимоше, попавшем в ученики к разбойникам и сумевшем их обмануть; о Цыгане; о воре Фомке; о чиновнике-пьянице и «новомодном дворянине»). Эти сказки, значительно меньшие по объёму, чем богатырские, и составили «второе отделение» его «Русских сказок».
* * *
Говоря о русских литературных сказках XVIII века, как и о «Русских сказках» В. Лёвшина, мы должны понимать, что они весьма и весьма отличались от аналогичных сказок следующего, XIX, века, а тем более от народных. Во второй половине галантного столетия в невообразимом кипящем котле стряпались новые лекала, вот только достались они не тем поварам, что разрабатывали рецепт и дышали дымом и паром, а их литературным наследникам. В. Шкловский чересчур сурово отмечает, что, говоря о первых русских сказках, нельзя настаивать даже на слове «русские», потому что разница между оригинальным произведением и переводным для того времени не так уж велика. В тогдашние сказки вводили, как мы покажем, сказку переводную, даже порой не изменяя имён.
В екатерининские времена сказками не только пользовались, не только их переделывали, но и создавали. «Повествователь русских сказок» (автор неизвестен, возможно, некто Тихонов), изданный в Москве в 1787 году, интересен тем, что в нём видно превращение лубочного листка в сборник сказок. В начале «Сказки о славном и храбром богатыре Илье Муромце и соловье-разбойнике», которой открывается первая книга сборника, находится прямое указание на источник: «…оный именитый витязь родился у нас, есть ли должно верить тем исправным историкам, которые, слышав по преданию от старинных людей, вместилища древности, какую повесть издавали в свет на листках. И так во удовольствие некоторых любителей вознамерился я о сем знаменитом герое написать историю не витийственным, а простым слогом». Сам сборник содержит в себе схематические пересказы сказок.
Сказки эти похожи друг на друга, потому что неизвестный повествователь, очевидно, записывал их, не понимая, что иногда это варианты одной и той же сказки. «Сказка о принце Карзамане» – точный пересказ переводной сказки из «Тысячи и одной ночи». Далее, продолжает В. Шкловский, источниками для так называемых русских сказок в то время являлись: пародийная французская сказка, которая переводилась в чрезвычайном количестве; сказка, очень часто пользующаяся псевдоарабскими обрамлениями; рыцарский роман; затем опера и, наконец, отдельные элементы прежде существовавших русских сказок.
* * *
Вернёмся к Лёвшину. Представление обо всей этой системе может дать «Известие» Лёвшина в первой части книги «Русские сказки»:
«Издать в свет книгу, содержащую в себе отчасти повествования, которые рассказывают в каждой харчевне: кажется был бы труд довольно суетный; но я уповаю найтить оправдание моё в следующем.
Романы и Сказки были во все времена у всех народов; они оставили нам вернейшие начертания древних каждыя страны народов и обыкновений и удостоились потому предания на письме, а в новейшие времена, у просвещённейших народов, почтили оныя собранием и изданием в печать. Помещавшие в Парижской Всеобщей Вивлиофике Романов повести о Рыцарях ни что иное как сказки Богатырские, и Французская Bibliotheque Bleue, содержит таковыяж Сказки, каковыя у нас рассказываются в простом народе. С 1778 года в Берлине также издаётся, Вивлиофика Романов, содержащая между прочими два отделения: Романов древних немецких рыцарей, и Романов народных. Россия имеет также свои, но оные хранятся только в памяти; я заключил подражать издателям прежде меня начавшим подобные предания, и издаю сии сказки Русские с намерением сохранить сего рода наши древности; и поощрять людей имеющих время, собрать всё оных множество, чтоб составить Вивлиофику Русских Романов.
Должно думать, что сии приключения Богатырей Русских имеют в себе отчасти дела бывшие, и есть ли совсем не верить оным, то надлежит сумневаться и во всей древней Истории, коя по большей части основана на оставшихся в памяти Сказках; впрочем, читатели есть ли похотят, могут различить истину от баснословия, свойственного древнему обыкновению в повествованиях; в чём однако никто ещё не успел.
Наконец, во удовольствие любителям Сказок, включил я здесь таковыя, которых никто ещё не слыхивал и которыя вышли на свет во первых в сей книге».
Состав книги, таким образом, явно указывает, что в ней содержатся рыцарские романы; в последнем абзаце упоминается то, что обыкновенно называется фацециями (потешками). Материал арабских сказок литератором не упоминается.
Каким образом вводился местный материал, мы видим: аналогичная ситуация и в предуведомлении к сочинению Михайла Попова «Старинные диковинки, или Приключения славенских князей» (СПб., 1778). Книга эта в первом издании, правда, называлась «Славенские древности» (СПб., 1770–1771) и побудила кого-то искать в ней подлинную историю. Поэтому во втором издании Попов сделал следующую оговорку: «…царствуют здесь одни вымыслы забавных и чудесных приключений старинных Витязей, прикрашенные по местам Славенскими историческими и баснословными некоторыми Достопамятствами, что и было мне побуждением ко прежнему наименованию моего Романа».
Вставки в сказках сделаны не всегда удачно. Например, этнографический материал (к примеру, песня) у Лёвшина попадается иногда не в самом тексте, а в примечании к «Повести о славном князе Владимире Киевском Солнушке Всеславьевиче и о сильном его могучем Богатыре Добрыне Никитиче».
Чудесное в сказках представлено чередой превращений, они так многочисленны, что совершенно понятно заявление одного из героев романа Попова «Старинные диковинки»: «…Не странна мне была сия перемена, ибо к чудным сим превращениям имел уже я привычку». Данные метаморфозы сильно напоминают фрагменты из оперы, даже как будто слышится стук молотков за сценой, а иногда с нескрываемой иронией показана театральная механика превращений: «Пока ещё Светлосан, с Оруженосцем своим, стоял от удивительного сего приключения в недоумении, в то время превратившийся пустынник, махнув стрелою, проговорил несколько странных слов, за которыми последовал преужасный шум и стук молотов, по окончании коих пещера превратилась в великолепную колесницу, запряжённую шестью единорогами».
Ещё большей «оперностью» отличается следующий отрывок из «Русских сказок», из «Повести о дворянине Заолешанине, богатыре, служившем князю Владимиру»: «…При первом взгляде за оным представилось Громобою волнующееся море, и выскакивающие из оного чудовищи разевали страшные свои пасти, грозя проглотить всякого приближающегося. „Вам должно броситься в сие море и плыть посреди сих чудовищ; достижение к драгоценной вещи не может уступить опасности“. „Я ничего не имею в сердце, кроме Миланы“, – отвечал Громобой и побежал повергнуться в море. В самое сие время тьма распростёрлась над водами, и невольник без пользы говорил Громобою, чтоб он подождал, поколь тьма исчезнет; он бросился с берега.
„Ты шутишь надо мною“, сказал Громобой, когда опять просияло, и увидел он стоящего близь себя невольника. „Здесь только игрище, и я вместо моря и волн упал на растянутую холстину, кою поддували мехами“. „Нет, государь мой, – отвечал невольник. – Благодарите вашей отважности; без неё вы не разрушили бы сея очарованные бездны, и волны её иль чудовищи конечно бы вас поглотили. Но впереди там уж не очарование: с природою вам надлежит сразиться, ступайте“. Громобой следовал, и вдруг преужасная пламенная река пролилась впереди их. Сверкание пламени было ужасно, и казалось, что растопленная медь готова была обратить в пепел каждого приближающегося. „Вам должно перейти сию реку, – сказал невольник остановись. – Здесь уже мужество вам не поможет, естьлиб вы были не человек, а вещество несгораемое… Не лучшель возвратиться? безумно на верное умереть; ибо по смерти нет от любовниц никаких ожиданий, воротимся“. „Слабый, – молвил Громобой с досадой. – Разве забуду я, что смерть моя полезна Милане“. Сказал сие и бежал в огонь.
Он вдруг остановился и искал, чем бы побить невольника. Представлявшее издали огненную реку был ряд выпуклых зеркал, поставленных на дрожащих пружинах так противу солнца, что отвращённые онаго лучи ударялись прямо в глаза приближающимся».
Таким образом, мы видим, как опера повлияла на сказку, а в самой литературной сказке стало возможно и даже модно объяснять чудеса с рациональной, а не волшебной или магической точки зрения. Кстати, данный приём активно используется многими авторами в настоящее время.
Поразительная история о ковре-самолёте рассказывается в «В повести о богатыре Булате»: «Наконец летающий ковёр стал готов. Оным можно было управлять так на воздухе, как ладиёю на воде; оный поднимался на высоту, опускался вниз, стремился вдоль и оборачивался в каждую желаемую сторону. „Посредством ковра сего о, Роксолан, – сказал мне Аспарух, – намерен я подкрепить храбрость и надежду нашего народа. Ты ведаешь, что нужно утверждать простолюдинов в предрассудках как для того, чтоб привести их в повиновение, так и затем, чтоб можно было при всяком нужном случае возбудить их ревность и храбрость под предлогом защищения вещи, кою сочтёт он за святыню. Венец, мною соделанный, конечно, заслуживает сие предпочтение, в рассуждении предписанных на оном законоположений; однакож надлежит деятельнейшим способом привести народ к рабскому оного обоготворению; ибо без сомнения твёрдо простоит держава, где Государь следует надписанному на венце сем и где подданные каждое повеление своего Государя приемлют за глагол божественный. Я намерен предстать к моему сыну Русу, и уверить его о покровительстве Богов и о обещании оных послать ему с неба венец, на коем предписаны будут правила, как ему должно вести себя на престоле. Я подвигну его ко всенародным молениям, и тогда пред собранием народным ты должен будешь, сокрывшись в летающем ковре, опустить оный на золотой нити на главу Русову Я отрежу притом нить так, что народ сего не приметит и сочтёт венец слетевшим с небес по воздуху. Ты предвидишь, я чаю, всю пользу такого благонамеренного обмана? Я не сомневался в сей истине и следовал воле моего учителя“.
В назначенный час сели мы на ковре, забрав с собою сосуд, венец, зеркало, таинственные книги и орудия, и поднявшись на воздух, пустились к столице Руской. Достигнув оныя опустились мы в великом лесу близь солёного озера с южной онаго стороны. Аспарух, взяв с собою златый сосуд и зеркало, пошёл во Дворец, а меня с венцом оставил, повелев, чтоб в следующее утро поднялся я на ковре довольно высоко и высматривал надлежащего времени, когда следовать будет опуститься ниже и свесить венец.
Аспарух принят был как некое благодетельное божество. Князь Рус и весь тайный его совет внимали с набожностью его пророческие глаголы и сделали распоряжение к утреннему всенародному молению.
Едва багряная Зимцерла распростёрла на востоке свои оживляющия природу ризы и отворила врата к изшестию благотворительного Световида я поднялся на ковре в высоту и ожидал надлежащего времени, держа в руках конец длинной к венцу укреплённой златой нити. Вскоре показался Рус, водимый родителем своим Аспарухом, в провожании несчисленных полков воинства, всего народа и самых жён и детей. Они шествовали на поле до холма, посвященного громоносному Перуну; жрецы несли торжественно истукан Чернобогов, некоторые из них пели песни, а прочие вели чёрных агнцев, покрытых чёрным аксамитом на пожрание Богу мстителю, и белых, увенчанных связками красных цветов для всесозжения пред Перуном. В приближении их к холму дневальные жрецы близь стоящего жертвенника неугасаемого Знича повергли на огнь благовония и с гласом труб и рогов соединили встречную песнь. Наконец приходящие жрецы, переменяясь с стоящими на холме пели покорно похвалу обоим Богам; народ всем множеством оканчивал последние стихи песней и колебал воздух своими восклицаниями. Истукан Чернобогов поставили рядом с Перуновым: заклали агнцов, возложили на пылающие жертвенники, и общественно упав на колени, приносили благодарные мольбы за обещание, низпосланное небесами через уста мудраго Аспаруха. Сей по пожрании огнём жертв приступил к истуканам, и упав на одно колено, простёр вверьх свои руки, и произносил следующую молитву: „Великий Перун, отец Богов! И ты, о Чернобог, защитник Рускаго народа! примите сию жертву благодарения от страны, ожидающей исполнения священного вашего обета, да познают враги наши, что меч, толико им страшный, управляется вашим водительством, что заступление ваше будет вечно на Князях, увенчанных венцом небесным. Я с коленопреклонением исповедую, что словеса божественныя не могут быть пременяемы; но чтоб не произошло некогда сомнения о предсказании моём о вашей воле, явите, что уста таковаго, как я, сединами покрытого старца лжи вещать не могут. Да ниспадёт всенародно с небес венец вашего благословения на главу того, коего избираете вы водителем Рускаго народа, и котораго потомство достойно будет споспешествовать его славе и благоденствию!“ В сие мгновение опустил я летающий ковёр к низу».
Как мы видим, в приведённом отрывке чудеса достаточно традиционны для сказочного повествования и одновременно рационалистичны. А национализация материала происходила путём внесения примечаний географического и главным образом местного мифологического характера.
Например: «Сие боговещалище, или Оракул, находилось близ пригородка Елабуги при речке Тойме, впадающей тут же в Каму; которого поднесь ещё видны каменные развалины, известные под именем Чортова городища. В оном жрецами был содержан обожаемый Великий змий, которому людей давали на снедение вместо жертвы» (смотри записки Путешествий Капитана Рычкова, лист 44 и 45, ч. I, с. 47–48).
В сам текст произведения часто вставлялись редко связанные с сюжетом то полемические выходки, то элементы злободневной социальной утопии. Так, например, Россия в «Старинных диковинках» Михаилы Попова описана следующим образом:
«В Государстве его заведено было премножество разного рода заводов и фабрик, на коих делали всякие вещи, какие только были в употреблении в тогдашнее время. Инде ткали парчи, бархаты, штофы и другие шёлковые материи; там делали сукна, полотны и всё то, что человеку для одеяния потребно; в других местах выкапывали из земных недр разные металлы и по очищении их делали из оных всякие дорогие сосуды и орудия для великолепия и пользы всенародной. Одним словом, не было такого искусства, которое бы в сей благополучной Державе могло уйти от рук тщательных её обитателей: и малый и старый были тамо в деле, которое сходствовало с их силами и знанием. Все содержатели таких заводов и фабрик платили Государю подать, которая весьма увеличивала его сокровище, а им была ни мало не отяготительна. Люди там не имели нужды в чужестранных товарах; ибо всё нужное имели дома; а иностранцам тогда только давали деньги, когда от них хотели научиться какому ни будь новому мастерству».
Ни один из элементов этого описания, правда, не попадает в текст произведения, но всё равно перед нами попытка привязать повествование не к какой-либо сказочной стране, а к России. В нём мы видим одни чудеса и превращения.
* * *
Говоря о влиянии первых авторских сказок на последующее развитие русской литературы в первой трети XIX века, сразу зайдём с козырей. Вот Пушкин в своей поэме «Руслан и Людмила», как это отмечалось ещё В. Сиповским в книге «Пушкин и его современники», заимствовал ряд мотивов из «Русских сказок» Лёвшина. Пародийность «Руслана и Людмилы» – это пародийность сказок XVIII века. А элегичность настроения Руслана, которая была отмечена критикой как ошибка, – это тоже элегичность XVIII века. Вообще Пушкин в поэме «Руслан и Людмила» ещё достаточно архаичен. Вот приведём крохотный отрывок из песни третьей, каждый может открыть томик поэта и продолжить:
Он видит старой битвы поле.
Вдали всё пусто: здесь и там
Желтеют кости по холмам,
Разбросаны колчаны, латы…
А вот, по-видимому, источник данной картины, отмечает В. Шкловский, в «Повести о славном князе Владимире Киевском Солнушке Всеславьевиче и о сильном его могучем Богатыре Добрыне Никитиче»: «Чрез несколько дней взъехал я на пространную долину, которая вся покрыта была человеческими костьми. Я сожалел о судьбе сих погибших и лишённых погребения и предался в размышления о причинах, приводящих смертных в толь враждебные противу себя поступки. Но задумчивость моя пресеклась тем, что конь мой вдруг остановился. Я понуждал онаго в перёд; он ни шагу не двигался. Я окинул взорами и увидел перед собой лежащую богатырскую голову отменной величины».
Кстати, очень похоже на «Повесть о Силославе» М. Чулкова («Пересмешник», ч. I, вечер 2). Этот отрывок использован самим Лёвшиным в девятой части «Русских сказок»: «Он видит исполинский остав, одетый бронёю; долгота времени, обнажившая кости, не лишила сию красоты её: броня сияла от лучей солнечных и великий мечь лежал вместо возглавия под черепом богатырским» (с. 207–208. Повесть о богатыре Булате).
Только в сказке В. Лёвшина под богатырской головой лежит не меч, как у Пушкина, а ключ. Это ключ от горы, в которой находится меч. Пушкин, видимо, ужал сюжет, сделал его ещё более пародийным, а также ввёл литературную пародию («Двенадцать спящих дев»). Например, отрубленная голова обладает каким-то характером, она ещё ругается. Руслан её ударяет. Всё это трудно себе представить у Лёвшина.
Из тех же «Русских сказок», вероятно, заимствован и волшебный сон Людмилы: «Она спала на постеле, усыпанной розами. Я приближился, пожирал глазами её прелести, не смея дышать, дабы не возмутить её покоя. Но ах! сей сон её был действие очарования. Три дня сидел я у стены хрустального здания, ожидая её пробуждения, не вкушая никакой пищи, но безплодно: Зенида опочивала» («Повесть о богатыре Булате»).
У Пушкина:
В сетях открылася Людмила:
Не веря сам своим очам,
Нежданным счастьем упоенный,
Наш витязь падает к ногам
Подруги верной, незабвенной,
Целует руки, сети рвёт.
Любви восторга слёзы льёт,
Зовёт её – но дева дремлет,
Сомкнуты очи и уста,
И сладострастная мечта
Младую грудь её подъемлет.
Приведём высказывание Николая Полевого из «Очерков русской литературы» об этой поэме Пушкина: «Бесспорно: в Руслане и Людмиле нет ни тени народности, и когда потом Пушкин издал сию поэму с новым введением, то введение это решительно убило всё, что находили русского в самой поэме. Руссизм поэмы Пушкина была та несчастная, щеголеватая народность, Флориановский манер, по которому Карамзин написал Илью Муромца, Наталью Боярскую дочь и Марфу Посадницу, Нарежный Славянские вечера, а Жуковский обрусил Ленору, Двенадцать спящих дев, и сочинил свою Марьину рощу».
Старая флориановская, виландовская, лёвшинская народность была ещё народностью условной, она перешла и к Пушкину в указанной поэме, и Полевой это понимал. Не помогает автору упоминание Днепра, отеческих русалок, лешего, хазарского хана, Руси и прочего…
* * *
Вернёмся к Лёвшину. Новеллы сращиваются в «Русских сказках» двумя способами.
Первый способ: герой рассказывает о своём прошлом. Обыкновенно за этим рассказом вводится новый герой. Приём этот настолько условный, что герой иногда пересказывает другому герою такие события, в которых тот сам был участником.
Второй способ – это переход от отца к сыну. Рассказывается история отца, затруднения к браку, например, а потом переходят на историю сына.
Этот сложный приём есть, например, в «Повести о дворянине Заолешанине» и взят, вероятно, из «Тысячи и одной ночи» (история принца Камаральзамана).
Лёвшинский сюжет, сюжет ходовых вещей XVIII века, основан на занимательности. Но нередко части повествования не связаны друг с другом. XVIII век знал народность, но народность эта во многом ещё пародийная, как утверждал Виктор Шкловский. Трудно быть первым, часто неблагодарное это дело. Чулковские сказки и сказки Лёвшина пытаются найти в тёмном лесу тропинку к истинной народности, в чём не слишком преуспевают. Народность в литературных сказках, и не только, взятая всерьёз, как направление, – это дело грядущего, XIX, века.
Особняком в сборнике «Русских сказок» стоят части VII и VIII. Они представляют собой одно произведение – «Приключения Любимира и Гремиславы». Это самый большой слитный кусок во всех десяти томах «Русских сказок». Слитность, конечно, условная. В основе её лежит любовный роман, данный в манере романа «История кавалера де Грие и Манон Леско» популярного французского писателя, аббата Прево. Это рассказ молодого человека Любимира о его несчастьях.
Во времена Лёвшина сказки не столько собирались, сколько просто-напросто сочинялись. Белёвский писатель всё же несколько расширил тематику сказки и вызвал этим возражение рецензента в «Санкт-Петербургском вестнике» от апреля 1781 года. Вот что писала газета:
«Что касается до издания старинных богатырских сказок, мы согласны с г-ном издателем, но правду сказать хотели бы, чтоб он в самом исполнении своего намерения больше придержался старинного сказкослагателей слога, историческими и етимологическими своими примечаниями изъяснял тёмные места. В сём, однако, как и во многих других делах, гораздо легче желать, нежели исполнять.
Из прибавленных издателем новых сказок некоторые, как то: о воре Тимохе, Цыгане и пр. – с большею для сея книги выгодою могли бы быть оставлены для самих простых харчевень и питейных домов, ибо всякий замысловатый мужик без труда подобных десяток выдумать может, которые ежели все печати предавать, жаль будет бумаги, перьев, чернил и типографских литер, не упоминая о труде господ писателей».
Это «известие», как отмечает Виктор Шкловский, кажется, единственный дошедший до нас отзыв современников о «Русских сказках».
* * *
В 1787 году Лёвшин издал «Вечерние часы, или Древние сказки славян древлянских», которые служат продолжением «Русских сказок». В отличие от «Русских сказок», они разбиты на «вечера», то есть в них есть непосредственное влияние «Тысячи и одной ночи». «Сказки славян древлянских» включают в себя ещё меньше национальных элементов, ещё меньше попыток записать так называемую подлинную сказку, чем «Русские сказки». И тут ещё заметно большое влияние французской сказки, сильно модернизированной, и присутствуют элементы фантастики. Сочинитель пускается в пространные рассуждения, растолковывая чудеса, как в научно-фантастическом романе, и в этом нет ничего удивительного, когда подобный жанр только зарождается. Как видно, Лёвшин мечется из стороны в сторону. Так, например, он делает попытки рационально обосновать возможное существование подводных людей, ссылаясь на французский журнал.
«Сказки древлянские» также эротичны, чародеи действуют в них уже не только чисто символически. Напомню, сказки читают вовсе не дети, а взрослые. Волшебные предметы, помогающие героям, стали иными, более разнообразными по сравнению с народными сказками. Среди них мы встречаем не только привычное волшебное кольцо, но и, к примеру, волшебные карманные часы. Сюжеты построены преимущественно на бесчисленных приключениях, часто весьма галантных, в духе времени.
Бытовой комический материал здесь присутствует в меньшем количестве, чем в «Русских сказках», и сосредоточен главным образом на одном герое – Простое («Повесть о княжиче Вадиме»). Локальные элементы по-прежнему остаются в примечаниях, заимствованных из Энциклопедического словаря, в попытке поведать древнюю историю России. Книге предшествует «Известие», в котором автор рассказывает о древних племенах, населявших Россию, и местах их обитания.


