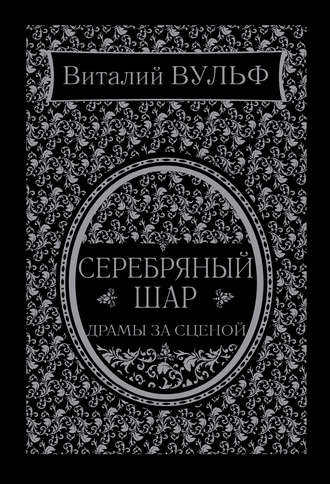
Виталий Вульф
Серебряный шар. Драма за сценой
То было время, когда Степанова обогнала всех своих знаменитых соперниц, с которыми прожила жизнь в театре. Тарасовой и Еланской уже не было в живых, Андровская очень болела, но Ефремов поставит еще для «стариков» «Соло для часов с боем», и она познает свой последний триумф, а Степанова уже давно занимала в театре первое положение. После Ирины в «Трех сестрах» и Бетси Тверской в «Анне Карениной» – ролей, сделанных с Немировичем-Данченко, – она медленно, но неуклонно взбиралась по лестнице вверх. Никогда не отказывалась от ролей. После смерти Фадеева стала заниматься общественной деятельностью, но главным в ее жизни оставалась сцена. Блистательная современная актриса, женщина большого ума, снайперски умеющая оценивать людей.
Кстати, благодаря дружбе со Степановой я начал общаться и с Анатолием Петровичем Кторовым, замкнутым, живущим отдельно от театра человеком.
Я дружил с Ангелиной Иосифовной четверть века, не говоря уже о последних годах, когда она звонила мне почти каждое утро и минут тридцать-сорок говорила своим чуть надтреснутым голосом. С годами она стала разговорчивой, хотя прежде отличалась молчаливостью; наверное, это свойство старости. Я любил приезжать к ней пить чай.
В начале 90-х годов она открыла мне тайну своей любви с Николаем Эрдманом, и я придумал книгу – «Письма», переписка Степановой и Эрдмана. Она была издана моими друзьями в издательстве, которое теперь уже не существует, тиражом в пять тысяч. Книга имела огромный успех. Многие стали смотреть на Степанову совсем другими глазами. Ее письма читать было интереснее, чем письма Эрдмана. Она была счастлива, что эта книжка вышла. Рецензий было очень много, Дом актера устроил презентацию, Ангелина Иосифовна приехала, выступала, все это сохранилось на телевизионной пленке. Только журнал «Московский наблюдатель» не заметил книги. Недоброжелательство и неумение встать выше личных симпатий и антипатий отличали тех, от кого зависела публикация рецензий. Может быть, тогда я впервые убедился, что театральные дрязги, в сущности, не имеют никакого значения, а работа на телевидении только подчеркнула бессмысленность всех выпадов и укусов. «И всюду клевета сопутствовала мне… Я не боюсь ее. На каждый вызов новый // Есть у меня ответ достойный и суровый…» – писала Анна Ахматова.
На телевидение меня привела Галя Борисова, редактор останкинской литдрамы. Тогда, 11 ноября 1990 года, я впервые вышел в эфир по Первому каналу с передачей о Марии Ивановне Бабановой. Трудно было предположить, что спустя четыре года возникнет благодаря Владу Листьеву «Серебряный шар» и будет крутиться вот уже восемь лет, поначалу сталкиваясь с раздражением, сопротивлением недругов, неприятием (что, естественно, не исчезло), а потом станет программой, вызывающей у миллионов людей интерес и любопытство. Нельзя было представить себе, что лицо станет узнаваемым и степень ответственности, когда создаешь программу, вырастет раз в сто.
Телевидение подарило мне за последние годы много радостей и незабываемых встреч и дружб.
В 1994 году Влад Листьев, в те годы руководитель телевизионной компании «ВИД», талантливый, подвижный, гибкий, умный, обаятельный молодой человек, предложил мне с моим оператором вылететь в Австралию и сделать передачу о гастролях Большого балета. Он был совсем не в курсе дрязг и шекспировских страстей, которые разворачивались вокруг Юрия Григоровича. Грига называли диктатором, хотя он сам о диктатуре никогда не говорил. (Это Олег Табаков сегодня твердит все время: «Я – диктатор безо всякой демократии», – и невольно думаешь о слабости Лелика – как его называли в «Современнике», – а не о его силе.)
Максималист, человек громадного таланта, великий русский хореограф, создатель «Легенды о любви», «Спартака», «Ивана Грозного», Юрий Григорович тогда и не предполагал, чем кончится его правление Большим балетом в течение тридцати одного года. Влад Листьев обожал «Спартак», он смотрел его много раз, был почитателем Григоровича, и… я улетел в Австралию. Было это в сентябре 1994 года.
Это были последние гастроли Григоровича с Большим театром. В Москве бушевали страсти. Его изничтожали, не знаю, кто мог бы выдержать весь поток оскорблений, который лился из радиоприемников, с экрана телевизоров, из газетных статей. В балетной труппе никто не верил, что Большой может остаться без него. Я впервые столкнулся с Юрием Николаевичем в этой поездке и подумал, как он похож на Ефремова. Ельцинская эпоха была от него очень далека. Он никогда не был коммунистом, не был членом партии, в отличие от Олега Ефремова, но в одном они были очень похожи: сильные, мощные индивидуальности.
Я очень хорошо помню день 7 марта 1995 года – ровно через неделю после убийства Влада Листьева. Настроение было мрачное. Уже прошла моя передача «Большой балет в Австралии», после нее телевизионный критик Вартанов на страницах газеты «Труд» написал обо мне: «Вот Вульф, на халяву поехав в Австралию, сделал передачу о гастролях балета Большого театра, выдавая это за победу театра». Тогда я еще не был закален и не привык к столь развязному стилю, тем более что на самом деле успех Большого балета в Австралии был громадным. На радиостанции «Эхо Москвы» критик Агамиров каждое утро выливал помои на Грига, я тогда не знал, что он пишет либретто для «Лебединого озера», которое будет поставлено после ухода Григоровича в Большом театре, и именно это либретто окажется первой причиной васильевской неудачи.
7 марта 1995 года Григорович написал заявление об уходе.
Вечером в его квартире не раздалось ни одного звонка. Кроме меня, никого у него в доме не было, тогда и начались, по существу, мои дружеские отношения с ним. Его воля и умение оставаться бесстрастным меня ошеломили. Этому нельзя научиться, но можно, если постараться, овладеть собой. Григорович все пережил, выжил и, как показала жизнь, победил. Когда через несколько лет его пригласили в Большой на постановку «Лебединого озера», фотограф, ожидавший его на 16-м служебном подъезде, спросил: «Юрий Николаевич, разрешите мне снять вас при выходе?» (Григ выходил на улицу.) «Зачем же при выходе, лучше при входе», – шутя ответил Григорович. Хотя в Большой на постоянную работу он возвращаться не собирался.
Когда злейший недруг Юрия Николаевича, талантливый балетный критик Вадим Гаевский, принесший русскому балету немало пользы и немало зла, после снятия Владимира Васильева с поста директора Большого театра написал резкую и злую статью про него, Григорович был возмущен.
– Лежачего не бьют, – сказал он мне, – в этом есть что-то отвратительное.
Свой 70-летний юбилей Григорович отмечал в Мариинке, танцевали «Легенду о любви». Гергиев приветствовал юбиляра содержательной речью, Уланова прислала телеграмму: «Поздравляю, помню, люблю». Юрий Николаевич отвечал мудро и произвел сильное впечатление. В зале сидела труппа Мариинского балета, из Москвы по собственному желанию прилетели Николай Цискаридзе, Юрий Клевцов, Элина Пальшина (не всех я знал в лицо), они сидели в зрительном зале с огромными букетами цветов. Шел 1997 год.
Потом начнется череда поездок, спектакли в Риме, Праге, Варшаве, Стамбуле, Сеуле. В Краснодаре, почти что на пустом месте, он создал балетную труппу и поставил восемь своих балетов. В этом году[5] «Григорович-балет» совершил четырехмесячное турне по США и в октябре уезжает на три недели на гастроли в Англию. Мальчики и девочки, приехавшие в Краснодар из Перми, Омска, Воронежа, Санкт-Петербурга, Киева, получавшие жалкие 600-700 рублей в месяц, жившие в общежитии, благодаря Григоровичу увидели мир. Пожалуй, впервые труппа, созданная в российской провинции великим мастером, имеет успех в западном мире. Газета «Нью-Йорк таймс» поместила роскошную статью о гастролях Краснодарской молодой труппы. В Москве этого почти никто не заметил.
Поставив с молодыми, неопытными танцовщиками свои балеты, Григорович сохранил и живописное видение мира: его образы не придуманы, они увидены глазами художника. Его в Москве упрекали, что он все время повторяет старое, а он в Краснодаре поставил новую «Тщетную предосторожность», показал «Золотой век» на музыку Шостаковича. Из трехактного балета Григорович сделал двухактный, иначе выстроил первый акт, а исполнители главных ролей (особенно мужских) восхитили своим мастерством и отточенной техникой. Прошло пять лет с того дня, как я впервые видел эту труппу. Теперь ее не узнать.
В Москве в Большом главного балетмейстера, по существу, нет, худруком балета является Борис Акимов, талантливый танцовщик, воспитанный Григоровичем, занимавший в труппе Большого театра в его «золотую эпоху» далеко не первое место. Все понимают, что второго Григоровича в России нет, но, пригласив его на постановку «Лебединого озера» (имеющую в мире громадный успех), дирекция театра, Акимов, да и нынешний министр культуры «опасаются» широко использовать его в Большом, им так удобнее и спокойнее, а жизнь балетной труппы катится по наклонной вниз. То поднялся шум из-за очень слабого балета «Дочь фараона» с бездарной музыкой Пуни, и пресса готова была растерзать крупнейшего дирижера России Геннадия Рождественского, выступившего против этого балета и снявшего его из репертуара; теперь балет восстановили и можно воочию убедиться, как прав был Рождественский. То пригласили Ролана Пети восстановить свой очень старый опус сорокалетней давности «Пиковая дама» с блистательным Николаем Цискаридзе и Ильзой Лиепа с ее природным артистизмом, но танцевать по законам классического балета в этом спектакле необходимости нет.
Григорович сегодня от Большого далеко, и то, что это беда, поймут, когда уже ничего нельзя будет поправить. Враги Григоровича, те, кто не в силах был выдержать его диктат, его требовательность, его непримиримость, считали, что с его уходом переменится ход истории балета Большого театра, но детали будущего видели очень условно. Искусство мастера считали чуждым и обреченным, а он не вел бой с новоявленными критикессами, Гаевским, министром и новым руководством Большого театра, он работал.
Когда я узнал его близко, то увидел одинокого человека огромного ума, очень образованного, властного, сильного, мужественного и бесконечно талантливого. Семь лет без Григоровича оказались бедой для Большого театра. Теперь его приглашают в Большой: восстановил «Лебединое озеро», «Легенду о любви». Нашлись критикессы, написавшие пасквиль на «Легенду», а это абсолютный шедевр, гениальный балет, имеющий фантастический успех у публики.
«Легенда» была поставлена в 1961 году. Узоры жестов и поз, сложнейшие психологические портреты и сегодня потрясают зрителей. Даже Гаевский писал когда-то, что Григорович – один, что «ему нет равных ни среди молодых, ни среди старших, европейские масштабы его дарования не вызывают сомнений». И в этом году при возобновлении «Легенды о любви» ни у кого в зале, кроме жалкой кучки балетных журналистов, пишущих с завидным постоянством отвратительные, клеветнические заметки, не было сомнений, что на сцену вернулся великий балет.
Вернулся балет, но не вернулся Григорович. У него впереди контракт в Гранд-Опера в Париже: постановка «Ивана Грозного» и, может быть, трех новых балетов на музыку Шостаковича.
Единственный прижизненный классик балета работает в России в Краснодаре, а не в Большом театре.
Россия похоронила Светланова, потеряла Рождественского, Ростроповича, Григоровича, на смену пришли – за редким исключением – художники третьего сорта. Грига по-прежнему упрекают, что он повторяет все то, что делал раньше, что нового ничего не ставит, а когда он захотел поставить три новых балета на музыку Шостаковича в Большом театре, то руководство заколебалось, и он сразу принял предложение уехать в Париж в Гранд-Опера, где осенью 2003 года начнет ставить свой гениальный балет «Иван Грозный». Почему можно приглашать Ролана Пети с его старыми постановками, но не нужно возобновлять на сцене Большого «Золотой век» или «Ивана Грозного»? На этот вопрос дирекция Большого театра не сможет ответить.
Наблюдаю жизнь Григоровича и его жены, выдающейся балерины Наталии Бессмертновой, она была примой в Большом театре почти тридцать лет, и восхищаюсь их умением жить своей собственной жизнью, вне суеты, вне «тусовки», отдельно, по собственным правилам и собственным законам. Григорович никогда не сказал ни одного дурного слова ни о Майе Плисецкой, написавшей в своей книге главу, полную оскорблений в его адрес, ни о Васильеве, ни о Максимовой, ни о тех, кто позволял себе выходить за рамки приличия. Он хорошо знает, что никто из них: ни Васильев, ни Лавровский, ни Годунов, ни Владимиров – никогда бы не состоялся, если бы не он. И Марис Лиепа сыграл свою великую роль Красса в балете «Спартак», и Наталия Бессмертнова станцевала свои абсолютные шедевры – Анастасию в «Иване Грозном» и Ширин в «Легенде о любви», и Юрий Владимиров проявил себя как большой художник в «Иване Грозном». И все это создал Григорович силой своего великого дара. Его балеты по-прежнему современны, только надо отделять современность от злободневности, дух новаторства от тех новинок, которые десять лет спустя кажутся старомодными.
Юрий Николаевич бывает мрачным, нелюдимым, говорят, что был сильно подвержен влиянию тех, кто находился рядом, но озлобленным я его никогда не видел. Взрывчатым видел, злым – нет.
Сегодня не время мощных индивидуальностей. Читаешь газеты, смотришь телевизор и видишь, кто на авансцене Времени. Пошел смотреть недавно «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда в Театре на Малой Бронной. Постановка Андрея Житинкина. Умный сорокалетний человек. Добрый и хороший, но его интересует только паблисити. Прочел его интервью в газете «Коммерсант»: «Захаров, Виктюк, Эфрос и Житинкин – это уже бренд». То, что это бред, ему не пришло в голову. Еще до того, как его назначили главным режиссером в Театр на Малой Бронной, он поставил американскую пьесу «Нижинский» в переводе моего близкого друга Александра Чеботаря. Благодаря очень одаренному артисту Александру Домогарову спектакль имеет большой успех. Сюжет, судьба Нижинского, сложности личной жизни – все привлекло зрителей, и Андрей Житинкин стал терять ориентиры. Его постоянный художник Андрей Шаров оформляет сцену и костюмы ярко и пестро, о вкусе говорить не приходится, но не было ни одной радиостанции, ни одной газеты, где не звучала бы фамилия Житинкин. А ведь это театр, где творил Эфрос, один из самых великих режиссеров конца прошлого века. Он работал в Театре на Малой Бронной почти два десятилетия. Все переменилось.
Начинаешь привыкать к небрежности, грубости, ремесленничеству. Жажда публичности стала бедой эпохи. Образованные люди тянутся к «низким» жанрам. Теперь мало у кого есть время, чтобы выслушать, задуматься, понять. Возникла эпидемическая мода на Акунина, Татьяну Толстую, Виктора Пелевина. Они пишут без снисхождения, без жалости. Кого занимает интрига действия, кого – нет. Герои выглядят как коллекция забавных насекомых. Иногда прорываются человеческие чувства, и они ослепляют, «как прогалины в лесу».
Думаю, во всем этом есть закономерность истории. Сегодня идеалы иссякли, нет сил даже на энергию протеста, общество распалось на сотни несоединимых слоев. Нет ни героев, ни антигероев. Телевизионные сериалы демонстрируют бесчисленные криминальные истории, на первом плане – агрессия. Возникло циничное, пародийное замещение пустующего места для героя, то, что и должно было быть, – «отстранение». Гуманизм оказался бессильным перед убийствами.
Мы живем в странный переходный период, когда можно не очень серьезно отнестись к героям бульварных романов, к «демоническим личностям», ко всему тому, что называют «супер». Все эти «суперзвезды», «супергерои» приведены на грань пародии, и во всех этих «новых романах», «новых фильмах», «новых пьесах» есть своя эстетика. Это эстетика «торжествующего техницизма, шикарного модерна, это поэтика великолепных вещей, рациональных конструкций» (выражение Майи Туровской) и небывалых ситуаций. Сегодня в моде все то, что роскошно и чего не бывает на свете, и это часто остроумно, забавно и умопомрачительно, чем опьяняются молодые люди, начинавшие с нуля и за последние десять лет добившиеся необычайных успехов. Экстра, супер, модерн – вот что родилось в нынешней литературе, фильмах. Пошлость и неожиданный пародийный эффект. Чуточку не всерьез.
Естественно, что и театр не остался в стороне. Исчезла авторитетность критики, она перестала иметь то значение, какое имела прежде. Хотя новое поколение знает немало ярких имен: Роман Должанский и Григорий Заславский; любопытно читать Алексея Филиппова и Марину Давыдову. Это театральные критики, а не театральные журналисты.
Меня занимает сегодняшнее время. Я прекрасно понимаю, что ушла та эпоха, которую люблю вспоминать. Прожито много разных жизней. Сегодня все другое.
В театральном искусстве сейчас заявили о себе талантливые актеры. В Вахтанговском театре: Мария Есипенко, Юлия Рутберг, Максим Суханов, Мария Аронова, Евгений Князев, Сергей Маковецкий. Но все они зависимы от режиссуры и драматургического материала. Смотрю «За двумя зайцами» (режиссер Горбань). В главной роли – Мария Аронова, но спектакль грубоват, и его нельзя сравнивать даже с очень плохими пьесами Софронова, поставленными когда-то Рубеном Симоновым на сцене Вахтанговского театра, «Стряпуха» или «Стряпуха замужем». То были мюзиклы, изящные, веселые, сыгранные с блеском.
Несколько лет назад Леонид Трушкин, ставший режиссером (в прошлом слабый артист Театра имени Маяковского), поставил нашумевший «Вишневый сад». Успех был у публики очень большой, но ощущение безвкусицы не покидало меня, хотя Фирса играл великий Евстигнеев, а в роли Раневской была любимая мной Татьяна Васильева. Десятки режиссерских находок, не слитых воедино, открытая полемичность, способы шокового воздействия на зал, дерзкая экстравагантность Раневской – Васильевой и полное отсутствие цели и смысла. Спектакль не вызывал ни переживаний, ни потрясения, ни стрессов, к чему стремился режиссер. Обнаженное античеховское начало пронизывало этот, не забытый мною, «Вишневый сад».
Первым режиссером театральной Москвы сегодня называют Фоменко. Петр Наумович Фоменко – выдающийся режиссер, живущий в себе, с собой и собой. Он знал триумфы и неудачи. В 1966 году прогремел спектаклем «Смерть Тарелкина» на сцене Театра имени Маяковского. Его изничтожали, вскоре режиссер уехал из Москвы. Работал в Тбилиси, в Ленинграде. За годы работы в ленинградском Театре комедии поставил обаятельный, удивительно музыкальный, внутренне и внешне пластичный спектакль «Этот милый старый дом» по пьесе Арбузова. Все это было тридцать лет назад. Потом опять удачи, неудачи, полупобеды, полупоражения. В начале 80-х он сотворил замечательные «Плоды просвещения» в Театре имени Маяковского, но триумфы были впереди.
В 1993 году Фоменко поставил гениальный спектакль – «Без вины виноватые» в Вахтанговском театре. Потом со своими учениками создал «Мастерскую Фоменко». Овации не умолкали. Сосредоточенность в себе не помешала ему стать большим режиссером. Сегодня он один из лучших режиссеров нашего времени, лидер по таланту. Его всегда привлекали загадки чужих судеб. Манящая театральность, ироническое сопоставление разных содержаний, склонность к гротеску и редкая внутренняя пластичность позволяют ему говорить со сцены полным голосом, освобождаясь от случайных подробностей. Я очень любил его спектакли «Государь ты наш, батюшка» по роману Горенштейна «Детоубийца» и «Чудо святого Антония» Метерлинка в том же Вахтанговском театре, хотя успеха они не имели. Но дерзания Фоменко продолжались. Сегодня он ставит у себя в театральной Мастерской на маленькой сцене в маленьком зале. Тут действуют совсем другие законы сценического восприятия. В спектаклях Петра Наумовича ощущаешь вдохновение и точность летописца и ранящее душевное беспокойство. Он никогда не шел прямой дорогой. «Он подымался в гору, и его путь был петлями», – писал Илья Эренбург о Мейерхольде. Мне это вспомнилось, когда я заговорил о Фоменко.
Сила русского театра всегда была в лиризме, в тонкой психологической игре. Ее продемонстрировали на театральной Олимпиаде прошлого года… австрийцы, поставившие «Чайку». Незабываемый спектакль, напомнивший мою юность, увлечение старым МХАТом. Я мечтал в те годы войти в его зрительный зал, побродить по сумрачным коридорам, увидеть портреты мхатовских артистов.
Этой, близкой моей душе, актерской игрой я наслаждался, когда пошел смотреть Ольгу Яковлеву и Табакова в «Любовных письмах». «Муза» Эфроса, первая актриса его театра, и сегодня удивляет своим тончайшим мастерством. А когда увидел Яковлеву и Табакова в «Кабале святош», подумал, как изменился МХАТ, театр, о котором когда-то мечтал, чтобы он стал «своим». Мне повезло. МХАТ постепенно и стал «своим», но потом с годами все это ушло.
Сегодня я прихожу во МХАТ имени Чехова как в место, где у меня много знакомых, но это уже не «мой» театр. Другая жизнь.
Вспоминаю, что застал МХАТ при переходе в ефремовский период с его надрывом и равнодушием, с мелким подходом к большим событиям, с жестокостью и раскаянием, с тоской и мыслями об искусстве. Конец этого периода оказался горьким и шумным.
С Олегом Ефремовым я в ту пору виделся уже довольно редко, в последние годы перед его концом мы ежедневно встречались, только когда я приезжал отдыхать в санаторий «Подмосковье». Он уже очень сильно болел, ноги – как спички, ходить ему было тяжело, дышать не мог, на столике стоял аппарат искусственного дыхания, он сидел у телевизора с трубочками в ноздрях. Смотреть на него было горько, мы часами сидели молча, уткнувшись в телевизор, или выходили на балкон, и только на воздухе он оживлялся и начинал разговаривать. МХАТ старались не обсуждать. Последний раз я видел его в санатории в 1999 году, потом только изредка говорил по телефону. Рядом с ним была Ирина Корчевникова, заместитель директора (теперь директор музея МХАТа), человек открытый. Помогала Ефремову как могла. К нему приезжали Слава Ефимов (при Ефремове директор МХАТа), дети: Настя и Миша. Но ощущение его одиночества не покидало меня.
Я помню время, когда его очень любили – и друзья, и незнакомые, им восхищались, он был признанным лидером. В жизни его было много любви.
Когда Табаков уже после его смерти решил восстановить ефремовскую «Чайку», то первая мысль, пронзившая меня, была о том, как много в режиссуре любви. Тогда в 1980 году Нину Заречную играла красавица Анастасия Вертинская, с ее мнением Олег считался, в те годы она имела на него сильное влияние. «Чайку» он посвятил ей. В первых трех актах в ней были прелесть и очарование молодости. В последнем – становилось очевидно, что в душе Нины смятение. Актриса играла резко, умно, почти зло произносила монолог: «Он не верил в театр, все смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом…» В этом акте все уходило в подтекст, ансамблевый стиль только подчеркивал глубину замысла. Несчастный Треплев, обреченный на самоубийство, и Нина, которая будет жить, страдания только закалили ее.
Когда Олег Табаков, все время выясняющий свои, как обнаружилось, мучительные отношения с великим Олегом, дал роль Нины молоденькой актрисе из «Табакерки», то замысел Ефремова испарился. Не помог и талантливый, очень обаятельный и, как теперь говорят, «предельно раскрученный» Евгений Миронов, сыгравший свою далеко не лучшую роль. Его Треплев – нервный и искренний юноша, но в нем нет пронзительности и невыносимых мучений, а без Нины и Треплева нельзя почувствовать острый драматизм чеховской «Чайки».
Первое десятилетие ефремовского МХАТа было очень успешным, и расхождения между Ефремовым и частью труппы были не очень заметны. Даже в начале 80-х годов было много радостного. Вспоминаю гастроли в Алма-Ате в 1982 году.
Я ездил со МХАТом, потому что придумал творческий вечер А.И. Степановой: в первом отделении я рассказывал об ее творческом пути, после чего она играла с Игорем Васильевым сцену из первого акта «Сладкоголосой птицы юности», во втором отделении я рассказывал об Уильямсе, и они играли финальную сцену.
С этим вечером мы объездили много городов. Забавных случаев было немало. Так, в Одессе мы выступали в каком-то Дворце культуры. Администратор долго в машине рассказывал Ангелине Иосифовне, как он любил Тарасову. Мы с Игорем Васильевым боялись пошевельнуться, но Степанова выслушала его монолог и промолвила: «У вас хороший вкус». Администратор не заметил своей бестактности. После вечера пошел сильный ливень, машины нам не дали, и Ангелина Иосифовна предложила мне пройтись пешком, а идти надо было около получаса – мы жили в гостинице «Лондонская». У нее был зонтик, и она считала, что ничего страшного нет. Пришли в гостиницу промокшие насквозь и очень голодные, но в ресторан никого не пускали, он был забит людьми. Для Героя Социалистического Труда сделали бы исключение, но у Степановой с собой не было ни удостоверения, ни планки Героя, и она предложила мне подняться к ней в номер. У нее был кофе и четыре печенья. В ту самую ночь в Одессе я впервые услышал от нее рассказ о смерти Александра Фадеева и о том, как она узнала об этом. Тогда я и решил написать о ней книгу.
Так вот, мы были с концертом и в Алма-Ате. Я жил в большой и очень хорошей гостинице (естественно, хорошей по тем временам), Л.И. Эрман – там, где все актеры и постановочная часть, а народные артисты, Ефремов, Смелянский и часть дирекции – в правительственной резиденции.
Было тепло, роскошные базары, цветы; все нежились на солнце, и спектакли имели громадный успех. На «Тартюфа», поставленного Эфросом, нельзя было достать билет. Вертинскую и Калягина публика принимала фантастически. Спектакль был блестящий. Только из книги Смелянского я узнал, что «Тартюф» многими не был принят и что Ефремову спектакль, кажется, не нравился. Мой друг Леня Эрман, работавший в те годы заместителем директора МХАТа, с немалым удивлением прочел об этом спустя двадцать лет после премьеры. Может быть, Ефремову «Тартюф» и не нравился, Олегу Николаевичу мало что нравилось, и тут дело было не в Эфросе, не в спектакле, а в том, что для Ефремова было существенно в театральном процессе. Может быть, было несколько «элитарных» критикесс, которые не принимали работу Эфроса. Но успех у «Тартюфа» был феноменальный и в Москве, и в Алма-Ате.
Читая в книге Смелянского об алма-атинских гастролях, я почувствовал, как устаешь от сатирических усмешек и иронии. Нельзя жить одним отрицанием. Но спорить с ним не стоит, скорее следует задуматься, почему на писаных страницах всё мельче того, что происходило в действительности. После прочтения «Уходящей натуры» остается ощущение, что и Ефремов, и все его окружение, и все то, чем он занимался, оказались побеждены Временем, редко озаряя зрителей светом искусства. Все на самом деле было гораздо сложнее.
То, что Ефремов пил, широко известно. Он начал пить еще в те годы, когда создавал «Современник», ставший одним из лучших театров Москвы, ошибок он наделал тысячи, и грехов у него было не меньше… Но и побед было очень много.
Смотришь его фильмы – великий артист, вспоминаешь его спектакли в «Современнике» – мощная режиссерская рука.
В те годы он проходил сквозь жизнеподобие Розова, Рощина, Зорина, Володина, сквозь богатство их психологических мотивов, вобрал в себя всю меткость их современных диалогов, что помогло ему потом, уже во МХАТе, прийти к условностям в чеховском смысле. В «Современнике» он увлекался политическими драмами Михаила Шатрова, поставил его «Большевиков». Для того времени это был очень смелый спектакль. Уже во МХАТе его горьковские «Последние» и чеховские спектакли: «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня» и, в конце жизни, «Три сестры» – глубокие, неромантического, а скорее интеллектуального склада – противопоставляли неустроенность внутренней жизни любому виду лжи. Ефремов и в жизненных ситуациях был смел, честен, жесток, но и добр, и умел говорить правду в лицо. Его душа казалась мне бездонным колодцем, куда заглянуть, особенно в глубины, было нелегко.
Волчек, Табаков, Кваша, Петр Щербаков, Сергачев, Толмачева, Дорошина, Мягков, Любшин, Покровская, Вертинская, Лаврова, Миллиоти – это его ученики, его учеником был и артист редчайшего дара – Евгений Евстигнеев. Театр «Современник» создал он, и помнить это надо всегда.
Волчек никогда бы не стала режиссером, если бы Ефремов не увидел в ней режиссерского дарования и не заставил ее поставить «Двое на качелях» Гибсона. Он дал возможность ставить на сцене МХАТа Додину, Каме Гинкасу, Эфросу, Чхеидзе, Виктюку – в советские, совсем непростые, времена. Он знал себе цену, знал свою силу, осознавал свои ошибки, только одни признавал, другие – нет.
Разделение МХАТа – его трагический просчет, но он с этим никогда не соглашался. Когда я сделал о нем телевизионную передачу в январе 1995 года, после эфира он позвонил мне и сказал: «Можно на меня и так посмотреть, но это серьезно, я только не согласен с тобой о разделении МХАТа, оно было необходимо». Он был в этом убежден, и идея разделения принадлежала ему, а не Анатолию Смелянскому, в чем того несправедливо обвиняют и что ему приписывают потому, что Смелянский был рядом с Ефремовым все двадцать лет и поддерживал все его начинания, во всяком случае, в первые годы работы с ним.
Когда на странице 219 книги Смелянского я прочел, как Ефремов, наклонившись к уху своей подруги, внятно и громко произнес: «Сейчас пойдем с тобой…» в знак протеста в присутствии ответственного работника ЦК КПСС, я не мог читать дальше… Ни на минуту не сомневаюсь, что все было так, как написал Смелянский, только возникает вопрос: зачем вспоминать именно это? Можно же быть более сдержанным и лаконичным, когда речь идет о человеке, которого уже нет на Земле.
Да, Ефремов, ненавидевший пошлость, мог во имя фрондерства позволить себе грубую вульгарность. Но надо ли выпячивать ее? Книгу читают люди, не знавшие Ефремова, далекие от него. Как бы ни были велики художественные раздоры и связанная с ними неприязнь, нельзя опускаться через год после смерти человека до желтоватых оттенков.
Нестерпимо больно за Ефремова, за то, что даже близкие люди после его смерти во имя желания написать социальный портрет ушедшей эпохи на примере внутренней жизни МХАТа потеряли способность сдерживать себя. В этом описании все выглядит правдиво и… неправдиво одновременно, но совсем не так, как было на самом деле, ведь жили в десяти планах… Главу о Ефремове писал совсем чужой ему человек, это стало очевидно после его смерти.







