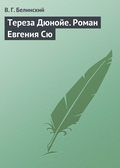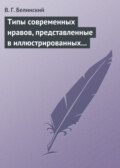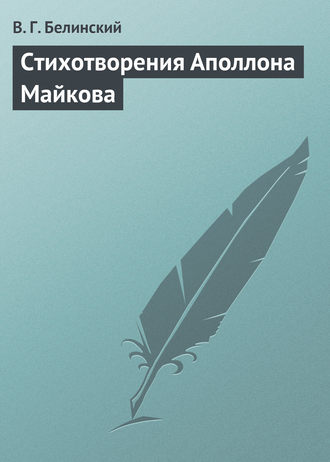
В. Г. Белинский
Стихотворения Аполлона Майкова
Стихотворения г. Майкова хоть и расположены без всякой системы, без всякого разделения, тем не менее они сами собою разделяются, в глазах читателя, на два разряда, не имеющие между собою ничего общего, кроме разве хорошего стиха, почти везде составляющего неотъемлемую принадлежность музы молодого поэта. К первому разряду должно отнести стихотворения в древнем духе и антологическом роде. Это перл поэзии г. Майкова, торжество таланта его, повод к надежде на будущее его развитие. Второй разряд составляют стихотворениям которых автор думает быть современным поэтом и которых лучшая сторона – хороший стих. Но об этих после; сперва поговорим о стихотворениях первого разряда.
Читателям «Отечественных записок» должно быть известно наше понятие о сущности и важности так называемой антологической поэзии, и потому мы, не желая повторять себя, будем говорить только о поэзии г. Майкова; тех же из читателей, которые не знают нашего понятия об антологической поэзии, попросим заглянуть в статью о «Римских элегиях Гете»[1]{7}. Теория антологической поэзии имеет такое близкое отношение к некоторым из стихотворений г. Майкова, что мы в помянутой статье выписали, как превосходнейший образец в антологическом роде, его дивно поэтическую, роскошно художественную пьесу «Сон»{8}, не зная, кому она принадлежит и написал ли автор ее еще что-нибудь. Эта пьеса была напечатана первоначально в «Одесском альманахе» на 1840 год, – и мы при разборе этого «Альманаха», еще задолго до статьи о «Римских элегиях», выписали в нашем журнале это стихотворение, скромно подписанное буквою М[2]. И – смотрите и судите сами – удивительно ли, что это стихотворение, без подписи знаменитого, или, по крайней мере, знакомого имени, поразило нас до того, что мы перенесли его на страницы своего журнала при громкой похвале и потом, с неослабевшим энтузиазмом, припомнили его через четырнадцать месяцев;
Когда ложится тень прозрачными клубами
На нивы желтые, покрытые скирдами,
На синие леса, на влажный злак лугов;
Когда над озером белеет столп паров,
И в редком тростнике, медлительно качаясь,
Сном чутким лебедь спит, на влаге отражаясь, —
Иду я под родной, соломенный свой кров,
Раскинутый в тени акаций и дубов,
И там, с улыбкой на устах своих приветных,
В венце из ярких звезд и маков темноцветных,
И с грудью белою под черной кисеей,
Богиня мирная, являясь предо мной,
Сияньем палевым главу мне обливает
И очи тихою рукою закрывает,
И, кудри подобрав, главой склонясь ко мне,
Лобзает мне уста и очи в тишине (стр. 9).
Это именно одно из тех произведений искусства, которых кроткая, целомудренная, замкнутая в самой себе красота совершенно нема и незаметна для толпы и тем более красноречива, ярко блистательна для посвященных в таинства изящного творчества. Какая мягкая, нежная кисть, какой виртуозный резец, обличающие руку твердую и искушенную в художестве! Какое поэтическое содержание и какие пластические, благоуханные, грациозные образы! Одного такого стихотворения вполне достаточно, чтоб признать в авторе замечательное, выходящее за черту обыкновенности, дарование. У самого Пушкина это стихотворение было бы из лучших его антологических пьес. В нем искусство является истинным искусством, где пластическая форма прозрачно дышит живою идеею.
Чтоб определить значение и достоинство антологической поэзии г. Майкова, мы должны указать на ее мотивы, найти в ней художническое profession de foi[3] автора. В следующих стихотворениях мы находим все это, ясно и ярко выраженное.
Сомнение
Пусть говорят – поэзия мечта,
Горячки сердца бред ничтожный,
Что мир ее есть мир пустой и ложный,
И бледный вымысл – красота;
Пусть нет для мореходцев дальних
Сирен опасных, нет дриад
В лесах густых; в ручьях кристальных
Золотовласых нет наяд:
Пусть Зевс из длани не низводит
Разящей молнии поток,
И на ночь Гелиос не сходит
К Фетиде в пурпурный чертог:
Пусть так! но в полдень листьев шепот
Так полой тайны; шум ручья
Так сладкозвучен; моря ропот
Глубокомыслен; солнце дня
С такой любовию приемлет
Пучина моря; лунный лик
Так сокровен, – что сердце внемлет
Во всем таинственный язык;
И ты невольно сим явленьям
Даруешь жизни красоты,
И этим милым заблужденьям
И веришь и не веришь ты! (стр. 120).
Остановимся на этом стихотворении и взглянем на него прежде, чем перейдем к другим. По содержанию – это превосходная пьеса; но форма не везде соответствует своему содержанию, и из-за поэтического, полного жизни и определенности языка местами слышится несвязный лепет не повинующейся слову мысли… Стих: «Что мир ее есть мир пустой и ложный» прозаичен; «И бледный вымысл – красота»: неопределенен и бледен; выражение о Зевсе, «низводящем из длани поток разящей молнии», неверно и в отношении к языку, и в отношении, к поэзии; «Лунный лик так сокровен» ничего не говорит ни уму, ни фантазии читателя, по причине неточности эпитета; «И ты невольно сим явленьям даруешь жизни красоты» – выражено слабо и неопределенно. Последние два стиха в пьесе прекрасны, но не вполне удовлетворительны по мысли: в них слишком много сделано уступки, вместо которой читатель самою пьесою настроен ожидать, что поэт определит и объяснит, почему неодушевленные явления природы производят на него впечатления живых индивидуальных существ, и в ярком образе, замыкающем стихотворение, примирит чисто поэтическое созерцание древних с нашим, на опыте и науке основанным, и все-таки поэтическим созерцанием природы. Но тогда бы эта пьеска была превосходным произведением искусства: так много в ней взмаху и отважного намерения, так много высказано стихами, которые мы оставили без замечаний. Но все это мы говорим мимоходом; главное в этом стихотворении для нас, по намерению нашей статьи, есть то, что исходный пункт поэзии г. Майкова – природа с ее живыми впечатлениями, так сильными, таинственными и обаятельными для юной души, еще не изведавшей другой сферы жизни…