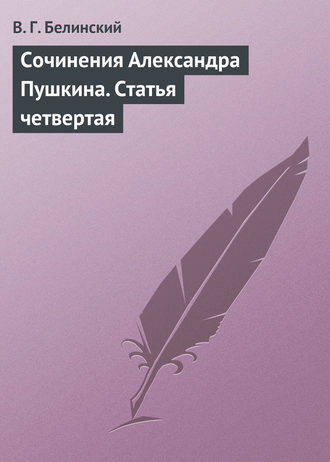
В. Г. Белинский
Сочинения Александра Пушкина. Статья четвертая
. . . . .
Те слогом Никона печатают поэмы,
Одни славянских од громады громоздят,
Другие в бешеных трагедиях хрипят,{10}
Тот, верный своему мятежному союзу,
На сцену возведя зевающую музу,
Бессмертных гениев сорвать с Парнаса мнит:
Рука содрогнулась, удар его скользит;
Вотще бросается с завистливым кинжалом:
Куплетом ранен он, низвержен в прах журналом:
При свистах критики к собратьям он бежит,
И маковый венец Феспису ими свит.
Все, руку наложив на том Тилимахиды,
Клянутся отомстить сотрудников обиды,
Волнуясь, восстают неистовой толпой.
Беда, кто в свет рожден с чувствительной душой,
Кто тайно мог пленить красавиц нежной лирой,
Кто смело просвистал шутливою сатирой,
Кто выражается правдивым языком
И русской глупости не хочет бить челом:
Он враг отечества, он сеятель разврата,
И речи сыплются дождем на супостата.
Читая эти стихи, невольно переносишься в то блаженное время нашей литературы, о котором теперь, за исключением пожилых и записных литераторов, немногие имеют понятие. В этом послании слог, фактура стиха, понятия, взгляд на вещи – все принадлежит времени, которое предшествовало Жуковскому и Батюшкову и проглядело их явление. Но тут есть нечто и самостоятельное, принадлежащее Пушкину, как представителю уже нового поколения: это жестокая нападка на Тредьяковского и, в особенности, на Сумарокова:
Ты ль это, слабое дитя чужих уроков,
Завистливый гордец, холодный Сумароков,
Без силы, без огня, с посредственным умом,
Предрассуждениям обязанный венцом
И с Пинда сброшенный и проклятый Расином?
Ему ли, карлику, тягаться с исполином?
Ему ль оспоривать лавровый тот венец,{11}
В котором восблистал бессмертный наш певец..
Веселье россиян, полуночное диво?
Нет! в тихой Лете он потонет молчаливо!
Уж на челе его забвения печать.
Предбудущим векам что мог он передать?
Страшилась Грация цинической свирели,
И персты грубые на лире костенели.
Замечателен еще в этом послании юношеский жар и рьяность, с какими Пушкин призывает талантливых певцов на брань с писаками. Он указывает им на Феба, сражающего Пифона, и требует мщения за погибшего жертвою зависти Озерова:
Лиющая с небес и жизнь и вечный свет,
Стрелою гибели десница Аполлона
Сражает наконец ужасного Пифона;
Смотрите! поражен враждебными стрелами
С потухшим факелом, с недвижными крылами.
К вам Озерова дух взывает: други, месть!
Вам оскорбленный вкус, вам знанья дали весть,
Летите на врагов – и Феб и музы с вами!
Разите варваров кровавыми стихами:
Невежество, смирясь, потупит хладный взор,
Спесивых риторов безграмотный собор…
В заключении молодой поэт решается, не боясь гонений и зависти невежд и рифмачей, «ученью руку дав», смело идти прямою дорогою… Это значило возвестить о себе довольно громко: последствия показали, что этот юноша имел полное на то право…
В пьесах: Наслаждение, К принцу Оранскому, Сраженный рыцарь, Воспоминания в Царском Селе и Наполеон на Эльбе заметно влияние Жуковского: в них преобладает элегический тон в духе музы Жуковского, стих очень близок к стиху Жуковского, в самом взгляде на предмет видна зависимость ученика от учителя.
«Воспоминания в Царском Селе» написаны звучными и сильными стихами, хотя вся пьеса эта не более как декламация и риторика. Такими же стихами написана и пьеса «Наполеон на Эльбе», содержание которой теперь кажется забавно-детским. Пушкин заставляет Наполеона «свирепо прошептать» разные ругательства на самого себя, превозносить своих врагов, а о себе самом отзываться, как об ужасном mauvais sujet[3]. Между прочим Наполеон у него свирепо прошептывает;
«Полнощи царь младой! ты двигнул ополченья,
И гибель вслед пошла кровавым знаменам,
Отозвалось могущего паденье —
И мир земле и радость небесам,
А мне – позор и поношенье!»
Чему удивляться, что шестнадцатилетний мальчик так смотрел на Наполеона в то время, как на него так же точно смотрели и престарелые, и возмужавшие поэты! Гораздо удивительнее, что этот мальчик через пять лет после того сказал о Наполеоне:
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит.
. . . .
Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал!{12}
Эти стихи и особенно этот взгляд на Наполеона, как освежительная гроза, раздались в 1821 году над полем русской литературы, заросшим сорными травами общих мест, и многие, поэты, престарелые и возмужалые, прислушивались к нему с удивлением, подняв встревоженные головы вверх, словно гуси на гром…
Но между «лицейскими» стихотворениями гораздо более ознаменованных сильным влиянием Батюшкова. Таковы пьесы: К Наталье, К молодой актрисе, Князю А. М. Горчакову, Осгар, Эвлега, Воспоминание (Пущину), Сон (отрывок), К молодой вдове, Мое завещание друзьям, Наездник, К. Г…у, Мечтатель, К. П..у, К. Б…у, Городок. Даже в пьесах, написанных под влиянием других поэтов, заметно в то же время и влияние Батюшкова: так гармонировала артистическая натура молодого Пушкина с артистическою натурою Батюшкова! Художник инстинктивно узнал художника и избрал его преимущественным образцом своим. Это показывает, до какой степени силен был в Пушкине художнический инстинкт. Как ни много любил он поэзию Жуковского, как ни сильно увлекался обаятельностию ее романтического содержания, столь могущественною над юною душою, но он нисколько не колебался в выборе образца между Жуковским и Батюшковым и тотчас же, бессознательно, подчинился исключительному влиянию последнего. Влияние Батюшкова обнаруживается в «лицейских» стихотворениях Пушкина не только в фактуре стиха, но и в складе выражения, и особенно во взгляде на жизнь и ее наслаждения. Во всех их видна нега и упоение чувств, столь свойственные музе Батюшкова; и в них проглядывает местами унылость и веселая шутливость Батюшкова. Пушкин занял у него даже любимые имена, и в особенности Хлою и Делию, и манеру пересыпать свои стихотворения мифологическими именами Купидона, Амура, Марса, Аполлона и проч., и любимые его выражения: цитерская сторона, девственная лилея и тому подобные. Вспомните стихотворения Батюшкова, заимствованные им из Парни, и потом послание «К П-ну» и сравните с ним пьесы Пушкина «К Наталье» и «К молодой вдове»: вы увидите в них Пушкина учеником Батюшкова.
Ночь придет – и лишь тебя
Вижу я в пустом мечтаньи,
Вижу, в легком одеяньи,
Будто милая со мной:
Робко сладостно дыханье,
Белой груди колыханье,{13}
Снег затмившей белизной —
И полуотверсты очи,
Скромный мрак безмолвной ночи —
Дух в восторг приводят мой!..
Я один в беседке с нею:
Вижу девственну лилею,
Трепещу, томлюсь, немею…
. . . .
Но, Наталья, ты не знаешь.
Кто твой нежный Селадон?
Ты еще не понимаешь,
Отчего не смеет он
И надеяться? – Наталья!
Выслушай еще меня:
Не владелец я сераля,{14}
Не арап, не турок я;
За учтивого китайца,
Грубого американца
Почитать меня нельзя.
Не представь и немчурою
С колпаком на волосах,
С кружкой, пивом налитою,
И с цыгаркою в зубах;
Не представь кавалергарда
В каске, с длинным палашом —
Не люблю я бранный гром:
Шпага, сабля, алебарда
Не тягчат моей руки.
По отделке и стиху это стихотворение слишком отзывается детскою незрелостию; но следующее и по стихам напоминает Батюшкова:
Лида! друг мой неизменный,
Почему сквозь легкий сон,
Часто негой утомленный,
Слышу я твой тихий стон?
Почему в любви счастливой
Видя страшную мечту,
Взор недвижный, боязливый,
Устремляешь в темноту?
Почему, когда вкушаю
Быстрый обморок любви,
Иногда я примечаю
Слезы тайные твои —
Ты рассеянно внимаешь
Речи пламенной моей,
Хладно руку прижимаешь,
Хладен взор твоих очей?
О, бесценная подруга!
Вечно ль слезы проливать?
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать!
Верь мне: узников могилы
Там объемлет вечный сон,
Им не мил уж голос милый,
Не прискорбен скорби стон.
Не для них весенни розы,
Сладость утра, шум пиров,
Откровенной дружбы слезы
И любовниц робкий зов!
Рано друг твой незабвенный
Вздохом смерти воздохнул,
И, блаженством упоенный,
На груди твоей уснул.
Спит увенчанный счастливец!
Верь любви – невинны мы —
Нет! Разгневанный ревнивец
Не придет из вечной тьмы;
Тихой ночью гром не грянет,
И завистливая тень
Близ любовников не станет,
Вызывая спящий день!
Пьесы: «Осгар» и «Эвлега» навеяны скандинавскими стихотворениями Батюшкова.{15} В то время пользовалось большою известностию действительно прекрасное послание Батюшкова к Жуковскому – «Мои пенаты». Оно родило множество подражаний. Пушкин написал в роде и духе этого стихотворения довольно большую пьесу «Городок».
Философом ленивым,
От шума вдалеке.
Живу я в городке
Безвестностью счастливом.
Я нанял светлый дом
С диваном, с камельком:
Три комнатки простые —
В них злата, бронзы, нет,
И ткани выписные
Не кроют их паркет;
Окошки в сад веселый,
Где липы престарелы
С черемухой цветут;
Где мне в часы полдневны
Березок своды темны
Прохладну сень дают;
Где ландыш белоснежный
Сплелся с фиялкой нежной,{16}
И быстрый ручеек,
В струях неся цветок,
Невидимый для взора.
Лепечет у забора.
Здесь добрый твой поэт
Живет благополучно;
Не ходит в модный свет;
На улице карет
Не слышен стук докучный;
Здесь грома вовсе нет;
Лишь изредка телега
Скрыпит по мостовой,
Иль путник, в домик мой
Пришед искать ночлега,
Дорожною клюкой
В калитку постучится…
Блажен, кто веселится
В покое, без забот,
С кем втайне Феб дружится
И маленький Эрот;
Блажен, кто на просторе
В укромном уголке,
Не думает о горе,
Гуляет в колпаке,
Пьет, ест, когда захочет,
О госте не хлопочет!
Подобно Батюшкову, Пушкин в этом стихотворении говорит о своих любимых писателях, которые заняли место на полках его избранной библиотеки. Только он говорит не об одних русских писателях, но и об иностранных:
Друзья мне – мертвецы,
Парнасские жрецы,
Над полкою простою,
Под тонкою тафтою,
Со мной они живут,
Певцы красноречивы,
Прозаики шутливы,
В порядке стали тут.
Сын Мома и Минервы,
Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый,
Ты здесь, седой шалун!
Он Фебом был воспитан,
Издетства стал пиит;
Всех больше перечитан.
Всех менее томит;
Соперник Эврипида,
Эраты нежный друг, ч
Арьоста, Тасса внук —
Скажу ль?.. отец Кандида —
Он все; везде велик
Единственный старик!
На полке за Вольтером
Виргилий, Тасс с Гомером,
Все вместе предстоят.
В час утренний досуга
Я часто друг от друга
Люблю их отрывать.
Питомцы юных граций —
С Державиным потом
Чувствительный Гораций
Является вдвоем.
И ты, певец любезный,
Поэзией прелестной
Сердца привлекший в плен,
Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!
Ты здесь – и Дмитрев нежный,
Твой вымысел любя,
Нашел приют надежный
С Крыловым близ тебя.
Но вот наперсник милый
Психеи златокрылой!
О, добрый Лафонтен,
С тобой он смел сразиться,
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты побежден![4]
Воспитанны Амуром,
Вержье, Парни с Грекуром
Укрылись в уголок
(Не раз они выходят
И сон от глаз отводят
Под зимний вечерок).
Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фонвизин и Княжнин.
За ними, хмурясь важно,
Их грозный аристарх
Является отважно
В шестнадцати томах.
Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкус,
Но часто, признаюсь.
Над ним я время трачу.
Кладбище обрели
На самой нижней полке
Все школьнически толки,
Лежащие в пыли,
Визгова сочиненья,
Глупона песнопенья,{17}
Известные творенья,
Увы! одним мышам.
Мир вечный и забвенье
И прозе и стихам!
Но ими огражденну
(Ты должен это знать)
Я спрятал потаенну
Сафьянную тетрадь,
Сей свиток драгоценный,
Веками сбереженный
От члена русских сил,
Двоюродного брата.
Драгунского солдата
Я даром получил.
Ты, кажется, в сомненьи…
Не трудно отгадать:
Так, это сочиненья,{18}
Презревшие печать.
Хвала вам, чада славы,
Враги парнасских уз!
О, князь, наперсник муз,
Люблю твои забавы;
Люблю твой колкий стих
В посланиях твоих:
В сатире – знанье света
И слога чистоту,
И в резвости куплета
Игриву остроту —
И ты. .
. . .
. . .
. . .
Как, в юношески леты,
В волнах туманной Леты,
Их гуртом потопил;
И ты, замысловатый
«Буянова» певец,
В картинах столь богатый
И вкуса образец;
И ты, шутник бесценный,
Который Мельпомены
Котурны и кинжал
Игривой Тальи дал!
Чья кисть мне нарисует,
Чья кисть скомпанирует
Такой оригинал!
Тут вижу я: с Чернавкой
Подщипа слезы льет.
Но назову ль детину,
Что доброю порой
Тетради половину.
Наполнил лишь собой!
О ты, высот Парнаса
Боярин небольшой,
Но пылкого Пегаса
Наездник удалой!
Намаранные оды,
Убранство чердаков,
Гласят из роды в роды:
Велик, велик – Свистов!
Твой дар ценить умею,
Хоть право не знаток;
Но здесь тебе не смею
Хвалы сплетать венок:
Свистовским должно слогом
Свистова воспевать;
Но убирайся с богом!
Как ты, в том клясться рад,
Не стану я писать.
Несмотря на явную подражательность Батюшкову, которою запечатлена эта пьеса, в ней есть нечто и свое, пушкинское: это не стих, который довольно плох, но шаловливая вольность, чуждая того, что французы называют pruderie[5], и столь свойственная Пушкину. Он нисколько не думает скрывать от света того, что все делают с наслаждением наедине, но о чем все, при других, говорят тоном строгой морали; он называет всех своих любимых писателей… Юношеская заносчивость», беспрестанно придирающаяся сатирою к бездарным писакам и особенно главе их, известному Свистову, также характеризует» Пушкина. —







