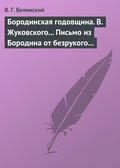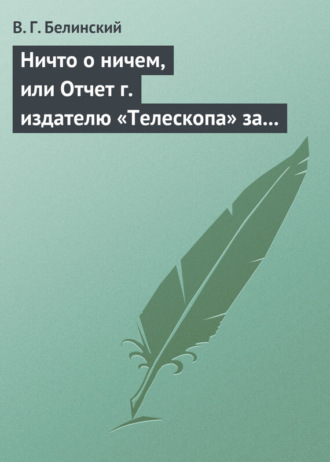
В. Г. Белинский
Ничто о ничем, или Отчет г. издателю «Телескопа» за последнее полугодие (1835) русской литературы
Народность в литературе!.. Позвольте мне, почтенный издатель «Телескопа», сделать здесь небольшое отступление от материи и оставить на минутку-другую г. Ушакова. Я хочу сказать, или, скорее, повторить уже сказанное мною когда-то о народности; этот предмет занимает теперь всех, вы сами пишете об нем, и потому я считаю теперь кстати подать и свой голос. Что такое народность в литературе? Отражение индивидуальности, характерности народа, выражение духа внутренней и внешней его жизни, со всеми ее типическими оттенками, красками и родимыми пятнами – не так ли? – Если так, то мне кажется, нет нужды поставлять такой народности в обязанность истинному таланту, истинному поэту; она сама собой непременно должна проявляться в творческом создании. Вы признаете большее или меньшее влияние индивидуальности поэта на его произведения, как бы они разнообразны ни были! Вы не станете отрицать, что чем дарование поэта сильнее, тем оно оригинальнее! Итак, если личность поэта должна отражаться в его творениях, то может ли не отражаться в них его народность? Разве всякой поэт, прежде чем он человек, не есть русский, француз или немец? – Возьмем поэта русского: он родился в стране, где небо серо, снега глубоки, морозы трескучи, вьюги страшны, лето знойно, земля обильна и плодородна: разве все это не должно положить на него особенного характеристического клейма? Он, в младенчестве, слышал сказки о могучих богатырях, о храбрых витязях, о прекрасных Царевнах и княжнах, о злых колдунах, о страшных домовых; он с малолетства приучил свой слух к жалобному, протяжному пенью родных песен; он читал историю своей родины, которая не похожа на историю никакой другой страны в мире; он провел лета своей юности среди общества, которое не похоже ни на какое другое общество; он принадлежит к народу, который еще не живет полною жизнью, но у которого настоящее уже интересно как шаг, как переход к прекрасному будущему, у которого это будущее еще в зародыше, еще в зерне, но уже так богато надеждами… Потом, если он поэт, поэт истинный, то не должен ли сочувствовать своему отечеству, разделять его надежды, болеть его болезнями, радоваться его радостями?.. Кто не согласится с этим, кто будет противоречить этому? – Итак, спрашиваю: может ли истинный русский поэт не быть русским поэтом, русским не по одному рождению, а по духу, по складу ума, по форме чувства, как бы ни глубоко был он проникнут европеизмом? – Да, почтеннейший издатель, если поэт владеет истинным талантом, он не может не быть народным, лишь бы только творил из души, а не мудрил умом, не брал работою?.. Возьмите Крылова: оставляя покуда в стороне вопрос о басне как художественном произведении и, смотря на него самого, даже не как на поэта, а как на краснобая, не видите ли вы в нем чистейшей народности, без всякой примеси тривьяльности; не доказывается ли его народность и живым сочувствием к нему народа русского, и его непереводимостью ни на какой язык в мире? – Теперь возьмем другую сторону, совершенно противоположную этой, возьмем «Онегина», лучшее произведение Пушкина: разве эта Татьяна, Ольга, этот Ленский, эти старики Ларины, эти провинциальные фигуры, Буяновы, Петушковы, Зарецкие, самый Онегин – разве они, будучи лицами типическими, человеческими и, следовательно, всемирными, не принадлежат исключительно к русскому миру, не взяты из русской жизни; разве, переменив их имена на Адольфов, Генриетт, Эрнестов, Амалий, вы не уничтожите их смысла, их значения? – Но – скажут, может быть, иные – это доказывает только, что поэт, зная хорошо свое общество, верно описал его, а не то, чтобы он был народен, потому что он так же бы верно мог описать и немецкое общество, следовательно, народность состоит во взгляде на вещи и формах проявления чувств и мыслей! – Так, милостивые государи, вы почти правы, но вот в чем дело: мог ли бы поэт верно описать свое общество, если б он не симпатизировал ему, если б не был участником его жизни, поверенным его тайн? Если ж он так же верно мог изобразить какой-нибудь эпизод из европейской жизни, это значит только, что мы, русские, также причастны и европейской жизни, как своей собственной. Что ж касается до народности собственно поэта, то вам стоит только попристальнее вглядеться в «Онегина», чтобы в мыслях и чувствах самого автора увидеть все элементы народности; чтобы признать, что только русский поэт, и притом в известный момент русской жизни, мог так мыслить и чувствовать, и так выражать свои мысли и чувства! – Наконец возьмем еще третью сторону, совершенно не похожую на обе первые, возьмем сочинения г. Гоголя. В них поэтизируется по большей части жизнь собственно народа, жизнь массы, и автору очень естественно было бы впасть в простонародность, но он остался только народным, и в том же самом смысле, в котором народен Пушкин. Отчего ж это? Оттого, что г. Гоголь поэт, что он владеет высоким и могучим талантом; оттого, что в его описании какой-нибудь глупой ссоры двух идиотов или пошлой жизни двух простаков я вижу взгляд на жизнь, взгляд грустно-шутливый; я воображаю, сколько в мире людей, которых жизнь проходит в мелочах эгоизма, в еде, питье и спанье и которые думают, что они живут и делают должное; воображаю, и мне становится грустно. Самые так называемые сальности и плоскости, которые у всякого другого были б неминуемо отвратительны, в повестях г. Гоголя отличаются какою-то грациею, смягчаются какою-то наивностью; встречая самые резкие из них, вы прощаете их автору, как прощаете гримасу прекрасной и любимой женщине! – Что же следует из всего этого? А то, что у кого есть талант, кто поэт истинный, тот не может не быть народным!
Но у кого нет таланта и кто захочет быть народным, тот всегда будет простонародным и тривьяльным; тот, может быть, верно спишет всю отвратительность низших слоев народа, кабака, Площади, избы, словом, черни, но никогда не уловит жизни народа, не постигнет его поэзии. Самым лучшим и самым живым доказательством этой истины может служить г. Ушаков. Он народен в пошло понимаемом смысле этого слова, но избавь нас бог от такой народности – она и так уж надоела нам! – Оставляя в покое народность творений г. Ушакова, я покажу здесь только их провинциальность и, следовательно, их важность для «Библиотеки для чтения». Очень жалею, что у меня нет теперь под рукой той книжки «Библиотеки», где помещена повесть г. Ушакова «Сельцо Дятлово»{17}. То-то славная, то-то чудная повесть! Вот уж истинно народная и совершенно провинциальная! В ней описывается прежалостная история, а провинция так любит жалостные истории; развязка ее счастливая, а провинция еще больше любит счастливые развязки. Если я только не совсем забыл, то дело, изволите видеть, вот в чем: один помещик взял себе на воспитание двух сироток, мальчика и девочку; едва девочка успела сделаться девушкою, как злодей лишил ее невинности. Она от него, кажется, скрылась и пропала из глаз его лет на десять. Что же? Он, кажется, опять пошел служить и, мучимый совестью, искал свою жертву, чтоб как-нибудь загладить свое преступление. Наконец, будучи уже майором, узнал ее в толстой богатой вдове-купчихе, женился на ней, начал пить вместе ерофеич, браниться с ней по-военному, а она с ним по-купечески; иногда доходило и до драки: он, как водится, справлялся с своею дражайшею половиною кулаками и пинками, а она, как водится, отделывалась от атак своего сожителя когтями и ухватами; проспавшись, они мирились, и таким образом в мире и любви прожили до глубокой старости. Брат ее был отдан в полк, и старый майор писал к нему поучительные послания, исполненные нравственности овощных лавочек и отличавшиеся канцелярско-мещанским слогом. Все это у г. Ушакова ужасть как мило и занимательно и поучительно для всех вообще читателей, для провинциальных в особенности. Потом в седьмой книжке «Библиотеки» уже за прошлый год, без вас, помещена другая повесть г. Ушакова: «Пиюша»{18}; эта повесть названа почтенным автором карикатурою и названа так небезосновательно. Ею-то займусь я здесь в особенности, потому что она для вас должна быть новостью.
Был жил в Москве Тихон Михеевич, сын небольшого чиновника, который оставил своему сыну душ с полсотни, плод взяточничества. Хотя почтенный г. Ушаков и не скрывает от своих читателей, что батюшка героя его повести был вор, однако замечает, что он «пользовался расположением и одобрением своих покровителей, дружбою своих товарищей и уважением всех знавших его». После чего почтеннейший г. Ушаков с удивительною наивностию прибавляет: «этот капиталец стоит нескольких ревижских душ!» Нечего сказать – хорош капиталец, хороша и логика!.. Тихон Михеевич до сорока пяти лет волочился за девушками, но шутницы всегда изменяли ему, и он после каждой измены со вздохом восклицал: «Ах, изменницы!» Когда ж ему минуло сорок пять лет, он не шутя задумал жениться на кубической, или, как замечает остроумный автор, эллипсоидической дурище, Липаше. Несмотря на то, что Тихон Михеевич не знал «французского языка и теорий изящного, он знал хорошо дела, любил чтение, в особенности был страстен к стихам, говорил хорошо, судил здраво и мастерски писал деловые бумаги». Мы должны прибавить еще, что он не только был мастер на деловые бумаги и любил стихи, но и сам был в душе глубокий поэт, чему доказательством может служить следующее четверостишие его работы, сделанное им для своей глупой и уродливой невесты: