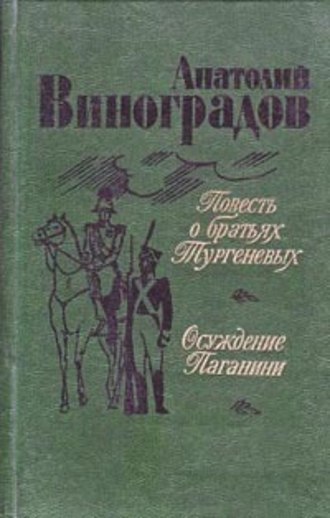
Анатолий Корнелиевич Виноградов
Повесть о братьях Тургеневых
Глава двадцать шестая
Огромный стол, красная суконная скатерть с гербами, золотые кисти и золотая бахрома до самого паркета. Кресло близко придвинуто к столу. Чернильницы, карандаши, белые листы бумаги, – все говорит о том, что заседание готовится, но еще не началось. Гоффурьер в белых атласных чулках неслышными шагами, как мышь, шмыгнул из двери в дверь. Старый толстый дворцовый камердинер вошел в залу и положил огромный портфель из зеленой крокодиловой кожи с балтийским золотым гербом и с надписью латинскими буквами: «Барон Розенкампф – Государственный совет». В двух шагах через комнату у дверей стояли часовые Преображенского полка. Это были какие-то каменные изваяния, священнодействующие фигуры, уставившие глаза в одну точку, держащие ружье у ноги, абсолютно неподвижные, щеголеватые, совершенно одинаковые друг с другом настолько, что их можно было принять за восковые фигуры, нарочно сделанные по одному образцу причудливым скульптором. За дверьми был кабинет царя. Через комнату рядом красная скатерть и кресла ожидали заседание Государственного совета. Через залу, гремя шпорами, прошел граф Уваров и скрылся в царском кабинете. Похожий на пятнадцатилетнего мальчишку, с оттопыренной верхней губой, щеками, как яблоки, он шел с видимым беспокойством, вид задорный и нахальный, всегда ему свойственный, на этот раз уступил выражению неопределенной робости, даже на часовых посмотрел, словно по лицам хотел узнать, каково там настроение за дверями. Через минуту дверь отворилась скрипя, вошли департаментские служаки с огромными портфелями и заняли столы протоколистов. Едва успели они расположить материалы, как в комнате появился светлейший князь Лопухин – председатель Государственного совета. Описав носом полуокружность в воздухе, презрительно скользнув по фигурам вставших при его появлении людей, Лопухин в нос пропел скорее, чем проговорил, коротенькую фразу:
– Пора бы начинать, а в комнате ни одного человека.
Повернулся на каблуках и вышел.
Вставшие при появлении светлейшего князя люди сочли замечание его светлости чрезвычайно справедливым. Они снова сели, взглянув на часы и совершенно не обращая внимания на то, что восклицание светлейшего князя трактовало их не как людей. Вскоре появились люди. Прихрамывая, вошел Николай Тургенев, за ним его брат Александр. Через минуту появился барон Розенкампф, хмуро посмотрел на Николая Тургенева.
– Я слышал, Николай Иванович, – сказал он, – что ваш «Опыт теории налогов» продается в пользу крестьян-бунтовщиков. Весьма сожалею.
– Не сожалейте, барон, – сказал Тургенев злобно, – доход от моей книги я могу тратить как угодно. Я трачу его на уплату недоимок, за которые беднейшие крестьяне сидят по тюрьмам, – вот и все.
Розенкампф осклабился.
– Жаль, что вы мало пишете, – едко отозвался он. – Ежели б было почаще, то, пожалуй, наше страдающее от злостных недоимщиков дворянство почитало бы вас спасителем.
Камердинер подошел к Розенкампфу и сообщил ему, что его требует к себе Лопухин. Розенкампф вышел. Зала постепенно стала наполняться людьми. Тургенев стоял у окна с братом Александром. Тот рассказывал Николаю о всех происках Розенкампфа, направленных против тургеневской семьи. Оленин, Милорадович, Данило Мороз, граф Кочубей жарко спорили между собой, постоянно переходя с русского языка на французский. Дверь отворилась, но вместо ожидаемого Розенкампфа все увидели Потоцкого. Потоцкий быстро прошел к Николаю Тургеневу и с волнением протянул ему синюю тетрадь со стихами. Это была поэма Байрона «Бронзовый век». Тургенев подвинул кресло, сел и начал читать вслух:
– "Бронзовый век", или «Юбилейная песнь бесславной годины». Эпиграф: «Impar Gongressus Achilli».
– Однако, – сказал Николай Тургенев, – Байрон играет словом «конгресс». «Стадное скопище все же не равно одному Ахиллу».
Несколько человек сгруппировались вокруг читающего. Тургенев прозой переводил байроновские стихи.[31]
За «добрым старым временем» вослед -
Вся быль – добро! Дела текущих лет
Пошли, в них все зависит лишь от нас;
Великое свершалось уж не раз,
И большего возможно в мире ждать.
Лишь стоит людям тверже пожелать;
Велик простор, безмерна даль полей
Для тех, кто полон замыслов, затей.
Не знаю, плачут ангелы иль нет,
Но человеку – так устроен свет -
Немало слез пришлось уже пролить.
Зачем? Чтоб снова плакать и тужить.
Звучные строчки английского текста, отчеканенные, четко произносимые Тургеневым, привлекли еще ряд слушателей. Тургенев дочитал до места, где говорится о греческом восстании. Греки подняли революцию против стамбульского монарха. И вдруг кто-то неосторожно произнес, прерывая Николая Тургенева:
– Ходят слухи, что Сергей Тургенев в Константинополе написал проект освобождения Греции от власти султана. Уж не этот ли проект в стихах вы читаете?
Увы, это не была шутка. Старый генерал – член Государственного совета – спрашивал совершенно искренне. Глупый генерал продолжал:
– Говорят, что в Константинополе вырезано четыреста тысяч христиан и что наша миссия пострадала.
Николай Тургенев слегка побледнел, но Александр Иванович перебил генерала:
– Слухи не подтвердились, ваше превосходительство. Я сегодня читал все официальные депеши. Однако продолжай, – обратился Александр Иванович к брату.
Тургенев читал дальше:
И Греция в свой трудный час поймет,
Что лучше враг, чем друг, который лжет.
Пусть так: лишь греки – Греции своей
Должны вернуть свободу прежних дней,
Не варвар в маске мира. Царь рабов -
Не может снять с народов гнет оков!
Не лучше ль иго гордых мусульман,
Чем плеть царя, казацкий караван!
Не лучше ль труд свободный отдавать,
Чем под ярмом у русской двери ждать,
В стране рабов, где весь «простой народ»
На рынках продается, словно скот,
И где цари свой подъяремный люд
По тысячам придворным раздают,
Его ж владельцам снится только ширь
Пустыни дальней – мрачная Сибирь;
Нет, лучше в мире бедствовать одним,
Лицом к лицу с отчаяньем своим,
И гнать верблюда в доле кочевой,
Чем быть медведю горестным слугой!
– Это про кого же он? – спросил все тот же генерал.
Потоцкий нервно протянул руку за книжкой. Тургенев отвел книжку, другой рукой опустил руку Потоцкого и читал дальше:
Кто это имя снова произнес,
Что, искупая горечь рабских слез,
Звучало там, где голос вечевой
Провозглашал свободным род людской?
Кто ныне призван в судьи дел чужих?
Святой союз, замкнувший все в троих!
Но этой троице чужд небесный лик.
Как гений с обезьяной не двойник!
«Святой союз», в котором здесь сложен
Из трех ослов – один Наполеон!
В Египте боги лучше: там быки,
Там псы по-скотски смирны и кротки:
На псарнях, в стойлах знают угол свой,
Там ждет их пойло, сложен корм денной;
Скотам в коронах мало корм жевать -
Они хотят кусаться и бодать.
Дверь отворилась, и вошел Розенкампф, хмурый и злой. Положив кипу бумаг на стол и видя, что Тургенев не прерывает чтения, подошел и стал слушать. Тургенев читал:
Царь Александр! Вот щеголь-властелин,
Войны и вальсов верный паладин!
Его влекут: толпы подкупный крик,
Военный кивер и любовниц лик;
Умом – казак, с калмыцкой красотой,
Великодушный – только не зимой:
В тепле он мягок, полулиберал, -
Он жесток, если в зимний вихрь попал!
Ведь он не прочь «свободу уважать»
Там, где не нужно мир освобождать.
Как он красно о мире говорит!
Как он по-царски Греции сулит
Свободу, если греческий народ
Готов принять его державный гнет!
Тут уже всем стало ясно, и глупому генералу в том числе, что речь идет о русском самодержце. Прямо от перечисления трех «коронованных скотов», собравшихся на конгресс в Вероне, Байрон перешел к сатирической характеристике царя Александра. Розенкампф закряхтел, кашлянул и сказал:
– Прошу занять места, господа! Стихи довольно дерзкие. Как Европу ни благотвори, все равно она благодарности в сердце иметь не будет. Российский государь спас ее – и вот европейский ответ.
– Российский государь породил мысли о человеческой справедливости, он же мечтал об освобождении крестьян, барон, – ответил Тургенев.
– Прошу докладывать по очереди, – предложил Розенкампф.
В скором времени Тургенев не выдержал. Разбиралось скандальное воронцовское дело, в котором один из Воронцовых обманом завладел землею однодворцев и в ответ на их жалобы затеял огромную судебную волокиту. Мордвинов, прерывая чтение письмоводителя, закричал:
– Да ведь такие дела стыдно слушать в Совете, тем более, что они уже решены, – и дал справку о приказе, буквально вырванном у Александра I.
– Мне стыдно, – сказал Мордвинов, – что от самого низу до самого верху дело справедливое и ясное ничего не создало, кроме кривых толкований. Люди, промучавшись по судам четыре года, могли бы умереть, не дождавшись справедливого решения. Поистине несчастна страна, в которой возможен такой произвол в решениях одного класса по справедливым требованиям другого класса! Если бы не воля государя, сегодня и здесь бы правильного решения не получилось, ибо вижу, что нас меньшинство.
– К чему горячность? – возразил Розенкампф. – Если так, то слушать дальше нечего: воля императора – закон.
Николай Тургенев в негодовании разорвал сверху донизу лежавший перед ним лист бумаги.
– Ваше превосходительство, кажется, недовольны? – обратился к нему Розенкампф.
– Решением я доволен, – сказал Тургенев, – но способом сего решения человек, чтущий закон, доволен быть не может.
– Переходим к дальнейшим, – заявил Розенкампф.
Вечером, возвращаясь домой, братья взяли извозчика и молча ехали до Невского. При повороте от военного министерства Николай Тургенев спросил:
– Что это за дурак в мундире так неудачно предлагал вопросы по поводу байроновской поэмы?
– Разве ты его не знаешь? Это брат Аракчеева. Надо тебе сказать, что лучше было бы, конечно, эту поэму не читать. Посмотри, как Розенкампфа передернуло. Кстати, она с тобой?
– Со мной, – сказал Николай.
Проезжая мимо Михайловского замка, Александр Иванович Тургенев внимательно смотрел на покои Татариновой.
– Так поздно, – сказал он, – а в окнах всегда этот странный свет. Посмотри, не кажется ли тебе, что это свет семи восковых свечей. Что там, молитвы, что ли, какие-нибудь поют?
Николай Тургенев пропустил это замечание мимо ушей. Он с любопытством рассматривал извозчика, когда тот оборачивался и скалил зубы.
– Ты чей? – спросил он.
– Его сиятельства графа Разумовского.
– Откуда? – спросил Тургенев.
– Деревня наша в Рамбовском уезде.
– На оброке? – спросил Тургенев.
– Да, платим по тридцать два рубля с ривицкой души; прежде меньше платили, да недавно граф увеличил оброк. Брату еще хуже приходится. Он на четыре месяца в Петербурге нанимает за себя работника и платит ему восемьдесят рублей, а восемь месяцев, воротившись, опять по три недельных дня на барщине, – это чтобы старые долги за отца его сиятельству заплатить извозчичьей выручкой.
– Как же вы живете? – спросил Николай Тургенев.
– Вот сына отняли да продали господину Альбрехту.
– Слышал о таком, – сказал Николай Тургенев.
– Как мы живем, как не помираем, одному богу известно, – продолжал крестьянин. – Как продали моего парня – нет работника в доме. Прибежит в праздник от господина Альбрехта – его деревня в четырех верстах от графской усадьбы – и давай просить хлеба. Никогда у них своего хлеба нет.
Николай Тургенев обратился к брату по-французски:
– Как не противиться таким помещикам уничтожению рабства? Что такое Разумовский? Я часто вижу эту глупую и безобразную образину на набережной и на бульваре: гуляет, ходит, чтобы с большею жадностью есть и лучше спать. В других государствах эти тунеядцы коптят небо без непосредственного вреда ближним – здесь они угнетают их, чтобы, чтобы... черт знает на что и для чего и в особенности почему. А этот Альбрехт, с пребольшим пузом, играет ежедневно в карты, в клобе, и фигура его цветет глупостию, скотским бесчувствием, эгоизмом!
Расплатились с извозчиком. Вошли к себе. Встретили Лунина и Чаадаева, расположившихся без хозяев. Лунин, молодой, блестящий, только что приехавший из Парижа, Чаадаев с оголившимся черепом и живыми, необычайно блестящими глазами, очевидно, беседовали уже долго и на Тургеневых посмотрели словно на какую-то помеху для разговора. Здоровались, приветствовали друг друга.
– Сенаторы! – кричал Лунин. – Прямо сенаторы! А я слышал, что сенаторская порода вымирает. Друзья, не миновать вам завести сенаторский завод – pour perpetuer la race[32].
– Перестань, Лунин, – говорил Чаадаев. – Хоть к этим-то не приставай – они не нынче-завтра поскользнутся на дворцовом паркете. Сенаторами им не быть.
Раздался звонок. Старуха Егоровна доложила, что пришли господин Муравьев, господин Яков Николаевич Толстой, господин Всеволожский и Пестель.
– Как это вы сошлись у двери? – спросил Александр Иванович.
– Вопрос негостеприимный, – ответил Всеволожский.
– Почему негостеприимный? – возразил Александр Иванович. – Напротив, я страшно рад видеть Павла Ивановича и...
– А нас он не рад видеть, – сказал Яков Толстой.
– Да нет, всех рад видеть. Придется иметь большой разговор о деле.
Яков Толстой подошел к Чаадаеву.
– Какие вести от Пушкина? – спросил он.
– Пишет редко, – ответил Чаадаев, – но написал кучу прелестей.
– Это вам он писал? – спросил Яков Толстой:
Товарищ, верь, взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
– Да, мне, – ответил Чаадаев. – А что?
– Мне он написал другое, – ответил Яков Толстой:
Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.
– Меня это не удивляет, – сказал Чаадаев, – уПушкина зоркий глаз, я ему верю: разным людям – разная судьба.
Подошел Лунин.
– Ну, так что это за случай в Семеновском полку? – спросил он, продолжая разговор.
– Да, я не кончил, – сказал Чаадаев. – Ведь командир полка Шварц – это совершенная скотина. Из-за его самодурства самый грамотный, самый скромный и, сказал бы я, самый гражданственный полк сейчас раскассирован.
– Правда ли, что там была читка запрещенных книг с офицерами? – спросил Яков Толстой.
– Не думаю, – сказал Чаадаев. – В солдатской лавочке, правда, продавали книги. Дело, конечно, в том, что Аракчееву не нравился товарищеский дух полка, тесная дружба с офицерством; на фоне событий в Неаполе и Пьемонте полк показался ему неблагонадежным. Они нарочно провокатировали движение возмущения, вместо внесения спокойствия. А когда первую роту посадили в крепость, то весь полк отказался выходить из казарм до полного воссоединения с первой ротой. Солдат, голодных и измученных, отвезли в Финляндию и заключили в Свеаборгскую крепость.
Лунин покачал головой.
– Это уж серьезно, друзья.
– Да, – сказал Николай Тургенев. – Дисциплина имеет свои пределы, так как права природы и рассудок имеют свое необходимое пространство. Хоть семеновское дело прошедшее, а все-таки не могу без содрогания вспомнить тот день, восемнадцатого октября двадцатого года, когда поутру полк проходил по Фонтанке. Я еще не знал, в чем дело, и спрашивал: «Куда?» – «В крепость», – отвечали солдаты. – «Зачем?» – «Под арест». – «За что?» – «За Шварца». Тысячи людей, исполненных благородства, погибли за человека, которого человечество отвергло.
– И еще миллионы будут гибнуть, – сказал Лунин, – за человека, который является воплощением лжи.
– Что же делать будем? – спросил Пестель. – Вводить испанскую конституцию, ограничивающую самовластие? Но, конечно, выведение рабов из крепостного состояния не может быть первою мерою правительства.
– Вот вы как смотрите, Павел Иванович, – сказал Николай Тургенев.
– Да, я так смотрю, – злобно возразил Пестель. – И вас мы заставим смотреть так же, если вы покоряетесь дисциплине общества.
– На будущее я смотрю иначе, – сказал Николай Тургенев. – Я изверился в самодержавии и не верю в конституционных монархов. Почитаю необходимым волею народа учреждение республики и высылку за границу всех представителей нынешней династии.
– Что, что, что?! – закричал Яков Толстой. – Это сильно, очень сильно. Но какой же вы молодец! Да, кстати, чтобы не забыть. Энгельгардт говаривал мне, что полицмейстер начал против нас дело о подкидывании каких-то вырезанных листков в казармы.
Николай Тургенев пожал плечами.
– Что делать? – сказал он. – Полицмейстер подкидывает клеветнические листки против меня. Ну, здесь все только свои. Откинемте шутки в сторону и вспомнимте, что вы послали меня в Москву для закрытия Союза благоденствия, что вы согласились со мною при самом учреждении союза выкинуть прусские параграфы о верности государю и династии. О чем тогда мы спорили? О том, чтобы члены Союза благоденствия, буде они помещики, обязывались содействовать освобождению крепостных. Вы этого не хотели. Вы настояли на своем. Этот пункт был выброшен. Неужели и теперь настаиваете на своем заблуждении, даже когда мы здесь организовали общество более стойкое, более крепкое, более решительное? В свое время ехал я в Москву, тая надежду на революционное решение Союза благоденствия. Я был председателем последнего собрания, и я уверился, сколь ненадежны были многие члены оного. Я поспешил с закрытием и роспуском Союза благоденствия лишь для того, что надежнейшие и вернейшие стали учредителями нового общества. Всем же остальным сказано было, что императору известно существование Союза благоденствия и что гнев его может настигнуть каждого. Как тогда проклинали меня москвичи, как называли изменником делу свободы.
Чаадаев подошел к Николаю Тургеневу и шепнул ему:
– Прекрати, друг, остановись, пока не поздно.
– Ну, что же, Александр Иванович, давайте угощать гостей, – закончил неожиданно Николай Тургенев.
Глава двадцать седьмая
Николай Иванович Тургенев с пером в руке сидел над рукописью и записывал медленно, с перерывами:
Мысли о составлении общества, под названием...
Приняты: Николаем Тургеневым.
Профессором Ал. П. Куницыным.
Предлагаются: Никите Михайловичу Муравьеву,
Федору Николаевичу Глинке,
Грибовскому (и другим).
Карандашом он приписал:
Иван Григорьевич Бурцов.
Павел Иванович Колошин.
Князь Александр Александрович Шаховский.
Александр Сергеевич Пушкин.
Александр Иванович с печатным листком в руке вошел к нему в кабинет и с видом крайнего огорчения сказал:
– Силанум, силанум, молчание на много лет! Прочти!
Это был высочайший рескрипт о закрытии всех масонских лож и о запрещении всяких тайных обществ. Братья обнялись. Александр Иванович сказал:
– Повидайся с Кривцовым, ты давно у него не был, и посоветуйся о будущем. Кстати, отдай ему книжки об иллюминатстве и масонстве Вейсхаупта. О масонстве, конечно, многие жалеть будут.
Николай Тургенев сказал:
– О масонстве, конечно, жалеть будут, но я считаю, что упоминание тайных обществ есть упоминание глупое. В самом деле, ежели оно «тайное», то, следственно, правительство о нем знать не может. И оно с правительством успешно бороться будет; а ежели оно правительству известно, то оно уже не тайное... Как бы я хотел уехать из России, – вдруг неожиданно перевел он разговор на другую тему.
Прошло некоторое время. Николай Иванович не выходил из кабинета. День был воскресный. В Государственный совет ехать было не нужно. Александр Иванович в шлафоре сидел внизу и читал газету. Посмотрев на часы и видя накрытый стол, удивлялся, почему брат не идет завтракать. Пошел наверх, постучал; не получая ответа, толкнул дверь. Николай Тургенев лежал на полу, далеко закинув правую руку назад. В величайшем волнении Александр Иванович приблизился к нему. Сердце почти не билось. Глаза были закрыты, веки и губы посинели. Быстро послал за доктором. Старичок Виллье – придворный врач – явился через час. Маленькая бричка, запряженная парой низкорослых лошадей (экипаж, известный всему Петербургу), долго стояла у подъезда на Фонтанке, прежде чем Виллье кончил свою операцию. Он выехал не раньше, чем Тургенев стал дышать полной грудью.
– У вас жестокая подагра, друг мой, – говорил он, поглаживая руку Николая Тургенева. – Вы много сидите – надо больше двигаться. Второй припадок может кончиться плохо, раньше чем успеют меня вызвать. Перемените образ жизни.
– Это очень трудно, – простонал Тургенев.
– Однако это необходимо, – ответил Виллье.
Александр Иванович с волнением всматривался в лицо брата. Виллье попрощался. Братья, оставшись наедине, долго молчали.
– Пойдите к Кривцову сами, – прошептал Николай Иванович.
Александр Тургенев, словно браня себя за забывчивость, ударил рукою по лбу и сказал:
– Пойду! Надо поскорее всех предупредить.
Прошла неделя, другая, а состояние здоровья Николая Тургенева не улучшалось. Временами он чувствовал себя еще хуже, но, сделав над собою большое усилие, он требовал от брата с настойчивостью здорового человека полного осведомления о всех происходящих в Петербурге событиях. Однажды Александр Иванович сидел у постели больного и в рассказе о состоянии «теперешнего Петербурга» вдруг неожиданно замялся и замолчал. Обостренная чувствительность брата Николая заставила его насторожиться. По интонации Александра Ивановича младший брат понял, что старший скрывает что-то. Николай приподнялся на локте, укоризненно посмотрел на брата и сказал:
– Во избежание ненужных моих догадок вы лучше говорите прямо то, что хотели от меня скрыть.
Александр встал и, отвернувшись к окну, сказал:
– Лабзин сослан.
– Куда? – спросил Николай.
– В Сенгилей.
– За что?
– По-разному говорят.
– Вот уже начались кары против масонов. Недалек день, когда нас, как покойного родителя, сошлют в синбирскую деревню, и будем ждать смены царства, которое опять-таки неизвестно что принесет.
– Я думаю, что не за масонство. Лабзин – старый испытанный мастер ложи. «Сионский вестник» он прекратил еще задолго до рескрипта. Силанум объявил еще в прошлом году, после чего ни братья, ни товарищи, ни мастера не имеют права давать знаки, узнавать и нарушать молчание. Я думаю, что здесь другое.
Вдруг Александр Тургенев начал громко смеяться. Николай строго смотрел на него, силясь понять причину этого неуместного смеха.
– Видишь ли, месяц тому назад была конференция Академии художеств, где Александр Федорович Лабзин был вице-президентом. Президент Оленин предложил трех графов: Гурьева, Аракчеева и Кочубея – в кандидаты академии. Думается мне, что это было на конференции тринадцатого сентября. Лабзин с упорством воспротивился этим кандидатам и спросил, за какие художества президент хочет покарать академию этими тремя недостойными кандидатами, добавив к этому, что «все три графа суть правительственные чиновники и ничего более». Оленин обиделся смертельно и, взывая к конференции, заявил, что он предлагает сих заслуженных мужей в Академию художеств, так как они близки к особе государя императора. Лабзин не угомонился и громко заявил: «Тогда я предлагаю самую близкую персону в академики – царского кучера Илью Байкова: он особо близок к государю и даже спиною к царю сидеть может!» На конференции произошел шум и смятение, а Лабзин потребовал занесения своего предложения в протокол. Оленин конференцию закрыл. Три графа в академию не прошли, а протокол Аракчеев положил в докладную папку императору. Вот тебе и ссылка!
Николай Тургенев стал хохотать.
– Лабзин подписывается буквами У.М., – сказал он, – «ученик мудрости», но поступок этот не весьма мудрый, а скорее ребячливый. В прежние годы государь не придал бы ему значения. Что произошло? Не понимаю. Мы все проглядели какой-то крутой поворот политики. Это наша вина. Очевидно, политика делает царя, а не царь – политику. Народы выросли и не хотят рабства. Цари умалились и лишились разума. Тяжелая судьба нашего отечества. Кривцов прав в своем свирепом республиканизме.
– Не верю я в русскую республику, – сказал Александр. – Из дела нашего ничего не выйдет, недаром Рылеев пишет:
Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа;
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
– Ничто справедливое не погибает, – сказал Николай Тургенев, – и Кондратий Федорович, конечно, прав, когда говорит:
Погибну я за край родной,
Я это чувствую, я знаю.
В этой смерти больше смысла, чем в бессмысленной жизни всего Петербурга. Но чувствуете ли вы, как переменился характер самого Александра, не правы ли были те, кто, как Лунин, говорили о непостоянстве этого характера? По внешности поворот политики не так силен, как силен он по внутреннему смыслу, по секретным действиям царя. Когда угодливость и подлость царедворства доходила до такой степени, как ныне? Прав благородный Лабзин, представляя в академики Илью Байкова. Байков благороднее и честнее Аракчеева. Он просто кучер, не имеющий ни злости, ни человеконенавистничества, он любит и холит вверенных ему лошадей с большим вниманием, нежели своекорыстная царская челядь заботится о врученных ей миллионах граждан. Честию клянусь, я подаю голос за Байкова.
Капли холодного пота проступили у Николая от негодующего волнения. Он откинулся на подушки и закрыл глаза. Александр с тревогою смотрел на это желтое лицо, синеватые веки и синие губы, покрытые белым налетом.
– Тебе плохо? – спросил он.
– Нет, не беспокойся, это лишь мгновенная слабость.
Немного полежав с закрытыми глазами, Николай Тургенев заговорил снова:
– Как много значат личные пристрастия в наше время! Кто мог бы сказать, что деловитая энергия Сперанского будет брошена в грязь из-за личной обиды царя на свободные суждения Сперанского? Кто мог бы сказать, что на весах государственности чашку перетянет не ум, способность и усердие, а покорность тупоумному распоряжению начальства, это подлое воспитание рабской страны? Боюсь, что оно скажется и тогда, когда века волею судеб сделают ее свободной.
– Ты все волнуешься, – сказал Александр Тургенев, – а тебе лучше заснуть.
– Не буду спать, – сказал Николай Тургенев. – Дай ты мне лучше послание северо-американского президента Монройэ Веронскому конгрессу. Странная это вещь. Если мы станем в эту позицию, что «Америка для американцев», «Франция для французов», «Англия для англичан», то будем иметь последствия печального национального эгоизма. Вместо помощи угнетенных народов друг другу мы будем свидетелями гнета больших над малыми.
– Ох, куда хватил! – сказал Александр Иванович. – Стало быть, ты стоишь за вмешательство одной страны в дела другой? В этом ты, пожалуй, сходишься с канцлером Меттернихом.
– Нет, – возразил Николай, – оставь, пожалуйста, это сравнение, громогласно от него отрекаюсь. Когда государственный канцлер монархии Габсбургов пишет русскому царю требование уничтожить Семеновский полк, якобы действовавший по поручению тайного революционного комитета карбонариев Европы, то согласись сам, что между мною и моим лозунгом солидарности больше внутренней гармонии, чем между Меттернихом, желающим отвести назад историю, и его стремлением навязать свою волю другим нациям и монархам.
* * *
У Трубецкого был бал. Сергей Петрович и Екатерина Ивановна Трубецкие созвали весь блистательный Петербург. Братья Тургеневы были в числе домашних друзей. Военные группы в пестрых и нарядных мундирах мешались с представителями штатской молодежи, архивных юношей и молодых последователей немецкой философии. Молодой человек в черном фраке, в белых атласных чулках и лакированных туфлях, смотря сквозь очки и не принимая участия в танцах, то молчал, то вдруг бросал едкое двустишье по адресу вальсирующей пары, а старшие представители ученой породы со смехом отзывались на эти колкие эпиграммы. Два человека, оба одинаково низкорослые, скромные и вкрадчивые, – Николай Греч и Фаддей Булгарин – хихикали по поводу каждой эпиграммы.
– А все-таки, Александр, – шупнул Булгарин своему соседу, – твоя комедия «Горе уму» не будет напечатана. Слишком шумный успех!
– Только ли потому? – спросил Грибоедов. – Не сами ли вы виноваты, пуская искаженные списки?
– Нет, душенька, нет, – говорил Булгарин, – я тут ни при чем. Я сегодня ценсора просил и умолял. Немыслимо, душенька, немыслимо! Ты знаешь, как я тебя люблю, последнюю рубашку за тебя отдам, руку отрубить себе позволю, но ничего, душенька, не выйдет, ничегошеньки, ничегошеньки, ничегошеньки.
Двое Пушкиных и Чаадаев проходили мимо. Василий Львович и Левушка ругались, отпуская друг другу нецензурные французские каламбуры. Очевидно, оба говорили еще недавно с Чаадаевым, который машинально шел за собеседниками, бросив глаза поверх нарядной толпы.
– Петр Яковлевич, – спросил Грибоедов, – что это у вас за поперечные полосы на эполетах?
– Отставка, голубчик, отставка, – ответил Чаадаев.
– Скажите, какая новость! – произнес Грибоедов.
– Для меня эта новость уже земскую давность получила.
– Я в столице недавно, – сказал Грибоедов, – простите.
Николай Тургенев и Сергей Петрович Трубецкой шептались друг с другом.
– Когда же кончишь замечания на «Русскую правду» Пестеля? – спросил Трубецкой.
– И не начинал, – ответил Тургенев. – Муравьевская «Конституция» мне кажется замыслом гораздо более важным. В Петербурге мы все прохлаждаемся; как штатские люди, посматриваем на нынешнюю погоду, а в Тульчине куют железо, пока горячо; там дело делают. Впрочем, полагаю необходимым рано или поздно произвести объединение всех тайных обществ. Нельзя, чтобы юг и север были так разобщены.
Яков Толстой танцевал с Екатериной Ивановной Трубецкой. Аксельбант и шнур лихо крутились в воздухе. Шпоры кругом звенели. Гремела музыка, угашая шарканье лакированных туфель и башмаков.
– Пишете еще какую-нибудь пьесу? – спросила Трубецкая.
– Как же, «Нетерпеливый» поставлен на театрах. Дозвольте прислать билет, княгиня?
– Обяжите, – ответила Екатерина Ивановна, вальсируя мимо группы, в которой стоял ее муж с Тургеневыми.
– Однако вы не праздно проводите ваше «праздное время», – сказала Екатерина Ивановна, намекая на сборник Якова Толстого «Мое праздное время».
– О нет, это сущие пустяки, а не занятия.
– Смотри, Сергей, как твоя супруга закружилась со старшим адъютантом штаба, – говорил Александр Тургенев Сергею Трубецкому.
– Этот старший адъютант штаба скоро, вероятно, станет нашим старшим адъютантом общества. Удивительно сильный политический темперамент.
– А по-моему, он пустомеля и человек ненадежный, – сказал Николай Тургенев. – А вот и «Полярная звезда», – добавил он и, прихрамывая, направился в сторону вошедших в залу Бестужева и Рылеева.
– Это черт знает что, – говорил Бестужев, – сначала сидел в негласном комитете, расписывал лазоревые потолки и розовые стены у царя-либерала, а сейчас едет громить Польшу и вести следствие об обществе филаретов. Лучшие люди братского племени будут раздавлены царским сапогом.
– О ком речь? – спросил Николай Тургенев.
– О Новосильцеве, – ответил Бестужев. – Как переменились времена и люди! Кто бы сказал после разных прекрасных слов на Варшавском сейме, что венценосный краснобай пошлет своего холопа Новосильцева разрушать то, что сам воздвиг.




