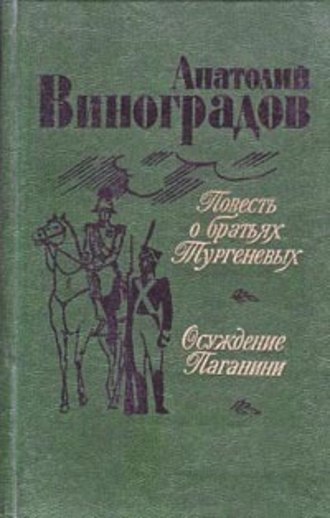
Анатолий Корнелиевич Виноградов
Осуждение Паганини
Перед выступлением он выпил стакан прохладительного питья, от которого странно застучала кровь в висках и защипало горло. Молодой польский пианист Шопен, с немым восхищением слушавший игру великого скрипача, после первой части концерта вошел под руку с Липинским в артистическую комнату и увидел Паганини с закрытыми глазами полулежащего в кресле. Он подошел, спросил, не может ли он чем-нибудь помочь. Паганини окинул взглядом его и Липинского. Липинский с ненавистью отвернулся. Паганини хотел поблагодарить Шопена, и несколько сиплых звуков раздалось вместо слов благодарности. Красные пятна смущения и удивления появились на щеках Шопена...
Липинский был разбит и во второй части концерта. Несмотря на отдельные крики: «Да здравствует Липинский!» – огромный зал рукоплескал Паганини.
Газеты всячески раздували вражду между двумя скрипачами, когда-то выступавшими в Турине как друзья.
Эльзнер, директор Варшавской консерватории, 19 июня устроил банкет в честь Паганини. Варшавские музыканты поднесли скрипачу небольшую памятку – золотой ларчик с надписью: «Кавалеру Паганини польские поклонники его таланта».
Наутро Паганини почувствовал себя хуже. Он начал думать о том, что Липинский сделал что-то, чтобы помешать ему играть на концерте, – но состояние было настолько плохо, что он не смог задержаться даже на этой мысли. Чтобы испортить впечатление от игры Паганини, было достаточно минимальных средств. Неужели Липинский пошел на преступление и решил его отравить?
В тяжелом состоянии был Паганини, когда генерал Зелыньский явился к нему в отель «Люксембург» с приглашением в Петербург и Москву. Паганини решительно отклонил это приглашение. Тревога за Ахиллино и боязнь за свое внезапно ухудшившееся здоровье заставляли его спешно покинуть Варшаву. «На гербе Вашего города – изображение сирены, – писал Паганини на белой дощечке. – Ваш город меня пленил совершенно. Но я обещал возвратиться вовремя».
Опять почтовая карета, и опять, как на пути в Варшаву, на сетке лежит кожаный мешок со стальными цепями и с огромными, свисающими на дощечках сургучными подвесными печатями. Среди прочих писем едет толстый пакет из голубой бумаги, с печатями и гербами. Он содержит следующий ответ ксендза Ксаверия Коженевского.
"Высокочтимый и преподобный брат!
Весьма благодарен за сообщение с исчерпывающей полнотой сведений о смерти мадемуазель Март. Судьба недаром занесла меня на родину моих отцов. Три поколения Коженевских воспитывались во Франции в недрах ордена Иисуса, и только последний отпрыск, я, сирота, перед богом и людьми (говорю это без ропота), снова нахожусь на земле моих отцов. Но, увы, я вовсе не чувствую того патриотического трепета, которым полны мои родственники по крови, чужие мне теперь люди и зачастую люди, враждебные церкви христовой.
Мой социус дьякон Кошерский сообщил мне целый ряд сведений, которые я Вам пересылаю, так как они для Вас скоро станут необходимыми. Польша, Литва и Петербург еще так недавно были местом наиболее удобного, наиболее легкого распространения деятельности нашего ордена. Увы, теперь наступили другие времена. Когда-то великая Екатерина в ответ на папское бреве 1773 года не дозволила публикацию уничтожения иезуитского ордена во владениях императрицы. Вот почему наша святая институция существовала в России беспрепятственно. Ее величеству угодно было не только не послушаться заблуждений Рима, но открыть новициаты нашего ордена.
Так все шло хорошо до 1815 года, когда Ваш неосторожный и слишком светский, – в этом отношении вы правы, – граф Жозеф де Местр стал вербовать на службу ордена старинных титулованных княгинь – Голицыну, Растопчину, Толстую и т. д. Разве можно было действовать так грубо!
Девять лет тому назад Александр I распорядился о высылке представителя нашего ордена. Много воды утекло за эти девять лет. Если бы орден наш существовал, то не было бы в Петербурге, почти перед самым дворцом, восстания дворянских полков, карбонарии, проклятые богом, не свили бы себе гнезда на Севере. Теперешний царь вряд ли справляется с внутренней политикой. Ему не до нас. Но открытой работы в Польше мы предпринимать на можем. Вот почему все мои надежды связаны сейчас с Францией. Так как я посылаю это письмо простой почтой, то имейте в виду, что я пишу настолько открыто, зная, что Вы обязательно уничтожите это письмо.
Вот каков ход событий. В 1825 году в Петербурге на Сенатской площади погибли последние карбонарии. Сейчас с нашей помощью начались облавы, уничтожающие в Польше масонские гнезда. Вчера нашим радением мятежные полки высланы в Сибирь.
Так как в Польше существует проклятое конституционное правление, то Николай I, нынешний император, перед своей коронацией, прошедшей благополучно в мае месяце этого года, должен был обратиться к сеймовому польскому суду. Этот суд не удовлетворил царя, да и вряд ли кого бы то ни было он мог удовлетворить. Я, будучи поляком по происхождению, считаю русского императора более правым, чем всех польских мятежников, чем тех ксендзов, которые, не желая найти общий язык с русским правительством, становятся на сторону сатанинских бунтовщиков. В той мере, в какой русский царь содействует укреплению римской католической церкви, мы и наш орден поддержим царя.
Его величество приехал в Варшаву с супругою, с братом Михаилом и наследником Александром. В замке, в сенатской зале, окончив обряд коронования польским королем, император Николай присягнул на верность польской конституции, потом он вышел к польским офицерам, представил им одиннадцатилетнего наследника, великого князя Александра как их однополчанина. Маленький великий князь был одет в польский мундир стрелкового полка, быстро и неуклюже говорил по-польски. Я сам был свидетелем всех церемоний. Члены польского сейма подали королю Николаю петицию об уничтожении стеснительных статей конституции. Король Николай заявил, что он считает господствующий в Польше кодекс Наполеона сатанинским правом. Он прямо сказал, – этот бонапартов закон основан на революции: он привел законного французского короля прямо на гильотину.
Так обстояло дело. Польский король Николай I выехал из Варшавы при полной холодности и даже враждебности большинства польских дворян. Сообщаю вам, что молодой профессор Викентий Смогловский задался целью воссоздания единого славянского государства во главе с Польшей. Он сформировал союз молодежи, который замыслил арестовать Николая I в дни коронационных торжеств в Варшаве. Смогловский сейчас выслан, равно как и многие другие. Часть этих высланных бежала и едет в Париж. Со следующей оказией сообщу Вам их списки.
Довожу до Вашего сведения все эти сообщения в силу того, что я точно осведомлен, вопреки Вашим плохим ожиданиям, что в Париже подготовляется истинное обновление Европы. Наш благочестивый король Карл X, коронованный в Реймсе, готовит, как мне известно, обновление Европы. Пройдет немного времени, и святая католическая церковь по молитвам святейшего кардинала Роотаана воздвигнет победоносный алтарь повсюду, где еще вчера революционное нечестие и якобинство имели свои гнезда. Лишь бы господь помиловал маркиза Полиньяка, ныне почетно сосланного в Лондон, лишь бы господь дал силы королю Карлу Х провести до конца закон о казни святотатцев, о восстановлении имущества, об организации новых коллегий, о полной передаче нам воспитания юного поколения французов.
В Вашем письме о кончине мадемуазель Март есть нотки глубокой печали чисто человеческого происхождения. Я советовал бы Вам побольше обращать внимания на исход борьбы, а не на собственные личные состояния.
У венского двора и французского двора есть общие задачи. Обратите внимание на следующее. В Париже и в Лионе существуют злочестивые гнезда, где якобинство и карбонарство заново выковывают гвозди для повторного распятия господа нашего Иисуса Христа. Вот почему наш святой, могущественный орден делится во Франции на две секции – парижскую и лионскую. На Востоке мы делимся также на виленскую и варшавскую секции. Обращаю ваше внимание на то, что в Польше сейчас есть движение умов, оправдывающее крайности патриотизма. Польша разделена на две части и приравнивается к распятому Христу. Воскрешение Польши считается делом религиозным, и все это омрачает умы не только молодежи, но многих почтенных и старых дворян, представителей исконной польской знати. Все эти соображения, факты и планы я сообщил Вам только с той целью, чтобы Вы знали местные настроения и своевременно могли сообщить мне о том, как и когда должен произойти французский переворот, возвращающий Европу ко времени Людовика Святого.
Я очень оценил последние строчки Вашего письма. Имейте в виду, что Польша с надеждой взирает на Францию, что только французский король в состоянии возродить в Польше ту незыблемую власть церковного авторитета, которая была эпохой наибольшего счастья для всего исстрадавшегося человечества. Помните, дорогой мой, что правительства и системы меняются, а церковь остается вечной.
Теперь одно маленькое дело. В Варшаву приехал сконцертами некий Паганини. Я вам писал уже о том, что двадцатилетний дворянин из Варшавы Фредерик Шопен собирается ехать во французский Вавилон. Отравленный музыкантом Цивней, одержимый дьяволом еврейским, этот блистательный юноша, с одной стороны, является истинным сыном церкви, с другой – одарен сатанинским талантом нынешнего века и бесконечной печалью о недостижимости земного счастия. Когда господин Шопен прибудет в Париж, обратите на него внимание и приставьте к нему хорошего духовника. Возможно, что мне удастся удержать его в Польше, если только действительно божие произволение не сменит королей Европы в ближайшие шесть месяцев и не помешает королю Карлу Х осуществить свой великий замысел – вернуть истерзанному якобинством человечеству времена Людовика Святого.
Я видел этих двух людей – господина Шопена и итальянского скрипача Паганини – вместе. Я случайно слышал их разговор. Как далеки их музыкальные стремления от величавой простоты и богоугодной музыки нашего органа! Воцаряется дух безбожной музыки, и сатанинский соблазн звучит в музыкальных инструментах и господина Шопена и господина Паганини. Оба они одержимы духом нынешнего века, князь тьмы простирает над ними свои крылья. Я сам видел, как набожные женщины, возвращаясь с этих нечестивых концертов, теряли присущую им простоту веры и были полны греховных волнений.
Все это наводит меня на серьезные размышления. Я пытался погасить впечатление от музыки этого страшного скрипача. Я выдвинул против него нашего представителя, члена нашего ордена, скрипача Липинского. Была ли то болезнь, или что-либо еще, но Липинский играл вяло, и землистый цвет его лица говорил о том, что он болен. И поэтому масоны и еврей Елеазар, по проискам якобинцев назначенный директором варшавской консерватории, вручили 19 июня «кавалеру Паганини» золотую табакерку с какой то трогательной надписью и с нечестивым знаком.
Я имею сведения, что было сделано все, чтобы господин Паганини выехал в Москву и в Петербург. Он отказался, несмотря на выгоду этих предложений. Я имею сведения, что господин Паганини отправляется в Париж. Не упускайте из виду эту опасную гадину. В Париж его зовут недаром. Но кажется мне, что он в достаточной степени хитер и не поедет в город, где вы сумеете приготовить ему на веки вечные полный провал, если восторжествует план Марсанского павильона святых отцов, покровительствующих Франции, и святого короля Карла X.
Я имею сведения о некоторых замыслах этого человека. Письмо это к Вам привезет молодой приверженец нашего ордена, представивший прекрасные рекомендации из Вены, каноник Нови, к которому я направляю его как к первичному адресату. А там он лучше меня расскажет Вам, кто такой этот скрипач. Нови и Паганини оба родом из Генуи. Как Вам известно, этот приморский порт издавна славился тем, что люди, посаженные в Генуе на галеры, не возвращались больше на сушу, однако Нови утверждает, и я ему верю, что господин Паганини был на каторге, что его шея до сих пор носит следы железной цепи и что в одну страшную ночь этот каторжник Паганини продал дьяволу свою душу. Таким образом. Вы видите, что земляк, хорошо знающий происхождение дьявольского таланта Паганини, свидетельствует против него.
Паганини, этот опасный каторжник, вернувшийся в святую католическую паству, внес страшное смятение в души и внушает людям безумные мысли, водя сатанинским смычком по скрипке, завороженной дьяволом. Его музыка в тысячу раз хуже сотни якобинских проповедей. Я слышал о том, что сатанинский дух появился в Париже, что сумасшедшие головы нескольких молодых литераторов подняли знамя так называемого романтизма. Помните, что вещь, называемая нынче романтизмом, завтра будет называться революцией. Таково мнение на только мое, но и всего капитула. Если Вы читали последнюю сигнатуру, то Вы знаете, что таково мнение святейшего отца Роотаана.
Нови имеет приказ следить за каждым шагом этого скрипача. Он и доставит Вам это письмо, а я прошу Вас сделать все необходимое, чтобы в Вашем Новом Вавилоне, до превращения его в столицу вселенской церкви, пагубное влияние дьявольской скрипки было остановлено знаком креста, меча и секиры первосвященника.
Примите молодого и ревностного служителя нашего ордена – Нови, выслушайте и приютите его. Дайте ему полную возможность осуществлять при Вашей помощи все то, что было в Риме предписано ему.
Ксендз Ксаверий Коженевский, раб господний
коадъютор Св. Ордена Иисуса".
Глава двадцать шестая
На берегах большой реки
Урбани и Гаррис сопровождали маэстро в его поездке в Бреславль.
В Бреславле опять начали завязываться старые итальянские связи.
В Неаполе – один из театральных друзей, Онорио де Вито. Урбани передает письмо и просит синьора Паганини ответить: «Это ведь старый итальянский друг и почитатель вашего таланта, маэстро». Начинается снова переписка с Италией. Через несколько границ перелетают письма. Конверты надписывает Урбани: у синьора Паганини плохой почерк.
Синьор Онорио собирает в Неаполе друзей. За кулисами Арджентинского театра читают письма синьора Паганини. Вот видите ли, простой итальянский скрипач становится славой своего отечества, императоры и короли приглашают его играть на своих празднествах и коронациях.
Синьор Нови получает копию этого письма. Его ненависть к Паганини растет по мере роста славы скрипача. Но за синьором Нови смотрит синьор Урбани. Синьору Урбани поручено охранять синьора Паганини от синьора Нови, как от чумы. Синьор Урбани не знает, кто такой синьор Нови. Синьор Нови прекрасно знает, кто такой Урбани. После пребывания Нови в столице Габсбургов синьор Нови только два раза виделся с Урбани. Существует какое-то третье лицо, направляющее помыслы и пути этих двух людей. Но и это третье лицо является исполнителем чьей-то воли. Синьору Нови поручено большое и сложное дело. Но он запуган, ему приказано беречь Паганини, в то время как ему хочется просто перерезать ему горло. Человек средних способностей, синьор Нови – воплощение органической ненависти бездарности к таланту. Урбани было поручено в надлежащий момент пресечь любой ценой движение Паганини по Европе. Но этот момент не наступает, и старая иезуитская дисциплина не позволяет Урбани делать ни одного самостоятельного жеста.
Когда Паганини мучило желание увидеться с друзьями, покинутыми в Италии, когда он вспоминал о людях, боровшихся за свободу Италии, заключенных в тюрьмы, он все чаще обращался к приветливому, всегда улыбающемуся Урбани. Паганини скучал по родине, а Урбани знал каждую семью в Генуе, каждый дом в Венеции, каждого друга синьора Паганини в Неаполе; он знал всех девушек, которых маэстро целовал в Милане; к тому же, как настоящий солдат, приближенный к семье полководца, он охранял и Ахиллино от всех случайностей судьбы. Паганини сжился с Урбани, он привык к совместным путешествиям с Гаррисом, с Урбани, Ахиллино, со старой няней.
Давным-давно, еще в Генуе, талантливый мальчик Камилл Сивори пришел к нему. В три дня Паганини исправил дефекты игры маленького скрипача. Он слышал теперь, что Камилл Сивори благоговейно хранит память о первых уроках, данных ему Паганини. Из Бреславля сопровождает путешественников виолончелист Гаэтано Джанделли. Он бросил Италию, где его отец, карбонарий, погиб в тюрьме; он обучался в Вене игре на виолончели, а теперь пустился в странствия за своим возлюбленным маэстро и, перебиваясь изо дня в день, голодный, усталый, приходит к Паганини за указаниями. Тривелли, венецианец, справляется о молодом Гаэтано. Паганини отвечает ему, опять через синьора Урбани, что была большая поездка – в три месяца объездили двадцать городов. Дармштадт и Лейпциг (на этот раз не устоявший в битве), Маннхейм, Галле, Магдебург, Эрфурт, Гота, Гальберштадт, Дессау, Веймар, Вюрцбург, Рудольфштадт, Кобург, Бамберг, Аугсбург, Нюрнберг, Регенсбург, Штутгарт, Дюссельдорф и вот, наконец, Франкфурт. Франкфурт – надолго.
Молодой Джанделли не догадывается сказать Паганини о своей нищете. Урбани иногда снабжает его деньгами, но если почтовая карета оплачивалась из кошелька Урбани, который приписывал этот расход к прочим дорожным расходам маэстро, то во Франкфурте жить в гостинице целые месяцы Джанделли не может, а между тем синьор Паганини ясно сказал, что он выпустит Джанделли на концерт не прежде, чем тот сдаст трехмесячную работу. Выхода нет. Джанделли, краснея, как девушка, рассказывает все это Гаррису. Гаррис с рассеянным видом слушает. Слышал ли он? Да, слышал, потому что в ответ он заявляет:
– Первый концерт во Франкфурте маэстро дает в вашу пользу.
– Как, без всякой моей просьбы?
– Да, это уже обдумано, – говорит Гаррис, – Уже снято помещение.
Гаррис показывает записную книжку, где записано собственноручно синьором Паганини: «Во Франкфурте не забыть: первый концерт в пользу Джанделли».
Проходит месяц. Джанделли – богач. Восемь тысяч флоринов – это обеспечение двух лет жизни.
Снова три недели болезни. Снова Паганини лежит.
В день, когда франкфуртская публика ждет очередного обещанного, наконец, концерта, фрейлейн Вейсхаупт, почтенная дама в чепце, подводит к постели отца маленького человечка с солидной и серьезной походкой, глаза которого мечут веселые стрелы при взгляде на отца.
– Разбил, – говорит он, – разбил, – с выражением величайшего восторга, как будто исполнил труднейшую работу.
Паганини обращается к гувернантке с немым вопросом. Она не знает, как отнесется отец к поступку сына: подошел и лопаточкой разбил садовую вазу. И в восхищении рассказал ей, как о крупном достижении. Потом отец пишет, но он выводит тонкие узоры: очевидно, не умеет писать, как нужно. Он выводит крючки, кружки, – лучше прямо окунуть палец в чернильницу и тыкать в бумагу, будет сразу густо, хорошо, красиво. И не успевает опомниться Паганини, как все его письма, лежащие на письменном столе, оказываются вымазанными чернилами, на важнейших документах, афишах и программах насажены кляксы. Мальчик хохочет и доказывает свою правоту и неумелость отца. «Так гораздо скорей достигаешь цели», – хочет сказать этот веселый и озорной голос. Фрейлейн Вейсхаупт в ужасе не столько от поступка мальчика, сколько от того, что отец выражает полное согласие с сыном. Это заговор двух мужчин, большого и маленького, против благонравия в доме.
Но синьор Паганини жестоко наказан: наступает час концерта, а он не может найти ни одного необходимого предмета своей одежды. Наконец из-под подушки вылезает один чулок, панталоны спрятаны за гардеробом, их достают тростью Гарриса с большим трудом. Они в пыли, они измяты, их надеть нельзя. Уже начало концерта, уже надо выходить на эстраду, а поиски принадлежностей туалета продолжаются с чрезвычайно переменным успехом.
Маленький Ахиллино встревожен сам, он протягивает ручонки вперед и складывает ладони, вспоминая, где спрятаны вещи. Он помогает отцу с такой озабоченностью, что Паганини хохочет до приступа кашля и, покатываясь со смеху, бросается в кресло.
Благопристойная публика старинного Франкфурта удивлена невежливостью синьора Паганини. Но вот через час после назначенного срока он, наконец, появляется, в этот день румяный и оживленный. Концерт проходит чудесно: Паганини играет Моцарта, скрипичный концерт Родэ. Публика забывает свое нетерпение: ведь никто не ушел, все согласны были ждать хотя бы до утра, если нет отмены концерта.
До чего хорош этот Франкфурт! Ради него можно позволить себе маленькую скрипичную вольность! И Паганини, выполнив всю обещанную программу, в ответ на продолжительные овации выходит снова и играет совершенно неожиданную для публики вещь. В первый раз он увидел полное понимание, с волнением почувствовал, что зал достоин его. Франкфурт отличался редкой музыкальной культурой. Люди, наполнявшие зал, ощущали пребывание Паганини в городе как огромное свое счастье. Это было неким порогом в их жизни. Какое-то особое напряжение, передававшееся артисту, заставило его ощутить эту настроенность зала. И вот между музыкантом и слушателями возникает та неуловимая, но крепчайшая связь, которая превращает все их ощущения как бы в ощущения единого организма. Он не смотрел на кого-нибудь одного, он видел перед собой множество светящихся глаз, он скорее не видел, а воспринимал благородную напряженность всех этих лиц. Ему хотелось сделать для этих людей то, что он сделал бы для себя. И он сыграл им короткую неаполитанскую песенку, которую слышал на морском берегу, сидя вместе с Ахиллино на камне. Эта песенка – «Oh! Mamma», это – песенка, которую лучше всего пел маленький Ахиллино, когда он заложив руки за спину, расхаживал по комнатам, думая, что никто за ним не наблюдает. Ахиллино пел ее для себя. Паганини сыграл ее для других. Потом он почувствовал, что его взметнуло кверху, и, как бы очнувшись, увидел себя на руках оркестрантов, запрудивших эстраду. Весь оркестр, бросив свои инструменты, устремился к нему. Его несли на руках до кареты.
Только однажды выехал Паганини из Франкфурта в течение этого года. Он был в Баварии: его пригласила простым письмом дама, писавшая на листке темно-синей бумаги с баварской короной.
Он приехал с устроителем своих германских концертов, господином Гуриолем. Лейтенант Гуриоль заблаговременно дал редакциям мюнхенских газет краткое сообщение о приезде Паганини. Сдержанно и обстоятельно молодой лейтенант уведомлял столицу Баварии о том. что синьор Паганини напрасно является предметом каких-то странных подозрений: ни в его поведении, ни в манере играть нет ничего злоумышленного или носящего характер демонизма. Наоборот, Паганини не только великий музыкант, но и человек большого сердца, дающий образец наиболее чистой человечности.
Концерт в королевском замке Тегернзее, куда съехались после охоты представители военной, молодежи, встретившиеся здесь с мюнхенскими ценителями искусства – художниками, музыкантами, поэтами и, наконец, хранителями любезной сердцу баварца мюнхенской пинакотеки, – был отмечен одним памятным случаем.
Огромные окна дворца были раскрыты. Дожидаясь приглашения на эстраду, Паганини услышал со стороны леса и озера взволнованные голоса, крики и шум. Потом увидел, как к королеве подбежал мажордом. «Королева приказывает впустить!» – услышал он слова мажордома, обращенные к высокому человеку в тирольское шляпе и зеленой куртке.
В ту минуту, когда Паганини выходил на эстраду. огромный зал с нарядной публикой был полон, разговоры затихли; и вот в наступившей тишине послышались гулкие шаги шестисот рослых людей – крестьян, рыбаков и охотников. Они волновались с утра, они слышали о приезде скрипача каждый день. Он странствовал едва ли не по всем германским дорогам, они видели его проезжающим по большим дорогам Баварии. Молва об этом человеке волновала их, и вот они потребовали у королевы, чтобы она допустила их видеть и слышать это чудо. Они стали у двери большого зала, и Паганини видел в открытые окна, что берег озера и опушка леса сплошь усеяны толпами людей...
27 ноября он уехал из Мюнхена. Какие-то тревожные вести докатывались из Польши. Во Франкфурте, во дворце генерала Зелыньского, поляка, ставшего немецким помещиком, он снова встретил русоволосого человека со светло-голубыми глазами. Он вспомнил, что видел его Варшаве.
Это был польский пианист Фредерик Шопен. Он теперь ехал в Париж.
Гаррис с удивлением прочел забытые на столе записки.
«Часто удавалось мне пленить моих слушателей, и, однако, я прихожу в смущение, я недоволен сам собою, ибо никакие рукоплескания не могут обмануть меня самого. И если публика принимает с восторгом мою игру, то я ею, больше чем когда-либо, недоволен. Если бы ко мне вернулся мой прежний голос, являющийся признаком здорового человека, я мог бы громко обратиться со словами недовольства собой к тем, кто меня слушает. То, что со мной происходит, страшно. Что сделали для потери моего человеческого голоса, тому нет имени. Я теряю силы после каждого концерта, и временами на сутки уходит у меня сознание после часа игры. Каждый концерт отнимает у меня год жизни, и все-таки – да будет щедрой ко мне природа! – ради своего искусства я готов отдать жизнь и здоровье. Но в столицу столиц я явлюсь, только исполнив свой замысел».
«Итак, Париж еще не скоро», – подумал Гаррис.
Однако Франкфурт оставлен, опять три кареты пылят во дороге, все ближе и ближе граница Франции.
Франкфуртские газеты поместили короткую заметку:
«Недавно разнесся слух, что Паганини приедет в Париж. Все любители музыки в этой столице, судя по французским газетам, ожидали его с нетерпением, но Паганини обманул их ожидания и внезапно повернул в Голландию».
«Говорят, он очень любит деньги и не мог сторговаться, – писало „Музыкальное обозрение“ в Париже. – Ему охотно прощается это корыстолюбие, ибо неожиданно мы получили сведения, что Паганини собирает деньги для своего четырехлетнего сына, которого он любит с нежностью».
Урбани отмечал:
"Когда заболел ребенок, маэстро сходил с ума. Казалось, он не выдержит этой тревоги. Он переплатил докторам безумные деньги и едва не испортил окончательно здоровье ребенка, потому что его стали окружать алчные шарлатаны, нарочно затягивающие болезнь.
Синьор Паганини ни разу не позвал священника, он ни разу не вспомнил имени божьего; приходя в отчаяние, не думал о молитве".
"Во Франкфурте, где синьорино пребывал без отца, горничная Грета простудила ребенка. Когда после приезда синьор Паганини узнал о его болезни, он вбежал по лестнице с таким видом, что я боялся за его разум. Оказалось, он узнал о болезни Ахиллино еще в Аахене. Он бросил концерт, загнал дюжину лошадей и так стучал в дверь, что сломал ручку и перебил стекла. Он увидел своего ангела среди кружевных подушек и розовых покрывал. Фрейлейн Вейсхаупт стала успокаивать маэстро: болезнь уже прошла. Синьор Паганини не успокоился, он сказал фрейлейн Вейсхаупт: "Синьора, ваш великий Гете, будучи министром Веймарского герцогства, подписал смертный приговор девушке, не уберегшей своего ребенка. Сам герцог сомневался в необходимости положить ее голову на плаху. В это время приехал с охоты в егерском костюме господин Гёте. Прочитав мнение судей о смертной казни, подписал: «Auch ich»[7]. Девушке отрубили голову. Так вот я говорю вам: «Auch ich, фрейлейн». И показал жестом, очень грубо, что он намерен отрубить ей голову".
Урбани и Гаррис все меньше и меньше понимали друг друга. Гаррису казалось, что синьор Паганини больше доверяет Урбани. «Еще бы, – думал Гаррис, – он итальянец и, быть может, карбонарий».
Газеты приносили последние сведения о приезде неаполитанского короля в Париж. Сплетни, передаваемые на ухо, доносились до Гарриса. Он со смехом рассказывал Паганини за обедом, что в Париже, во время приема неаполитанской четы герцогом Филиппом Орлеанским, одним из гостей была произнесена острота, облетевшая весь город: «Вот подлинный неаполитанский вечер!» – «Почему?» – спросил Карл X. «Потому что мы танцуем на вулкане».
Паганини не сказал ничего.
Давая концерты, Паганини выбирал самые маленькие немецкие города. Гаррис терялся в догадках. Он ревниво посматривал на Урбани, который как будто знал маршрут следующего дня. Приходили какие-то письма, их привозили случайные люди. Паганини совсем перестал вести переписку по почте. До Гарриса доходили слухи о том, что восстановлена деятельность карбонарских вент в Италии, но вместе с тем теперь уже открыто говорили о полной передаче власти иезуитам в Риме и всюду, где простиралась власть римского первосвященника. Страшное имя черного папы Роотаана было у всех на устах.
В Аахене синьор Паганини, остановившись в частном доме, приказал затопить камин. Гаррис видел, как маэстро, держа на коленях кожаный ящичек, бросал в камин кипы конвертов и писем.
Турин и Генуя были теперь гнездом самых страшных людей в мире, в Генуе была главная квартира иезуитов. Мощные ответвления по всей Италии шли от этих двух городов. Самой опасной была организация «невежествующих монахов», проповедовавшая насильственное закрытие школ, сожжение книг и истребление самых опасных ученых, несущих лозунги свободного знания.
Паганини знал, что подтвердились полностью сведения о пытках раскаленным железом, о колесовании, о публичном четвертовании.
Виктор-Эммануил I открыл собрание итальянских инженеров предложением взорвать великолепный мост через реку. Но ввиду того, что этот мост построен Наполеоном, Паганини перестал писать в Геную.
Тайно ехал из Италии на Север Фонтана Пино, бежавший после смерти отца. Паганини долго беседовал с ним в маленькой гостинице. Пино направлялся в Париж; ему удалось перевести туда все свое состояние. Пино рассказывал, что в Генуе, около Новой Площади, в громадном количестве собирались шпионы, огораживали площадь, открыто обсуждали работу предстоящего дня и расходились группами. Тайная полиция содержит дома терпимости и игорные притоны. За привоз из-за границы газет или книг виновный наказывается каторжными работами не меньше пяти лет, а если попадается французская книга против религии и монархии, дело кончается казнью. Синьор Антонио Паганини отдал комнату, в которой когда-то обучался игре на скрипке Никколо Паганини, австрийскому шпиону.
Во время этого рассказа маленький Ахиллино закричал:
– Крыса, крыса! – и, указывая отцу на шевелящуюся бахрому портьеры, схватил подсвечник и ударил по бахроме. Раздался крик; из-за портьеры, прихрамывая, выскочил Урбани.
– Что вы здесь делаете? – закричал Паганини.
– Искры летят из камина, а здесь отдушина, – спокойно ответил Урбани, грозя пальцем маленькому Ахиллино.




