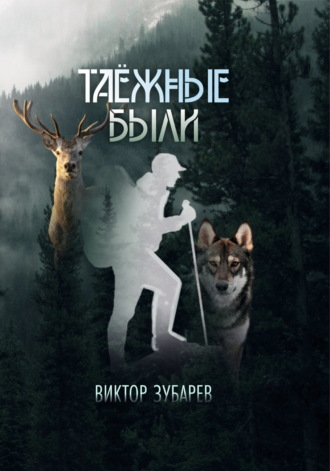
Виктор Зубарев
Таёжные были
В лагере, по настроению Игоря, можно было подумать – праздник какой-то случился. Когда подошёл ближе, увидел: на сучке дерева висит большой чёрный красавец глухарь. На лице Игоря всё было написано: глаза его поблёскивали гордостью, улыбка не сходила с губ. Вот кому сегодня повезло! Рябчиков он не считал за трофей, а вот глухарь – это уже гордость добытчика, по крайней мере, нашего масштаба. Игорь даже пожалел, что у нас нет с собой ничего алкогольного: очень кстати бы пригодился сейчас.
В минуты отдыха на стане интересно было наблюдать за живностью, обитавшей рядом с нами. Смекалистые бурундуки открыли для себя несметные залежи отборного ореха, который не нужно было где-то добывать, шелушить и прятать. Два, а может, и три полосатика приноровились воровать из лабаза выгруженную шишку: схватит в зубы и наверх по стволу. Куда уж он потом её прячет, неизвестно. Но работали они не покладая «лап». Кстати, шишки они выбирали исключительно качественные, с полноценным орехом. Я как-то изъял шишку у одного из них. В ответ услышал столько «недовольства и гнева» (будто это я украл у него шишку), и словно не бурундук вовсе в метре от меня стрекочет, стоя на задних лапках и нервно подёргивая хвостом, а разъярённый тигр. Собак они совсем не боялись. Те, в свою очередь, вниманием их тоже не баловали, равнодушно наблюдали за происходящим. Между прочим, наши четвероногие друзья тоже проявили интерес к ореху. Правда, за Бураном не было замечено, а вот две сестрички Лада и Аза научились шелушить шишку и выбирать из неё орехи. Можно было не волноваться о том, что они голодны.
Кедровка нам тоже немало досаждала. Даже больше, чем бурундуки. Но урон всё-таки наносила незначительный, зато какая польза от неё в тайге! Во-первых, на эту пору, когда шишки ещё достаточно крепко держались на ветке, эти птицы своим сильным клювом срывали их и, достав всего несколько ядрышек, бросали. На земле эти шишки уже подбирали разные зверюшки. Во-вторых, кедровка делает запасы в укромных местах: под листву, под корни прячет шишки и, как правило, забывает о них. Опять же этим пользуются другие животные. Или же, никем не найденные, следующей весной орехи прорастали. А через лет пятьдесят на этом месте стояли новые могучие деревья. Мудрая Природа всё предусмотрела. Об этом мы впервые узнали из уст наших бывалых соседей, когда вечером у костра зашла речь о кедровках.
8
Наконец промысел наш подошёл к концу. Сразу скопилось несколько факторов в пользу его завершения: свободной тары для ореха почти не осталось, практически все близлежащие кедровники нами были исследованы и обработаны. Ну и, пожалуй, главный из них – нам уже достаточно хватило практики заготовки ценного кедрового ореха. Продолжение означало для нас уже не практику, а зарабатывание денег. Но разве наши головы, напичканные романтикой, в такие юные годы могла заинтересовать финансовая сторона этого мероприятия? До прибытия за нами автомобиля было ещё шесть дней. Часто мы попросту прозябали в лагере, лишь изредка от скуки делая короткие вылазки за рябчиком.
Неожиданно на наши головы в буквальном смысле свалился не кто-нибудь, а сам Илья. О нашем с ним разговоре мы, конечно, забыли. Точнее, не приняли его всерьёз. Но, судя по всему, у него-то были серьёзные намерения в отношении нас, коль он не поленился за двенадцать километров сюда притопать. Завидев Илью, мне сразу же вспомнилась его идея про Большой Абакан с большими хариусами. В душе стало проклёвываться то самое пророненное три недели назад семечко соблазна. Вечером мы всем лагерем сидели у нашего костра. Илья оказался к тому же человеком предусмотрительным и не явился к нам с пустыми руками – под громкие одобрительные возгласы шестерых мужиков он достал из вещмешка всего лишь… пол-литровую бутылку, но настоящего… медицинского спирта! В то время суррогат ещё не котировался. Не скажу, что мы жаждали выпить, просто обстановка соответствовала моменту. На закуску была дичь. Наши выпившие соседи с удовольствием наперебой рассказывали свои истории из таёжной жизни. Илья тоже поведал о себе немного. И вновь напомнил о своей идее. Вот тут и дозрело, проросло мгновенно семечко. Мы стали обсуждать уже предстоящую дорогу. Спать улеглись около полуночи.
Утром нас ожидал небольшой сюрприз – Ильи в лагере не оказалось, несмотря на ранний час. На душе стало как-то неприятно от такой выходки. Подумалось, разыгрывает он нас что ли. Но на столе нашли записку. В ней с трудом угадывался какой-то план: что-то было нарисовано и корявым, едва понятным почерком были написаны слова, что он будет ждать нас в указанной на плане избушке, в пяти километрах отсюда. Отлегло от сердца. Всё встало на свои места: просто алтаец торопился.
Ещё с вечера мы определились, что всем троим уходить из лагеря нельзя, кому-то нужно оставаться присматривать за нашим добром. Из нас троих менее всего подвержен романтизму был Игорь. Он с самого начала с некоторым недоверием отнёсся к предложению Ильи и не проявил такого рвения и оптимизма, в отличие от нас с Володей. Он не заставил себя долго ждать и сам согласился остаться. Дед с заросшей бородой, похожий на священника, спокойно, без лишних слов и в самом деле будто «благословил» нас в путь, ещё добавив, что скучать без нас не будет. На сборы вместе с завтраком у нас ушло два часа. Кроме всего самого необходимого, подумав, решили взять только одно ружьё – Володя возьмёт своё. Лишний груз нам ни к чему, тем более за хариусом ведь собрались. Собаки, конечно, с нами – куда же без них. Может, Илья предвидел нашу канитель, поэтому и сорвался пораньше из лагеря.
Погода стояла неустойчивая: мелкий моросящий дождь сменялся небольшим прояснением. «Вполне приемлемая погода для путешествий, но лучше бы без дождя…», – решили мы и двинулись в путь, ничуть не ожидая какого-либо подвоха и не сомневаясь во всей этой авантюрной затее. Без тени смущения относительно «игры в догонялки» с Ильёй, оставаясь во власти искусителя, спешили почувствовать вкус приключений. Несомненно, со стороны наше поведение выглядело немного странно, потому что ни я, ни Володя, как выяснилось, не были такими заядлыми рыбаками.
И вот двое неопытных, необстрелянных молодцев зашагали по совершенно неизвестному маршруту, высматривая едва заметные следы и ориентиры, оставленные хитрым алтайцем. Первоначально нам нужно было пройти, наверное, с километр по дороге, по которой нас привезли в это урочище. Затем по распадку свернуть влево и по нему подняться на невысокую гриву мимо вырубки, перевалить её и спуститься по южному склону. Там должны увидеть избушку. Это место нашей встречи. В общем, ничего сложного, но только на бумаге. На самом же деле очень легко можно было сойти с тропы вправо или влево. И тогда – господь Бог тебе помощник. Поэтому важно было не потерять следы. Ситуация была близка к условиям выживаемости. Слава Богу, хоть компас был.
Забегая вперёд, хочется сказать, что уроки следопытства и ориентирования на местности, преподнесённые нам в том путешествии, мне в последующей своей уже трудовой практике очень пригодились.
Первый этап преодолели довольно легко. Не прошло и двух часов, как мы были на подходе к указанной избушке. Заметили её издалека, спускаясь вдоль небольшого каменистого ручья. В тени кедра и нескольких берёз стоял старенький, просевший одним углом приют охотника. Заглянув внутрь, поняли – нас никто не ждал. Рядом едва теплились подёрнутые пеплом угольки костра. «Часа два назад ушёл», – пришли мы к выводу. Мне показалось это странным: что за игру затеял этот Илья? Почему он не дождался нас, как обещал? Володя в избушке обнаружил снова клочок бумаги, нанизанный на гвоздик. На нём что-то было начертано. Мы с трудом догадались, что это очередные ориентиры. Впереди, примерно через километр, мы должны увидеть аншлаги. «Что за аншлаги?» – переглянулись мы. Также была обозначена на пути небольшая речка, затем ещё одна, а чуть дальше вторая избушка.
– Не пропадём, Володя. Видишь, снова избушка. Если что, можно переночевать, – сказал я. – Похоже, Илья испытывает нас, проверку нам устроил. Ладно. Может, рванём за ним – глядишь, и догоним? – и вопросительно уставился на Матёрого.
Подхватились и в надежде, что скоро достанем, бодро зашагали вдогонку. Но метров через двести прыть убавилась. Оба недоумённо посмотрели друг на друга: где тропа, куда она затерялась? Вернулись немного назад. Стали внимательно разглядывать малейшие признаки, указывающие на неё. От избы угадывалась едва заметная тропинка, но она уходила вниз по ручью – на запад. И по ней точно в этом году не ступала нога человека. Наш же путь лежал на юг. Снова медленно двинулись от ручья, как истинные индейцы-следопыты из фильмов-вестернов, вглядываясь в примятую траву, выискивая малейшие признаки пребывания человека. Наши собаки, забежав вперёд, тоже в некотором недоумении смотрели в нашу сторону, поджидая нас. Мне показалось, что они очень уверенно бежали впереди в одном направлении, не виляя по сторонам. Я подумал, а не по следу ли алтайца они бегут. Подошёл к собакам ближе и обшарил взглядом вокруг. Обратил внимание, что по начавшемуся подъёму на очередную гриву в высокой траве вдоль кустиков шиповника, жимолости, смородины и можжевельника просматривалась некая ложбинка примятой травы. Пройдя ещё несколько десятков метров, увидел чёткий отпечаток сапога. Я чуть от радости не подпрыгнул. Крикнул Володе, что нашёл тропу. А ещё через минут десять мы твёрдо убедились в этом, увидев рядом с тропой небольшую молодую лиственницу, на которой висело, по-моему, семь ленточек. Точнее, это были продолговатые, выцветшие и потрёпанные ветром лоскутки материи. Только один из них выглядел свежее и был зелёного цвета. Деревце само по себе выглядело очень нарядно в осенней яркой зеленовато-жёлтой одежде. Но ещё большую красоту и необычность ей придавали эти ленточки, которые развевались на ветру, будто девичьи волосы. Я знал, что древние народности, населявшие эту горную местность, в таком виде отдавали дань уважения своим богам, просили у них удачи. Эти обычаи и традиции сохранились и у местных коренных народов. Кто первый, когда и по какому поводу повесил здесь свою ритуальную ленту? Может быть, Илья? Но уж последнюю, зелёную полоску, самую свежую, наверняка, повесил он…
Недалеко я увидел родник, окружённый кустами смородины, жимолости и ещё каких-то незнакомых мне кустиков. Зеркальце родничка диаметром не более метра было обложено камнями. На одной из веток висела зелёная эмалированная кружка со следами бурой ржавчины на местах сколов. Неожиданно мной завладели возвышенные чувства, и по спине пробежали мурашки от ощущения причастности к этой первозданной природе. Сам родничок вдруг представился мне живым, словно сердце: поверхность чуть колыхалась, а на дне под действием невидимого механизма пульсировали и вскипали подземные ключики, выталкивая вместе с ледяной водицей мелкие камешки и песчинки, похожие на живых суетливых жучков. Из этого природного «сердечка» вытекал ручеёк с чистейшей горной живительной влагой, питавшей всё живое на пути своего следования. Сколько же здесь, в этом огромном живом организме, именуемом Горный Алтай, этих маленьких «сердец», что наполняли такие красивые реки, как Катунь и многие другие?
От родничка уходили уже две хорошо видимые тропинки: одна – в нашем направлении, другая – вниз на запад вдоль ложбины, в направлении озера Кочимер. Я вспомнил, как Ермолин рассказывал нам, что река Бийка берёт начало из этого озера. В голове мысленно раскрылась воображаемая карта местности, исходя из тех незначительных познаний, что удалось получить при общении с местными, и опыта пребывания на горе Кочимер. Она возвышалась совсем недалеко, не более пяти километров. Я пришёл к выводу, что кто-то из жителей села и проторил сюда тропку. Захотелось испить этой живительной водицы. Рука сама потянулась к кружке, заботливо оставленной каким-то добрым человеком. Насладившись родниковой водой, в приподнятом настроении тронулись дальше, уже не опасаясь сбиться с пути. Поднявшись от родника по невысокому склону около пятисот метров, неожиданно вышли на изрядно выбитую широкую конную тропу. И сразу же увидели второй ориентир. Это был металлический аншлаг, закреплённый на вкопанном столбике, указывающий не на что иное, как… на границу Алтайского государственного заповедника!
– Нахождение посторонних лиц… охота, рыбалка, сбор ягод запрещены… – не дословно прочитал я немного выцветшие слова.
«Вот попали, вот где подвох…» – сверкнула в голове догадка. А вслух сказал:
– Ничего себе, Ильюша уготовил нам испытание. Мы же с ружьём и собаками. Не хватало нам ещё с егерями повстречаться.
Но что делать, назад пути нет. И мы поплелись дальше (энтузиазм как-то поубавился). Судя по клочку бумаги, впереди наш путь должен пересечься с речкой. Тропа шла совсем недолго вдоль границы заповедника, затем почти перпендикулярно нырнула вглубь заповедника. Тут мы снова прибавили ходу – начался небольшой спуск. К тому же хотелось быстрее миновать этот запретный участок. Но сколько нам придётся по нему идти, мы не ведали. В записке об этом не было сказано.
До следующего ориентира, обозначенного Ильёй, оказалось совсем рядом. Через четверть часа мы спустились к неширокой, не более полутора метров, но бурной речушке, больше походившей на большой ручей. Вода по довольно резкому перепаду шумно бурлила, борясь с преградившими ей путь камнями. Вопреки ожиданиям, течение её направлено было на восток. А начало её, скорее всего, находилось на возвышавшейся справа от нас довольно крутой и лысой горе, негусто покрытой растительностью. Без остановки перескочили по камням ручей и сразу же начали подъём в гору по извилистой каменистой тропинке. Преодолев затяжной подъём на очередную гриву, затем спустившись с неё уже по крутому склону, мы буквально наткнулись на вторую речку – гораздо более полноводную и бурную, чем первая. Хорошо, что были в болотных сапогах. Но всё равно пришлось искать небольшой порог, чтобы форсировать её. Собак мы пожалели и перенесли их на руках. Опять же, забегая вперёд, просто нельзя не сказать, что это за река – несколько позже по карте я выяснил, что называется она Камга. Но самое интересное было для меня, что она впадает в Телецкое озеро! Небольшая информация, которую я получил об этом загадочном и красивом озере, не давала мне покоя, хотелось узнать о нём больше, а главное – побывать на нём.
Снова вернулись к тропе, которая, судя по всему, была больше конная, чем пешая. Кроме одного человеческого следа, оставленного Ильёй, все остальные были явно от подкованных лошадей. Значит, территория усиленно охранялась. Поддавшись интуиции, чтобы не оставить своего следа на влажной набитой тропе, сошли с неё и двигались параллельно – не хотелось, чтобы опытные егеря легко могли вычислить нас по следам. Опять мучил вопрос: зачем этот негодный алтаец потащил нас сюда? Что, нет другого пути? В голове шевельнулась предательская мыслишка: «Пока ещё не поздно, может быть, повернуть назад?» Я тут же отогнал её, но поинтересовался Володиным мнением на этот счёт. На что он ответил:
– Уже столько прошли, жалко назад поворачивать, да и стыдно. Идём вперёд, – уверенно закончил он.
Теперь и я утвердился в этом. Если повернём, струсим – потеряем авторитет в глазах алтайцев. А в своих глазах? Нет уж, будь что будет. На всякий случай приготовили легенду, что заблудились. Употребив спасительную русскую поговорку: «Авось, пронесёт!» – пошли вперёд.
Егерская избушка, попавшаяся на нашем пути, была просторная и крепкая, в отличие от первой. Рядом по-хозяйски были устроены столик со стульчиками из обыкновенных чурок. В достатке заготовлены дрова. Внутри солидный запас продуктов, подвешенных к потолку. Но я обратил внимание, что давненько в ней не ночевали: уж очень мыши похозяйничали и на столе, и на подоконнике, и на полках. Повсюду были видны следы их жизнедеятельности. И пахло затхлым, давно не топленным жильём. Наверное, ею пользовались редко и служила она промежуточным пунктом маршрута. Значит, есть где-то впереди база, где егеря отдыхают, останавливаясь на несколько дней, или постоянно живут. Наш «путеводитель» не счёл нужным останавливаться здесь, наоборот, постарался не наследить.
Решили обедать здесь, у избушки. Быстро разожгли костёр. Через час мы были сытые и умиротворённые. Дали себе ещё полчаса на отдых, поскольку запас времени у нас был ещё вполне достаточный до темноты. Но злоупотреблять гостеприимством этого заповедника не стоило. Я не упомянул ранее о том, что у Володи был с собой фотоаппарат. Простенькая, дешёвая «Смена». Так что, запечатлев себя для истории на фоне избушки и других живописных мест, мы бодренько пошагали дальше.
Шли вдоль тропы лесом, не отдаляясь от неё, чтобы не сбиться с курса. Это доставляло нам некоторые затруднения, потому что попадались на пути и густые кустарниковые заросли, и упавшие деревья, иногда каменистые россыпи. Мы вынуждены были обходить эти препятствия. Однажды, огибая скалистый выступ, пришлось выйти на тропу. Теряли на этом драгоценные силы и время. К тому же заметно увеличилась крутизна подъёма. Тропа же обходила все эти препятствия и петляла змейкой то вправо, то влево. Но мы с Володей стойко продолжали пробираться «сквозь тернии», придерживаясь одной известной истины: «бережёного Бог бережёт». Полуторачасовая ходьба по дебрям изрядно вымотала нам силы, но мы решили выйти на гриву и только там сделать привал.
Едва мы выползли на чуть наметившееся плато, уже подыскивая глазами место, где остановиться, как неожиданно услышали звуки, напоминающие неумелые попытки новичка продудеть в пионерский горн. Другого сравнения на тот момент мне не пришло в голову. Через небольшие интервалы звуки повторились дважды. Затем послышались голоса людей. Мы быстро обсудили, что это могло быть. Пришли к выводу, что не знакомые нам звуки исходили от людей. И это было не что иное, как имитация рёва марала. Наверное, егеря упражнялись в мастерстве подманивания рогача. Настоящий, натуральный рёв этого оленя мне ещё слышать не доводилось. Хоть гон был уже в разгаре, но по времени суток не подходило. Уже понаслышке от бывалых артельщиков мы знали, что маралы ревут перед сумерками. А до них ещё не менее четырёх часов. Недолго думая, подозвали собак и прицепили их на поводки. И скорым шагом удалились в чащу, подальше от тропы.
Поистине, нам очень повезло – судьба просто благоволила нам. Не зареви в трубу егерь, так и уткнулись бы в егерский кордон. А там собаки, наверняка, есть хозяйские. И нарвались бы мы на неприятности. Но мне почему-то хотелось встретиться с ними, пообщаться, утолить своё любопытство – узнать, что за работа у них. Может, мы зря так боимся егерей. На самом деле, они, возможно, совсем не плохие ребята. Поняли бы нас, не обидели. Но я своими мыслями с Володей не стал делиться. Всё-таки лучше не лезть самим на рожон. Вот если судьба сведёт на тропе, тогда уж и пообщаемся.
Больше получаса мы петляли, крадучись обходили кордон, держа собак на поводках. И только потом осмелились приблизиться к тропе. Обнаружив её, быстрым шагом стали удаляться подальше от кордона. Но много в таком темпе пройти не смогли: маршрут шёл уже по довольно крутому подъёму. Приходилось регулярно останавливаться, делать передышку. Я оглянулся назад: внизу по склону сквозь деревья было видно, что находимся на довольно большой высоте. Трудно сказать, на какой точке над уровнем моря, но где-то там далеко просматривалась широкая ложбина, на самом дне которой поблёскивала река – наверное, та самая Камга, которую мы преодолевали. Сейчас мы поднимались практически на водораздел, с которого она берёт начало, только чуть западнее. Запрокинув голову, посмотрел вверх. Сколько нам ещё карабкаться до вершины хребта, было непонятно – скрывали растущие деревья. Но, перекинув взгляд вдоль него, сориентировался, что находимся примерно в третьей части подъёма до перевала. У нас уже не было выбора, и мы, отодвинув все опасения, что наши следы могут обнаружить, шагали по самой тропе. В этом месте она была достаточно широкой и шла серпантином.
Судя по последней записке Ильи, нам нужно было выйти ещё на один ориентир – тоже аншлаг, но большой. От него нужно уходить вправо от тропы. А сколько ещё до него – вопрос. Как известно, нет хуже заботы, чем ждать да догонять. Надежда, что мы вот-вот его догоним, давно угасла. Осталось верить в себя и в удачу. Илья в лагере нам говорил, что расстояние до места примерно двадцать километров. По нашим прикидкам, мы прошли уже больше половины. До темноты мы не успеваем. Да и усталость чувствовалась. Больше всего ныли спина и плечи от рюкзака. Ноги ещё «не против» были прошагать пару километров, но разум подсказывал, что ночлег лучше устраивать засветло. А светлого времени нам оставалось не более часа. Стали подыскивать удобное место. Недалеко от маршрута метрах в трёхстах левее увидели небольшой распадок, уходящий вниз. Из-под камней выбивался небольшой ручей. Тут и решили обосноваться на ночлег: и от тропы в стороне, и дрова есть. Для ночного «долгоиграющего» костра было бы лучше применять лиственницу, но за неимением таковых поблизости свалили две сухие ёлки и сырую берёзу, хоть и знали, что ель при горении постреливает искрами. Ужинали уже при свете костра нехитрым, но калорийным супчиком из пакетов, приправленным банкой тушёнки (приготовили с расчётом и на собак). Попросив у Господа хорошей погоды, влезли в спальники по обеим сторонам костра. У таёжников такой костёр, когда два бревна длиной в наш рост укладывают друг на друга, закрепив по бокам колышками, называют нодья. Снизу жарко горела сушина, а сверху положили сырую берёзу, чтоб дольше горела.
Уже в полудрёме делились впечатлениями прошедшего дня. Воздух был свеж и прохладен; изо рта выдыхался парок – это значит, что было не более пяти-семи градусов. На облачном небе местами выглянули редкие, одинокие звёзды. «К утру погода может выяснить, а то и заморозок ляжет», – с этой мыслью я, согретый таёжным костром и придавленный победившей наконец моё тело усталостью, провалился в царство сна.
Под утро, ещё без признаков рассвета, пришлось вставать, проснувшись от холода. Нодья почти прогорела, только по торцам остались тлеющие берёзовые пеньки, не дающие тепла. Володя тоже выполз из спальника. Вновь оживили костёр. Вскипятили чай. Согрелись. Ожили сами. Но было ещё сумеречно. Поманило опять внутрь спальников.
…Очнулись от сна, когда солнечные лучи нащупали лазеечки между деревьями в плотной стене тёмного леса в вершине распадка и прорезали утреннюю туманную мглу острыми огненными иглами. Один лучик пробрался и к нашему балаганчику, озорно ослепив мои глаза.
Подогрев остатки вчерашнего супа и чай, быстро позавтракали и свернули бивак. Со свежими силами легко и как-то незаметно вытянули на перевал. Оказалось, что ночевали от него всего в получасе ходьбы. Остановились на чистой поляне, огляделись. На перевале лежал небольшой снег, слегка припудрив землю. Теперь как на ладони прекрасно была видна вся панорама по обеим сторонам хребта. При виде такой небывалой открывшейся красоты я потерял дар речи. Только ради того, чтобы увидеть это, уже стоило преодолеть все препятствия и прийти сюда. Сбросив рюкзак, я забрался на возвышающийся останец и не мог оторвать глаз от этого великолепия. Лирическое настроение, которым я заразился в тот момент, до сих пор посещает меня при воспоминании о Горном Алтае.
…Осень, как и любое другое время года, по-своему прекрасна в любом природном уголке. К этой красоте привыкнуть невозможно. Но не всегда мы это замечаем, потому что нам просто некогда это видеть. Иногда мы замечаем её неожиданно, нас вдруг внезапно поразит какой-то необычный пейзаж, и мы забываем о своих делах, проблемах… И созерцаем, впитываем красоту. Иногда нужно заставить себя силой воли искать это удовольствие: нужно найти время, оторваться от дел насущных и суетных для поиска красоты. И мы идём в парки, в лес, на реку… Но, когда такую благодать видишь впервые и в таком экзотическом месте, как горы, – это впечатление на всю жизнь. С высоты птичьего полёта ты видишь диковинную картину, написанную самым искусным и непревзойдённым художником – Природой!..
Действительно, северная сторона, откуда мы пришли, представилась мне огромным красочным полотном, где каждое дерево, растущее там, внизу, вносило свой оттенок в палитру красок. Жёлто-красные тона указывали на смешанный берёзово-осиновый подрост на местах прошлых вырубов с относительно ровными линиями границ. Пурпурные тона с оранжевыми вкраплениями выдавали заросли черёмухи с шиповником и рябиной вдоль распадков и ручьёв; особо выделялись на полотне своим торжественным нарядом стройные ряды лиственниц по горным склонам. Яркие, нарядные краски соседствовали с фрагментами сочных зелёных тонов, резко очерчивая границу кедровников и ельников с лиственницами. Местами угадывались своей бледноватой зеленью хвои и коричневыми карандашиками стволов сосновые куртины. Были видны белые и серо-зелёные вкрапления красок от камней по распадкам и выходов скальных пород, покрытых мхом и мелким кустарником. Вся эта картина расположилась меж двумя горными хребтами, тянущимися с востока на запад, а по центру будто разделена тёмной извилистой полосой речной поймы, уходящей в сторону Телецкого озера.
Южная сторона, куда лежал наш дальнейший путь, запомнилась мне относительно голым склоном, густо покрытым побуревшим уже травянистым ковром, но почти свободным от древесной растительности. Лишь отдельные пучки каких-то зарослей да разбросанные участки кедрового редколесья вперемежку с елью, скромно зияющие своей сочной зеленью вдоль распадков. Также светлыми пятнами бросались в глаза частые каменные осыпи и останцы. И окрашен этот склон был гораздо скромнее: из буйства всех красок преобладали всё-таки зелёные тона кедрачей и ельников, да местами притягивали взор своим весёлым апельсиновым цветом редкие куртины насаждений лиственниц, сиротливо прижимавшихся к покладистым кедрам. Ещё запомнились тёмные сплошные горные массивы на горизонте с редкими белыми плешинами гольцов. Я не мог понять, почему южный склон вдруг выглядел гораздо беднее северного?..
Позднее, когда у меня появилась возможность посмотреть карту района, я выяснил, что мы были на перевале Минор. Высота его почти 1400 метров. Но разница в буйстве осенних красок так и осталась для меня загадкой.
Пройдя всего около двух километров по гребню хребта, действительно, увидели большой аншлаг, не похожий на предыдущий. Здесь была изображена карта-схема заповедника, а заодно и прилегающей территории. Эта карта и раскрыла нам глаза: южная граница заповедника примыкала к территории Хакасии Красноярского края. Здесь территория заповедника заканчивалась. Единственная река, которая была небрежно обозначена на хакасской стороне, как наиболее крупная, и была Большой Абакан. Но до неё было, наверное, около двадцати километров. К тому же в той стороне просматривались высокие горы. Это не совсем соответствовало описанию маршрута Ильи. Он говорил, что от границы до конечного пункта всего час ходьбы, причём всё вниз по склону. Далее тропа уходила влево, образуя угол границы. Нам же указано было сворачивать направо.
Оставив конную тропу, начали спуск по длинному южному склону уже на территории Хакасии. Я почувствовал некоторое облегчение, точнее раскрепощённость, от того, что запретная зона осталась позади. Теперь ничто не мешало вольно, без зазрения совести вкушать удовольствие от путешествия.
С первых метров спуска выяснилось, что нам предстояло очередное испытание на внимательность и смекалку, так как тропинка будто растворилась, исчезла из видимости. Только едва угадывалась на более крутых спусках по свежей осыпи камней и земли да помятой местами траве. От нас с Владимиром требовалось предельное внимание, чтобы не сбиться с неё. Было бы крайне обидно заблудиться, дойдя почти до цели. Спуск с горы давался нам тяжелее, чем подъём: была опасность соскользнуть по мелкому гравию, упасть и пораниться. Ноги всё время были в напряжении, под тяжестью рюкзака подгибались в коленях.
…Едва не вырвался клич ликования у меня из груди, когда я увидел в полукилометре стелющийся дымок от костра. Подойдя ближе, увидели лагерь, уже достаточно обжитой. Натянутый большой тент из чёрного плотного полиэтилена служил одновременно крышей и экраном. Тепло от костра отражалось от завесы и растекалось внутри балагана. На длинной ольховой жерди у края костра висел большой котёл. В нём булькало какое-то варево, от которого исходил ароматный мясной запах. У костра было навалено с десяток сухих и сырых не очень толстых брёвен на дрова. Чуть поодаль на длинном поводу были привязаны две лошади. Удивило нас то, что кроме одного Ильи мы увидели ещё двух незнакомых людей. Один, небольшого роста, худощавый мужичок, был без левой руки. Рукав телогрейки был заправлен за пояс. Лицо заросло короткой и редкой бородкой. Лет ему, на мой взгляд, было около шестидесяти, но выглядел старичком-бодрячком. Илья представил его, назвав как-то необычно и по-простому – Тимка. Мне показалось это немного неуважительным по отношению к пожилому и однорукому человеку. Но тот не проявил ни тени смущения и подал руку в приветствии. Впоследствии всё встало на свои места – у коренных народов не принято величать по имени-отчеству. Илья всё же произносил это имя с уважением, с ударением на последний слог.
– Вообще-то правильно, по-алтайски, меня Тимекеем зовут, и отчество другое – вам не выговорить. Но в народе по-русски я Тимофей Силыч, – сам внёс ясность пожилой алтаец.
Я подумал: «Наверное, Илью тоже на местном языке другим именем зовут?»
Второй был высокий, полноватый и круглолицый, лет сорока. Назвался Толей, но Илья, смеясь, поправил:
– Туулай его зовут.
Оба явно походили обличьем на коренных алтайцев – скуластые, с узким прищуром глаз.
Перезнакомившись, гостеприимные хозяева балагана предложили нам обед, налив нам по полной чашке бульона и положив по куску мяса. Бульон был абсолютно пустой, то есть без картошки и прочих овощей. Из приправ только соль и лавровый лист. Но выглядел необыкновенно тягучим, наваристым, как бульон с холодца. Мне он показался вкуснейшим блюдом, которого ещё никогда не пробовал. Допускаю, что причиной тому мог быть и уже одолевший голод. На вкус слегка кисловатый и терпкий одновременно, с запахом дыма. Ещё обратил внимание, что бульон мгновенно застывает на губах, и это обстоятельство немного смущало и вызывало неприятие. Но как только доходила пища до желудка, тут же вся моя плоть наполнялась удовольствием, а запах, исходящий из котелка, ещё больше усиливал аппетит. Этот запах мне был ещё не знаком: не говядина, не баранина, тем более не курица. Я мог только догадываться, из какой дичи это было приготовлено, но явно не из рыбы. Да и вообще, рекой здесь и не пахло. Единственное, что походило на речку, – это бурный ручей, который виднелся метрах в ста от стоянки. Срываясь по крутому склону, натыкаясь на большие гладкие валуны, веками омываемые его холодной водой, уже довольно сильный поток распылялся на множество струек и брызг, отчего над ручьём поднималась седая туманная пелена. Я подумал, что это, возможно, приток Большого Абакана, к которому мы так стремились. Но ни о каких хариусах и прочей рыбе в этом ручье даже не могло быть и речи. Может быть, все вместе мы спустимся ещё и дойдём наконец до большой воды, где водится рыба?


