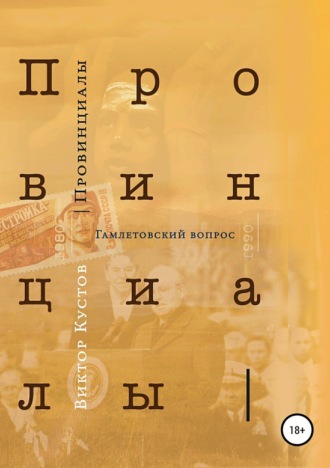
Виктор Кустов
Провинциалы. Книга 3. Гамлетовский вопрос
Встреча с редактором была не столь оптимистичной и закончилась нетвердым обещанием дать ответ позже, тем не менее Красавин, отбросив последние сомнения, с настроением уже не изгоя, а победителя вернулся после отпуска на прежнюю работу лишь затем, чтобы написать заявление и получить положительную рекомендацию, о которой его попросил позаботиться Вячеслав…
Спустя время он узнал, что внешне такое гладкое перемещение из одного краевого центра в другой на самом деле во многом было обеспечено Виктору именно Вячеславом Дзуговым, безоговорочно поверившим в него, потому что их объединяла (и не случайно, наверное, свела вместе) некая мистическая схожесть судеб: отец у Дзугова тоже был кадровый военный, Вячеслав так же родился в Восточной Германии, затем рос в разных частях огромной страны Советов, наконец, очутился в этих местах, куда отец был направлен командовать военкоматом. Здесь Дзугов закончил институт, а отец ушел в отставку генералом, отчего пользовался уважением и, возглавляя организацию военных ветеранов, не растерял деловых связей в партийных верхах, а соответственно влияния, поэтому появление его сына, к тому же активного комсомольского лидера факультета, в штате крайкома комсомола неожиданностью ни для кого не было. Авторитет отца в какой-то мере унаследовал и Вячеслав, хотя старался этим подарком судьбы не особенно пользоваться. Но в отстаивании кандидатуры Красавина на должность заведующего отделом молодежной газеты он использовал все возможности, несмотря на противостояние редактора.
Редактор молодежки Сергей Белоглазов настаивал на том, что надо сначала взять Красавина в штат корреспондентом, посмотреть, сможет ли бывший комсомольский инструктор вообще писать, утверждал, что сочинять доклады и быть журналистом – это диаметрально противоположные виды деятельности. Провозгласив этот тезис в качестве главного аргумента против кандидатуры крайкома, Белоглазов тем самым только укрепил мнение первого секретаря крайкома комсомола, который, помимо того, что с уважением относился к старшему Дзугову (и шефствовал над младшим), втайне относил себя к пишущим людям и хотя доклады сам не писал, но с большим удовольствием работал над коллективными сочинениями, расставляя смысловые акценты, находя места, требующие правки или уточнения, выстраивая абзацы по собственной логике. Он хорошо запомнил и безоговорочно поверил утверждению любимого вузовского преподавателя о том, что человек, умеющий мыслить, обязан уметь излагать свои мысли на бумаге. Поэтому после фразы редактора, принижавшей мыслительные способности комсомольских активистов, он уже без колебаний поддержал Дзугова, аргументировав свое решение вполне объяснимой для всех недругов и завистников, способных раздуть из этого спора скандал, необходимостью иметь в редакции человека, знающего о работе в комсомольском аппарате не понаслышке…
…Пару недель Красавин привыкал к новому городу, семейной жизни, коллективу, превращению неосязаемых мыслей в осязаемые газетные полосы, волнующе пахнущие типографской краской (у новости – запах краски!), от первой строки до последней внимательно читал в газете все материалы. По предложению Вячеслава побывал на совещании первых секретарей райкомов комсомола, с которого и сделал свой первый журналистский отчет.
И тот был отмечен сначала на редакционной летучке, затем на аппаратном совещании в крайкоме комсомола как глубокий и своевременный, поднявший острые вопросы и указавший конструктивное их решение.
После столь неожиданно быстрого признания его журналистских способностей Красавину вновь пришлось вспомнить и былое умение – первый секретарь крайкома комсомола стал давать ему на прочтение сочиняемые помощниками доклады и выступления и, в отличие от предыдущего шефа, огульно, на веру ничего не принимал и не отвергал, а приглашал Виктора (как правило, после рабочего дня) в свой просторный кабинет, где с ним дискутировал, советовался, искал более точные выражения.
Эти поздние посиделки уже на третий месяц работы сделали Красавина членом редакционной коллегии, обеспечили свободный график, независимость от должностных притязаний ответственного секретаря и заместителя редактора и вынужденное примирение со сложившейся ситуацией все так же продолжавшего относиться к нему настороженно Сергея Белоглазова.
В редакции он ни с кем близко не сошелся, но довольно скоро разобрался, кто есть кто. Редактор был хорошим журналистом, любил писать собственные материалы, над которыми работал подолгу и со вкусом в свободное от заседаний, совещаний, встреч (на которых был обязан бывать) время, но слабым администратором; поэтому практически руководил редакционной жизнью ответственный секретарь Вениамин Кривошейко, уже заматеревший и явно пересидевший на этом месте и, очевидно, оттого ежевечерне, за пределами рабочего времени, принимавший в своем кабинете в одиночестве тонизирующие сто граммов, после чего становился добрым и сентиментальным для тех, кто в это время еще оставался в редакции. В остальное же время он нещадно, невзирая на должности, гонял всех, кроме Сергея Кантарова, Галины Селиверстовой и, естественно, заместителя редактора Евгения Кузьменко, длинного и тонкого, как жердь, эрудита, знатока современной литературы, заядлого шахматиста, любителя долгих философских бесед, отчего времени на исполнение собственных обязанностей ему, как правило, не хватало.
Габаритная семейная пара Кантаров – Селиверстова была в редакции на особицу благодаря таланту Кантарова (он писал остро, увлекательно и был бесспорным пером номер один) и интригам Селиверстовой – матроны женской половины редакции. После публикации первого материала нового заведующего отделом именно она, заглянув в кабинет Красавина, первой высказала свое восторженное мнение и сообщила, что так же считает и Кантаров, а вот редактору и ответственному секретарю статья не понравилась.
– А заместителю? – поинтересовался Виктор, уже оценивший хороший вкус Кузьменко.
– Женечка у нас вне игры, – двусмысленно произнесла она, многозначительно улыбаясь. – А если сказать точнее, он, конечно, в игре…
Но в шахматной… И он никому не мешает…
И замолчала, давая возможность Виктору понять подтекст и без стеснения его разглядывая, словно выставленный на обозрение музейный экспонат или некую невидаль…
Красавин тоже молчал, так же откровенно разглядывая круглое лицо Селиверстовой, на котором выделялись большие глаза и ямочки на пухлых щеках, несколько смягчающие неприятную цепкость взгляда этих темных глаз.
– Скажи честно, тебе нравится наша газета? – неожиданно спросила она.
Он помедлил, прикидывая, стоит ли действительно быть честным, потом молча кивнул. За это время у него была возможность и оценить, что они делают, и сравнить с другими молодежными изданиями.
– Белоглазов – способный журналист, тут не поспоришь, Сергей его ценит… Но как руководитель он слишком добренький… Кривошейко – пересидевший ветеран, если не уйдет в ближайшее время куда-нибудь, скоро сопьется. Женечка Кузьменко – просто замечательный человек, эрудированный, грамотный, интересный собеседник, хороший корректор, но не больше. Я думаю, ты уже понял, что мозговой центр в редакции – Сергей… И он знает, как сделать газету лучше… Как перестроить работу в редакции… – Селиверстова выдержала паузу, давая ему возможность либо согласиться, либо возразить.
Он молчал.
– Между прочим, мы сначала думали, что ты чей-нибудь родственник, протеже, который писать не умеет. Извини, – ее лицо выражало искреннее дружелюбие. – Теперь вас с Сергеем двое, способных сделать настоящую газету… Белоглазова не сегодня-завтра отправят на повышение, он уже положенный срок отсидел, да и Кривошейко собирается в партийную газету, там в секретариате скоро вакансия будет. Мы опасаемся, что нам какого-нибудь комсомольского кретина посадят. Пусть уж лучше Женя Кузьменко будет… У тебя есть связи в крайкоме, и к первому ты вхож… – продемонстрировала она свою осведомленность.
– А почему Кантаров сам не сходит в крайком? – не отвечая, спросил он. – Если он видит, как сделать лучше…
– У него нет мохнатой руки, – усмехнулась Селиверстова. – К тому же он не член партии и его публикации начальству не нравятся… Так я передам Сергею, что ты не против разговора?..
Окинула пронзительным взглядом, ожидая ответа.
– Отчего же не поговорить, – бодро отозвался Красавин, стряхивая этот взгляд. – Я на месте, пусть время выберет, поговорим…
Такого ответа она не ожидала. Ее губы медленно растянулись в растерянной улыбке, отчего обозначились ямочки, делая ее моложе и стройнее, она помедлила, потом ввернулась в дверной проем, и он услышал приглушенное:
– Сергей тоже у себя в кабинете…
…Ни в тот день, ни на следующий Кантаров, естественно, к Красавину не зашел. Он тоже делал вид, что не может выкроить ни минуты, раскланиваясь с ним в коридоре или кабинете редактора на планерках. Селиверстову не было видно, Олечка, секретарь редактора, сказала, что она ушла на больничный. У Виктора было время поразмыслить над предложением. И он вынужден был с Селиверстовой согласиться: действительно, трех редакторов газета устраивала такой.
Материалы Кантарова, Селиверстовой, корреспондентов их отделов, а также четы Березиных заметно выделялись среди других и злободневностью тем, и нескучным изложением, и критикой. И в них явно чувствовалась правка Кантарова и, вероятно, его идеи.
Материалы остальных сотрудников были, как правило, обыденны, скучны и просто излагали факты. И сами они были незаметны в редакции, как и заведующий отделом писем Гриша Пасеков и заведующий спортивным отделом Костя Гаузов, оба немногословные, поджарые, постоянно пишущие и хронически не успевающие вовремя сдавать в секретариат плановые материалы, молча выслушивающие нарекания в свой адрес на планерках, летучках, редколлегиях и оживляющиеся к концу рабочего дня, когда исчезновение в неведомую остальным их личную жизнь уже не возбранялось…
Из корреспондентов и технических сотрудников редакции Красавин обратил внимание только на секретаршу редактора (примечательный бюст) и недавних выпускников Ростовского и Московского университетов, Кирилла Смолина (черненький, кудрявый, чем-то отдаленно похожий на Александра Сергеевича Пушкина, каким его изображают на гравюрах) и Мишу Ветрякова (флегматичный и упрямый, выходец из крестьянской семьи богатой пригородной станицы), работавших в отделах Кантарова и Селиверстовой. Они появились в редакции на месяц раньше Красавина и проходили, как говорил Сергей Кантаров, проверку на вшивость диплома. Эта проверка заключалась в том, что даже небольшую информацию они переписывали много раз. Кантаров требовал от них отточенности, которую не так часто можно было встретить и в центральной прессе, разве только в «Известиях», самой интеллигентной газете страны.
Миша Ветряков к возврату материала и нелицеприятным и несправедливым словам Кантарова о бездарности и неумении работать относился спокойно, молча выслушивал обидные пассажи старшего товарища и начальника и послушно возвращался к своему столу переписывать в очередной раз. Кирилл Смолин же начинал возражать, доказывать, что он сделал все, что мог, и информация или заметка вполне соответствует требованиям, предъявляемым к данному жанру.
Кантаров, ехидно улыбаясь, выслушивал сентенции («сопли-вопли полюционного возраста, нет чтобы их на девок тратить») и отправлял Смолина за пирожками или за кефиром, по возвращении того отмечал, что с поручением тот справился просто замечательно. И в сроки уложился. И ничего по пути не уронил и не разбил. И советовал, если никак не хочет тот учиться писать, пойти торговать теми же пирожками… Или лучше пивом, там навар больше…
Став пару раз свидетелем таких профессиональных уроков, Красавин не сдержался, сказал Кантарову, что напрасно он так их ломает, ребята уже пишут вполне прилично, можно ведь и отбить всякую охоту.
– У профессионалов такого понятия нет, – не согласился тот. – Ты что, пишешь хорошо, только когда тебе хочется?.. У тебя есть своя планка, ниже которой нельзя. Да, я им сейчас ставлю ее на недосягаемую для них высоту, но пусть выпрыгнут из детских штанишек, будем знать, на что они способны… Придет время, благодарить еще будут, – без сомнения закончил он.
И Красавин не нашел, что возразить, согласившись, что такой подход хотя и жесток по отношению к молодым корреспондентам, зато полезен для газеты…
После этого разговора они стали чаще заходить в кабинеты друг друга, нащупывая общее видение будущего газеты, обсуждая потенциал коллег, вырабатывая единое мнение, которое потом либо один, либо другой озвучивали на редколлегии. И, как Красавин понял, его голос нарушил сложившийся баланс сил. Ярый и несгибаемый Кривошейко, требующий неукоснительного выполнения плана по строкам, пусть даже в ущерб качеству, потому что газета – это «неостанавливающийся и выжимающий пот конвейер, ей не нужны красивости, размышлизмы и литературные изыски, нужен факт и строки», остался в одиночестве, хотя и при молчаливой поддержке редактора и двусмысленной позиции Кузьменко, заметившего, но довольно невнятно (только рядом сидящий Красавин и расслышал) что важно, чтобы и «строки были, и качество наличествовало»…
…К новому году Красавин уже чувствовал себя своим в редакции. У него установились почти доверительные отношения с первым секретарем крайкома комсомола, который перед особо важными выступлениями приглашал его и охотно делился своими мыслями, внимательно выслушивал мнение. Реально забрезжило получение квартиры (не без помощи Дзугова и первого секретаря), отчего в многолюдном доме тещи на смену затаенному недовольству от тесноты и связанных с этим неудобств (к тому же сестра Инны вот-вот собиралась привести в дом примака, залетевшего откуда-то с севера), пришли вновь мир и терпеливое согласие. Дочка ходила в детский садик, жена устроилась экономистом на завод. Все стали занятыми людьми, отчего ночные отношения между ними стали более обыденными, без прежних претензий. Ушли обиды. Наступило время гармонии и плодотворной служебной деятельности, от которой Красавина неожиданно отвлекла Марина Березина.
Он уже давно понял, что похожий на сон курортный дурман в его жизни был не случаен. Благодаря ему перестала сниться непокорная девчонка из отдаляющегося и забываемого детства, к тому же он познал два совершенно непохожих женских характера, а главное, обрел мужскую уверенность, избавившись от ощущения собственной ущербности. Он даже написал рассказ, который никому не показывал и хранил в нижнем ящике рабочего стола под томиком Плеханова, наследие которого сейчас изучал.
На Марину Красавин обратил внимание при первой встрече, она выделялась среди остальных женщин и девушек редакции и обжигающим взглядом, и соблазнительной фигурой, но глаз положил на секретаршу редактора, юную, свежую, аппетитную и наивную Олечку. Она была впечатлительна, трепетно-эмоциональна и обращалась к нему исключительно на «вы». Рядом с ней он ощущал себя если не принцем, то, без сомнений, загадочным и сильным рыцарем, а когда она, распахнув наивные глаза, приоткрыв маленький ротик, затаив дыхание, внимала его рассказам, он с трудом сдерживался, чтобы не подхватить ее на руки и не унести далеко-далеко… Но у Олечки был жених, юный и ломкий, со смазливеньким личиком, на котором постоянно держалась снисходительная усмешка, безусый водитель персоналки из крайкомовского гаража, соперничать с которым Красавин считал ниже своего достоинства и, когда видел того, ловил себя на жалости к глупенькой Олечке, не умеющей отличить истинной мужественности от ложной…
Под взглядом же лучисто-зеленоватых глаз Марины он чувствовал себя голым и нескладным. Он не мог понять что, но что-то в ней определенно было и от Лили, и от Оксаны, и от его жены. И таилась неведомая, но ощущаемая им опасность, которая и пугала, и манила одновременно.
Декабрьским туманным и промозглым вечером им выпало дежурить вместе по номеру. Она читала полосы днем, он был «свежей головой» и пришел на работу после обеда. Шли официальные материалы из Москвы, сдача номера задерживалась, в редакции оставались только они, телетайпистка, дежурившая у аппарата, и Кривошейко, закрывшийся в своем кабинете и становившийся с каждым выходом из него все веселее и разговорчивее.
В ожидании разрешения из столицы печатать официоз они сидели в его кабинете вдвоем, болтали о том, какой могла бы быть газета, если бы ее стал делать Сергей Кантаров, находя подобное развитие событий полезным и для газеты, и для краевого комитета комсомола, чьим органом она являлась. Красавин, войдя в раж, так нафантазировал это возможное будущее, что Марина его остановила.
– А ты ведь совсем не знаешь Сергея, – вдруг перебила она. – Он не о газете печется, а о собственной карьере. Пока мы ему помогаем, он с нами дружит, а станет редактором, как знать… Любой начальник умных да перечащих ему подчиненных не терпит…
Красавин помолчал, понимая, что та права, и неуверенно произнес:
– Но стоящее дело с помощью послушных бездарей не сделаешь…
– Где ты видел начальников, для которых дело важнее собственной карьеры? Неужели в крайкоме?..
Он хотел привести пример бескорыстного служения идее, должности, но, как ни старался, ничего подобного вспомнить не смог. Первый секретарь крайкома мечтал попасть в центральный комитет и неукоснительно выполнял все пожелания куратора, а московских гостей встречал и провожал самолично в ущерб любому делу. И Слава Дзугов озабочен был прежде всего карьерой, чего, кстати, и не скрывал, каждодневно оттачивая мастерство угадывания желания начальства и угождая ему…
Марина поймала его взгляд, долго не отводила свой, словно убеждаясь в чем-то, и он был не в силах прервать эту крепнущую связь, подчиняясь и теряя самообладание.
– Сергей с моим мужем тебя уже со всех сторон обсудили, – наконец произнесла она, отведя взгляд. – Пока ты им нужен, а потом все будет зависеть от того, как себя поведешь… Так что не очень-то обольщайся…
– А что же ты мужа выдаешь? – только и нашелся, как отреагировать, Красавин. – Все-таки близкие люди…
– А мы уже давно не близкие, – прищурилась она. – Олег – не тот мужчина, который мне нужен. Я была на первом курсе, он – старшекурсник, на третьем, проходу не давал, на коленях упрашивал… У меня до него парень был, мы с ним жили… – она нервно прикусила губу, словно останавливая себя. Потом все же продолжила: – Он мне изменил с подругой. Я тоже пошла к Олегу… Забеременела после первой ночи, он узнал, счастлив был. Уговорил расписаться. Ушла в академический отпуск, к родителям приехала, родила. Он после защиты диплома приехал. Пошел работать… Сын подрос, я в Ростов поехала доучиваться, там своего первого встретила… Опять все закрутилось, счастливы были. Только вот свободными настоящих мужиков уже не осталось, жена, двое детей… Вернулась, все Олегу честно рассказала, предложила развестись, а он упросил не уходить, сказал, что упрекать не будет. Родственники с двух сторон тоже в голос: нельзя, семья распадается, внук осиротеет… А мне с ним в одну постель ложиться не хочется… Мужчинам этого не понять…
– Почему же, – не согласился Красавин. – Мужчина тоже не всегда только одного тела хочет…
– Я так и думала, – глаза Марины необъяснимо заискрились, – ты ведь тоже не любишь свою жену…
Он собрался возразить, но она поднесла ладошку, пахнущую чем-то пряным, к его губам, и продолжила:
– И Сергей не любит свою толстушку… Все мужчины, которые не любят, озабочены карьерой… А вот Олег меня любит, поэтому карьера его совершенно не интересует, и все он делает только ради меня…
И сделает все, что захочу…
– А чем озабочены не любящие женщины? – спросил он, задыхаясь от этого запаха и касаясь губами ее ладони.
– Чем?.. – она убрала ладонь и, не отводя глаз, в которых явно было нечто непристойное, заставившее его покраснеть, подалась вперед, обдавая запахом весенней свежести, и шепотом произнесла: – Исключительно поиском любви… И в тебе, Витенька, есть что-то вызывающее женский интерес…
И это «Витенька», произнесенное с тайным и сладким обещанием чего-то в будущем (он не мог ошибиться, это действительно было обещание), заставило заколотиться сердце.
Он тоже подался вперед, неотвратимо приближаясь к ее губам, и тут в кабинет с телетайпной лентой в руке вошел пьяно улыбающийся Кривошейко…
– О, голубки, вашу степь… – и погрозил пальцем Марине. – Не совращай, нам штыки нужны, а не неврастеничные Ромео… Кстати, Олежек там тебя ждет… – пьяно махнул рукой назад, – в моем кабинете тоскует… – опустил телетайпную ленту на стол перед Красавиным. – Добро дали… Водочки не хочешь?.. – задумался, потер лоб ладонью. – Ах да, ты же, свежак… – подцепил Марину под локоть. – Потопали, искусительница, тебе, так быть, плесну, а ему нельзя, пусть читает. – И, уже выходя, вытянув в трубочку губы, с необъяснимым смешком прошипел: – Внимательно читай…
Они ушли, а Красавин остался сидеть, машинально перебирая ленту и не в силах сосредоточиться, все еще осмысливая услышанное от Марины и странное поведение ответственного секретаря, его напутственное пожелание, словно предупреждение о какой-то каверзе…







