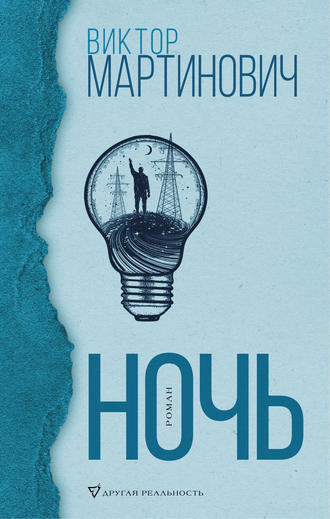
Виктор Мартинович
Ночь
Раздел третий
Гацак еще только-только простукал свою рейку в восьмой раз, когда входной звоночек брякнул. Я удивился: обычно страсть к литературе начинает обуревать моих клиентов только во второй половине черного дня. Первую половину они тратят на попытки заработать цинк, которым можно было бы оплатить страсть к изящной словесности. А тут кто-то будто ждал наступления утра прямо перед подъездом. Я открыл.
Сначала вошел аромат – старомодный и изысканный (сейчас таких духов уже не делают), тропический и немного душно-сладкий. И только за ароматом – женщина. Вошла, обстреляла взглядом гостиную с таким же профессионализмом, что и Шахтер, сделала неуловимое движение вглубь, в сторону спальни, но я с печально-извиняющимся лицом дернул плечом: мол, там я не принимаю.
Она считала этот знак очень точно и уселась на табурет. Выбеленные волосы. Одета богато, но немного более ярко, чем это принято в Грушевке. Отличительной особенностью одежды было и то, что все ее составляющие очень легко, буквально одним движением, снимались. Вот и сейчас. Усевшись, она провела пальцами от шеи до живота, и ее шубейка расстегнулась, из-под нее выглянул меховой воротник, под которым мелькнула оголенная ключица.
Все это происходило в молчании. Я ждал, когда она назовет себя, она ждала момента, чтобы назвать себя наиболее эффектно.
Отдельно нужно сказать про Герду. Собаченция наблюдала за гостьей с внимательным и чуть-чуть ироничным выражением на морде. Никакого презрения. Никакой агрессии. Значит, можно не напрягаться.
Моя визитерша была немолода. Моя визитерша была очень красива. Как описать ее красоту? Был в моей жизни эпизод, когда я должен был одну за другой проглатывать книги современной белорусской прозы, поскольку подрядился срочно собрать коллекцию для одного очень серьезного заказчика. В этих книжках я все время натыкался на эротические сцены. Литераторы, перебивая друг друга, нахваливали внешние данные женщин, на которых собирались залезть их герои. На второй дюжине сборников и романов описание женской красоты слилось в моей голове в гудящий улей. Прилагательные повторялись из текста в текст, губы, груди, икры склеились в один большой эролаш. Современная проза гудела ровно и нейтрально, как двигатель автобуса, который везет американских детей в школу. И вот, чтобы отдохнуть от титек и простыней, я открыл классическое произведение прошлого века – «Колосья под серпом твоим» Владимира Короткевича.
И на первой же странице впился глазами в настолько красноречивое описание красоты, что все прочитанное до этого померкло. Правда, мастер описывал не женщину. А дерево. Грушу в цвету.
«Эта груша цвела последний год.
Все ветви ее до последнего прутика были усыпаны пышным бело-розовым цветом. Она кипела, млела, утопала в роскоши пчелиного звона. И была она так могуча и свежа, так неистово спорили в ее розовом рое пчелы, что, казалось, не будет ей извода и не будет конца. И все же приближались ее последние дни».
– Я – Кассандра, – наконец с большим достоинством произнесла женщина. – До вчерашнего дня я была невольницей на Кальварии. Но ваш Бургомистр подарил мне свободу.
Я не знал, что на это ответить. Любая реплика тут была бы не очень приличной. Даже «добро пожаловать».
– Он добрый человек, этот ваш Бургомистр, – проговорила она, держа голову прямо и глядя прямо перед собой. – Добрый, но наивный. Он предложил мне заняться любой работой, которая мне по душе. Когда я объяснила, какая мне по душе работа, Бургомистр сказал, что не может меня оставить в своем доме. Потому что он женат, а в вашем государстве это не позволяет мужчине содержать таких, как я. Это считается неприемлемым. Так он меня уверял. И вот я не знаю: то ли это действительно так, то ли просто я ему не понравилась?
Тут она всем телом повернулась ко мне, направив прицел своего взгляда мне в лицо.
– Да-да, так и есть, – залепетал я, чувствуя, что краснею. – В смысле, не то что вы не понравились Бургомистру. Нет, нет! Вы очень красивы! – Уши у меня так горели, что в них начала пульсировать кровь. Особенно ощущалось это в тех желобках, которых идут по краешку ушных раковин. – Просто у нас действительно женщин не принято… – Я стал мучительно подбирать слово, и вчерашняя встреча с Жижеком подсказала: – Не принято эксплуатировать! Тут женщина сама выбирает, кого. В смысле, с кем. Не объективируется.
Я запутался и замолк. Герда аппетитно, медленно зевнула. Чувствовалось, что она бы объяснила выразительней и лаконичней, чем я. Но я – не Герда, мне не хватает ее цинизма, ироничности и ума.
– Женщин тут не принято эксплуатировать. – Кассандра повторила это слово с моей интонацией. – Но женщин тут принято обижать. Когда я спросила у Бургомистра, какие еще варианты могут найтись для свободной Кассандры, он посоветовал мне пойти работать на рынок. А после того, как я рассмеялась ему в лицо, добавил, что на южной границе муниципалии в частных домах под стеной крестьяне разводят свиней и кур и что там могут пригодиться мои руки…
Я снова не знал, что ответить, и потому промолчал.
– Вы представляете? В свинарник! Куриное говно убирать! Это что, приличное предложение? – Мое молчание начинало ее беспокоить. Она спрятала маску оскорбленной Нефертити (версия для провинциального театра) и спросила с человеческой интонацией: – Как вы тут вообще живете? Вот что у вас тут за свобода?
– Это не у нас тут свобода. Это свобода как она есть, – выдавил я. – Тот, кто тебя потребляет, тебя и кормит. Если хозяина нет, приходится искать сухпаек самому.
– Бургомистр сказал, что вы очень состоятельный человек.
Я про себя назвал лукавого главу Грушевки нехорошим словом.
– Состоятельный и одинокий, – продолжила Кассандра.
Она говорила это уже без театральных поз, жестикулировала естественно. Чувство неловкости между нами исчезло.
– Что одинокий – верно, – согласился я. – Сейчас живу один. С собакой. Ну а состоятельность – относительная. Десять цинков по тридцатому утреннему зову за коммуналку и безопасность Грушевки выплачиваю исправно.
Она сделала паузу, заглянула мне в глаза и произнесла почти по-дружески:
– А давай я буду твоей, одиночка? Давай я буду тебе помогать по дому, еду готовить, чай заваривать? Гулять с твоим псом? Давай я буду тебя любить? – Она считала выражение моего лица и попыталась поправить себя: – Тебя и твоих друзей. Ты будешь давать меня в долг, расплачиваться мной за услуги. Давай ты будешь мной владеть?
Пока я подбирал слова для ответа, она встала с табурета, сбросила расстегнутую шубейку и одним жестом скинула меховой кафтан. Оголился бело-розовый цвет. Она кипела, млела в роскоши пчелиного звона, который звучал у меня в ушах.
– Я очень умелая, одиночка, – сказало это тонущее в белом цвету деревце. – Со мной не загрустишь.
– Извините, Кассандра, – ответил я, отводя глаза. – Вы очень красивая женщина. Но я принадлежу другой. Я ее люблю и…
– И где она? Та другая? – спросил шелест цветов.
– Сейчас ее тут нет. – Я осип.
Герда помогла мне, долго и жалостливо заскулив. Вот уж не знаю, по кому она скулила, по мне или по моей визитерше. Но это помогло: я уставился на Герду и строго выдал:
– Прикройтесь, пожалуйста.
Я не знал, что сказать Кассандре, чтобы она поскорей ушла. Предложение уйти прочь – не самое лучшее, что можно сказать женщине, которую уже однажды отвергли. У нее могло сложиться впечатление, что свобода – это когда мужчины все время говорят тебе «нет». Мне помог дверной звоночек, который снова звякнул, – что сегодня за странное утро! Я услышал звук застегиваемой молнии и осторожно повернулся к Кассандре. Она стояла уже полностью одетая. Мне было перед ней неловко, и я искренне попросил:
– Пожалуйста, не обижайтесь. У меня есть идея. Скоро для вас найдется приличная и хорошо оплачиваемая работа. Подождите немного. У вас деньги есть? На первое время я вам помогу.
Кассандра фыркнула.
Дверь открылась, и на пороге я увидел Кочегара из Котельной. И чего, интересно, он притащился? Неужели Шахтер ему рассказал про мой интерес к карте?
Кассандра вышла не попрощавшись. Кочегар проводил ее оценивающим взглядом, причем (судя по выражению его лица) будто бы взвесил ее, как бревно, на предмет того, сколько градусов тепла и джоулей энергии можно получить путем помещения немногочисленных килограммов Кассандры в топку. Потом он исподлобья мне кивнул. Он был весь закопченный и присыпанный угольной пылью. Только глаза выделялись на лице двумя нехорошими белыми пятнами. При этом очень легко одет – черная футболка и легкая кожаная куртка нараспашку. Как будто он выскочил из преисподней и никак не мог остыть.
– Немец, Рейтан. Твой знакомый? – спросил Кочегар, рассматривая Герду.
– Да, мой. Хороший друг. Еще со светлых времен. А что случилось?
– У него больше никого не было. Собирайся, пойдем. Положено. По процедуре.
Он кинул мне сложенную в четверть газету. Я развернул ее. На самом заметном месте была картинка: мужская фигура, застывшая на земле в неестественной позе. И черное пятно, расплывшееся под ней. На Рейтана даже близко не похоже. Короткий текст рядом сообщал:
«Постоянный резидент муниципалии Грушевка Рейтан (известный также как “Немец” и “Физик”) был найден сегодня утром в неживом состоянии патрулем народной милиции под руководством бригадного командира тов. Маньки. По словам официальных лиц, смерть наступила в результате выпадения Рейтана c одного из последних этажей недостроенного небоскреба на южной границе муниципалии Грушевка с дальнейшим столкновением тела с поверхностью асфальта на большой вертикальной скорости. В результате чего Рейтан получил многочисленные травмы внутренних органов, не совместимые с дальнейшей жизнью, и скончался. Следов борьбы, кроме вызванных асфальтом, на теле не выявлено.
На теле найдена посмертная записка, из содержания которой можно сделать вывод, что трагедия произошла благодаря суициду, вызванному нестабильным психологическим состоянием (безумие). По свидетельствам соседей, Рейтан в последнее время страдал депрессией, имел финансовые сложности, а также заблаговременно отнес весь запас своих дров и продуктовые запасы старикам, которые жили в соседнем доме. Криминального разбирательства по факту происшествия возбуждать не планируется. Прощание с Рейтаном состоится сегодня в десять часов в зале прощальных торжеств муниципальной Котельной, после чего, в соответствии с традицией и установленной практикой, тело будет предано огню для обогрева живых».
Потом мы с Кочегаром молча шли через темные дворы, и у меня было странное ощущение в голове, и, только когда мы дошли, я понял, что не надел шапку и сильно замерз. Тут я запаниковал и спросил, где моя собака, и Кочегар сказал, что я запер Герду в квартире и что она гавкнула пару раз из-за дверей и успокоилась. В Котельной было душно. Похоже, это было единственное по-настоящему жаркое место во всей муниципалии. Большинство собравшихся тут людей выглядело как случайные прохожие, привлеченные чужим горем, о котором они прочитали в газете. Стояла пожилая пара, оба плакали. Стояла профессиональная плакальщица, завсегдатай траурных церемоний. Она находилась в той стадии, когда ей уже не плакалось в полную силу, поскольку она начала понимать, что платежеспособных близких на прощальной церемонии не наблюдается (я успокоил ее, выдав цинк, и она начала плакать в голос, очень профессионально).
Люди стояли вокруг большого жестяного подноса, привинченного к прикрытому жерлу топки. Сцена освещалась отблесками, проникающими сквозь щели люка, и их было достаточно – настолько жадное и яркое искусственное солнце билось в печи. На листе жести лежал плоский предмет, страшная неподвижность которого не позволяла назвать его человеком даже в прошедшем времени. Я приблизился, кто-то пробормотал «его друг», и люди расступились. Останки были накрыты черной тряпкой. Это был Рейтан, которого за то время, пока Грушевка спала, кто-то изваял из желтого песчаника: каменный лоб, каменные виски, каменные глаза, один – полуоткрытый.
В этот момент Кочегар открыл соседний люк и начал подкидывать уголь во второй котел. Помещение осветилось дрожащим адским пламенем, на моем лице проступила влага, я вытер ее рукавом. От топки шли волны горячего воздуха, искры проносились через темноту звездами и гасли на полу, угольных кучах, каменном Рейтане. Глазам стало больно от яркого света, а жар заставил всех присутствующих расстегнуть пальто и развязать обмотки и шали. Скоро Кочегар закрыл люк и оперся на лопату, чтобы отдышаться. Я подошел к нему и не нашел ничего лучшего, чем спросить:
– Мне Шахтер сказал, что у вас есть карта. Что вы когда-то получили старую карту с ориентирами нового мира. Я собираюсь отсюда уйти. Вы не могли бы продать мне ту карту? Я понимаю, что она стоит больших денег. Назовите цену.
– Пойдем, – коротко приказал он, положив лопату на горку угля.
Немного поодаль от скорбящих и зевак стояли три фигуры с пистолетами в кобурах. Когда мы к ним приблизились, они повернулись в нашу сторону.
– Товарищ Манька, дравия джелаю! – гаркнул Котельщик, по-блатному приложил руку к виску в армейском приветствии. Он вытянул свою приземистую фигуру в подобии стойки смирно. – Привел! – Он кивнул на меня.
Один из трех, лысый, одетый в черную униформу, всмотрелся в мое лицо.
– Кто этот молодой человек? – спросил вожак про меня.
– Книжник.
– Вам знаком тот молодой человек? – Он кивнул в сторону жестяного подноса, на котором лежали останки Рейтана. Рейтан был старше того, кто только что назвал его «молодым человеком», лет на двадцать.
– Да, это мой друг. Был моим другом.
– Назовите его имя.
– Рейтан. Также известен как Немец или Физик.
– Когда вы с ним виделись в последний раз? – Глаза лысого сверлили меня, заставляя тщательно подбирать слова. Как будто я говорил неправду и одно лишнее слово могло выдать вранье.
– Вчера. Мы пили кофе.
– О чем разговаривали?
– Про Ночь. Про невров. Про форму Земли.
– Форму Земли! Очевидно, звезданулся! – обратился к Маньке один из его подопечных.
– А что, возникли сомнения о причинах происшествия? – задал я стандартный вопрос из фильмов из прошлого. – Вы думаете, это может быть убийство?
– Сомнений нет, это все формальности. По регламенту неточности должны быть уточнены до траурной церемонии. – Манька почесал щетину на челюсти. – Просто ваш друг оставил достаточно странную посмертную записку.
– Странней некуда! – подхватил его подчиненный.
– Записка вызвала сомнения в ясности его сознания. Случаи безумия мы должны фиксировать отдельно. В целях карантинной безопасности.
– И что там говорилось? – спросил я.
– Что если законы физики больше не действуют, он, оттолкнувшись, должен полететь за горизонт, как птица.
– Мы же с вами стоим, а не летаем, – не унимался подчиненный. – Вот смотрите, я что, вот прямо полечу? – Он сделал несколько взмахов руками, имитируя полет. Его амуниция при этом оглушительно громыхала.
– Так как вы думаете, был ли ваш друг Рейтан сумасшедшим? – уставился на меня Манька.
Я колебался недолго. Безумцы перед смертью не раздают свои запасы тем, кому они больше нужны. Или раздают? С другой стороны, Мисима. Он попросил Мисиму.
– Нет. Я уверен в том, что Рейтана сгубило одиночество и неустроенность.
– Хорошо. – Манька быстро кивнул. – Приступаем к процедуре! – крикнул он.
Но Кочегара в зале не было.
– Начинаем, я сказал! – скомандовал Манька громче.
Кочегар показался из-за черной дверцы, спрятавшейся у одного из котлов, – наверное, там было его жилище. Он распахнул топку, раздразнил пламя несколькими полными лопатами черного аппетайзера и оглядел присутствующих, ожидая, что кто-то что-то скажет.
Все же было что-то притягательное в старинной традиции, когда на траурной церемонии выступали священники или приглашенные поп-звезды. Но Грушевка – секулярное государство, религия тут – на птичьих правах, а последняя поп-звезда устроилась продавать свиные уши на рынке еще тогда, когда ее узнавали на улице. Единственные профессионалы, которые подвизались на похоронах, – бабульки-плакальщицы. Поэтому прощание прошло в тишине, под хлюпанье носов.
Все, что я мог сказать моему другу Немцу, я уже не сказал вчера, когда действительно стоило это сделать.
Кочегар рванул рычаг, находившийся под жестяной пластиной, та встала на попа, и Рейтан соскользнул в пламя. Лязгнул люк, повернулась стальная защелка, в зале снова стало почти темно. Люди начали расходиться. Бригада Маньки ушла еще раньше. Мы остались с Кочегаром один на один. Создание из преисподней подошло ко мне, стало рядом. Растерло по лицу угольную пыль.
Каждый раз, когда он так делал, на его лице проступали новые черты. Конфигурация черных пятен и просветов кожи менялась. Сейчас он выглядел почти добрым. Глаза – единственное, что не менялось от этих прикосновений. И именно они сейчас излучали что-то человеческое.
– Записку ту он в кулаке держал, – сказал Кочегар. – Ту, что Манька конфисковал. А вот это в кармане было. От удара оно немного в него вошло. Пришлось от тела отделять. Ты не подумай, что я по карманам у покойников перед сожжением шарю. То есть я шарю, но это же что? Разве плохо? Живым нужно, мертвым – нет.
Я промолчал.
– Так вот, эта штукенция, кажется, тебе предназначалась.
Кочегар протянул мне небольшой жестяной предмет. Он был в корке запекшейся крови. Я взял его в руки и узнал герметичную баночку из-под гуталина, которую уже видел вчера.
– Что там? – спросил я. – Кофе?
– Какой кофе, дурак! Записка! Тебе!
Я покрутил крышку, пальцы проскальзывали по влажному металлу. Наконец мне удалось ухватиться как следует, и тайник открылся. Там была бумажка. На ней два слова. Первое: Книжнику. Второе: Геродот. Я задумался, что может значить этот «Геродот», и вспомнил вчерашний разговор про газетные новости, о том, что они Рейтану напоминают что-то прочитанное раньше. Я уже собирался выйти из котельной, как Кочегар меня окликнул.
– Коробочку оставь! – приказал он, протянув ладонь.
Я отдал ему гуталинницу.
– А вот это – тебе. – Он протянул сложенный во много раз лист плотной бумаги.
Развернув его, я сразу увидел слова «Карта Белорусской Советской Социалистической Республики» и только потом разобрал очертания дорог, салатовые лесные пространства, голубые пятна озер, похожий на игрушечный лабиринт (загони шарик в центр) Минск в середине. Бумага во многих местах была испещрена рисунками, аббревиатурами и надписями.
– Цинка не надо. Отдаю бесплатно. Тебе это нужно. Мне – нет. Все как с мертвыми и живыми. Счастливого пути.
Я вышел на улицу. И мне не было холодно. Прогретое преисподней тело чувствовало себя на вечном белорусском «околоноля» так, как когда-то, когда мы жили в теплых домах, ели сытную пищу и потребляли ультрафиолет. Открыв подъезд, я услышал, как Герда здоровается со мной лаем – она всегда слышит мои шаги внизу. Когда мы расстаемся на несколько часов, с нее слетает вся язвительность и ирония, она становится просто преданной своему хозяину собакой, которая очень рада его видеть. Сейчас вот ее хвостище мел из стороны в сторону, как будто она была обычной дворнягой, а не черной благородной овчаркоподобной дворнягой, которая несколько часов назад свысока подтрунивала над Кассандрой.
Я почесал у нее за ухом так, как вчера это делал Рейтан. Она проскулила, будто поняла, что произошло с человеком, который умел так деликатно ее приласкать. Потом я взял стремянку, залез на антресоль и выудил оттуда запыленный девяностолитровый рюкзак. Черный, с толстыми лапами шлеек и вороненой пряжкой поясной застежки. Надежный, водонепроницаемый, он за свою жизнь видел больше стран, чем среднестатистический житель Грушевки. Когда-то в этом рюкзаке я носил наши общие с ней вещи. Ей будет приятно его узнать, когда мы наконец встретимся.
Я углубился в библиотеку и после долгих поисков все же нашел то, что искал. «Геродот. История в десяти книгах». Серия «Памятники исторической мысли» Академии наук СССР. Капитальная твердая обложка с музой на фасаде. Обложку мне сразу же захотелось отодрать – путешественник во мне уже начал побеждать хранителя книг. Твердая обложка слишком много весит и создает неудобства при упаковывании. Но я пожалел Геродота, бережно поместив его на самое дно моего рюкзака.
Затем с трудом достал два тяжелых поддона цинка из моего сейфа, бывшего морозильника. Золотовалютные резервы не поместились даже на столе, часть пришлось пересчитывать на полу. Четыре тысячи шестьсот единиц. До черта! Этого бы хватило, чтобы платить за жилье в Грушевке на протяжении тридцати восьми лет (если бы годы еще существовали).
Но тут предсказуемо напомнило о себе одно заметное преимущество бумажных денег перед посткапиталистическими.
Я ссыпал батарейки в рюкзак и попробовал оторвать его от пола. У меня ничего не получилось. Жалобно захрустели швы, и я понял, что днище рюкзака сейчас отделится вместе с ценным, но таким тяжелым содержимым. Я затащил рюкзак на механические весы, с помощью которых следил за своей формой в ту эпоху, когда основной проблемой человечества был набор, а не потеря веса. Посмотрел, где остановилась стрелка, и охнул – восемьдесят килограммов. Вздохнув, я стал терпеливо выгружать цинк из рюкзака, пока стрелка на весах не передвинулась на отметку 35 кг. Аккуратно поднял рюкзак на плечи. С непривычки кожа под шлейками заныла, в спину вгрызлась боль. Сделал несколько шагов. Терпимо. Двигаться можно. Первые дни, пока не привыкну, будет тяжеловато, но потом наберу темп и перестану обращать внимание на то, что на спине висит половина моего собственного веса.
Я забросил в рюкзак виски из сейфа (бесценные две трети настоящего Teacher’s, которым можно рассчитаться за что-то сверхценное, когда кончится цинк), гречку, соль и сахар в герметичных пакетах, напихал свитеров и шерстяных носков, чтобы греться, если в какую-то из ночей не смогу найти дров для костра. Добавил арктический спальник, про который когда-то говорили, что в нем можно комфортно спать на снегу при минус десяти.
Сорок пять кило оставшегося никель-металл-гидрита – смеси более ценной в нашем темном мире, чем золото с платиной вместе взятые, – я высыпал в большую клетчатую сумку и поставил ее на санки.
– Собирайся, Гердочка! Выйдем, доброе дело сделаем, – предложил я собаке, как будто ей нужно было долго подкрашивать перед выходом глаза, губы и когти.
Конфета! Я захватил конфету, и через три минуты мы уже стояли внизу. Еще через минуту я собирал никель, который разлетелся из лопнувшей сумки по всему двору и мучительно думал, стоит ли зажигать фонарик. По старым понятиям сцена выглядела так, как если бы кто-нибудь рассыпал по снегу толстые пачки банкнот, а потом шарил в темноте, пытаясь их собрать.
Путь до майората мы проделали так: Гердочка волокла санки, а я придерживал разодранную сумку. Если бы кто-нибудь надумал организовать погоню, он мог бы найти нас по батарейкам, выпадавшим из нашего возка, как хлебные крошки в гриммовской сказке про Гензеля и Гретель. Свободных рук, чтобы их подбирать, у меня не было. Выражение Гердиной морды напоминало о бурлаке с картины Репина, который уже даже не идет, а висит на бечеве. Глаза ее наполняла такая же жажда классового милосердия со стороны угнетателей, то есть меня.
– Ну потерпи, девочка моя! – стонал я, но собака с достоинством отворачивала морду.
Чувствовалось, что в ее черной книжечке, куда она заносит все злоупотребления хозяина и планы возможной мести за них, появилась новая запись.
Рабочая резиденция Бургомистра находилась на втором этаже бывшего кардиологического центра, и это было закономерно, ведь Бургомистр слыл у нас человеком сердечным. Раньше он принимал прямо в своем жилом доме, расположенном под колокольней, на пригорке, с которого поверх пограничной стены открывался живописный вид на черные силуэты далеких многоэтажек Пушкинского княжества. Но толпы беженцев и лиц, просивших вид на жительство в муниципалии, скоро перестали умещаться не только в приемном покое имения Бургомистра, но и у него во дворе. Приемную перенесли в просторный и относительно теплый кардиологический центр, чтобы хотя бы частично компенсировать неизбежность отказа большинству искателей счастья: Грушевка принимала только самых состоятельных. В студеном Пушкинском княжестве за десять цинков коммуналки можно было жить год, пусть и без тепла в батареях.
Наше появление в людной приемной фурора не вызвало. Огромный бомбила в татуировках объявил, что нам нужно занять место в «электронной очереди» и что место это будет двести семьдесят шестое. Он даже выдал нам бумажку с накорябанными цифрами. Подумав сперва, что он – двести семьдесят пятый, я серьезно ошибся: вскоре бомбила предложил нам продать девяносто первую позицию всего за два цинка. Я понял, что мужик и был этой самой очередью, произвольно решая, кто за кем идет и на каком основании.
Вспомнив вечную отговорку для таких случаев «я только спросить» и используя баржу санок в качестве тарана, я продрался к дверям нашего верховноглавнейшего и втиснулся внутрь. Тут был еще один барьер – секретарша Магдалена, для которой у меня был припасен специальный волшебный прием.
Она только успела раскрыть рот, чтобы сообщить, что Бургомистр занят и мне следует дождаться своей очереди, как я выудил из кармана конфету – ту самую конфету, которую купил на рынке по цинку за две дюжины, и подсел к мегере.
– Приветствую ясновельможную панну Магдалену! Мне необходимо коротенько заглянуть к Бургомистру с меценатскими целями! – Я погремел сумкой с цинком.
– Если с меценатскими, то можно, – сердечно сказала она, принимая конфету.
Как все-таки просто сломать систему, основанную на сочетании чахлой демократической поросли и бетонной номенклатурной традиции тех времен, когда была создана карта Кочегара! Герда изобразила на морде брезгливость к моей пронырливости: она бы стояла в очереди до самого рассвета.
Кабинет Бургомистра освещался сразу восемью большими (на четыре батарейки) фонарями, расставленными по углам. Как и всегда во время посещений, мне пришлось прищуриться от сияния славы грушевской системы государственного управления. Из глаз брызнули слезы. Бургомистр встретил меня в дверях – он только что отказал очередному искателю гражданства. Лицо его выражало ритуальную печаль.
– А, Книжник! – сказал он с пасторской интонацией.
Если дать ему развить этот эффект, он начнет читать проповедь о том, что демократия в первую очередь означает ценностное равенство (под ценностями он понимал цинк).
Я пропустил собаку вперед, она по-приятельски обнюхала Бургомистра, разрушая символический барьер между нами. Как можно робеть перед обладателем восьми зажженных четырехцинковых фонарей, которого только что обнюхала твоя собака?
– У меня к вам небольшое дело. – Я подтянул драную сумку с цинком к ногам Бургомистра. – Тут сорок с лишним килограммов денег. Хотел бы пожертвовать на нужды города. Может, это поможет переселенцам.
– А сам что? – Он вынул одну батарейку и внимательно осмотрел ее, покручивая в своих толстеньких пальчиках.
– А сам пришел просить права выйти из города.
– Это как? – Бургомистр уставился на меня. – У нас такого не просят. У нас обычно просят наоборот.
– Мне нужно на юг. Критическая необходимость.
Бургомистр посмотрел на меня, подошел к столу, еще раз посмотрел на меня, обошел стол вокруг, остановился, сел и снова уставился на меня. Почесал лысоватую голову с вылупленными умными глазами. Хмыкнул. Покачал головой и спросил:
– Что, в скифы податься решил?
– Скифы на конях путешествуют, господин Бургомистр, – смиренно ответил я, вперив взгляд в пол. – А у меня коня нет. Только собака.
Герда радостно гавкнула, умница. Бургомистр вздрогнул от неожиданности.
– Парень, объяснись! Ты же уважаемый гражданин. Деньги, доход. Библиотека. Я как-то пока не нашел времени к тебе заглянуть. Государственные дела. Но, может, и пришел бы за книгой. Такой, не слишком мудреной, чтобы голову не поломать.
– А что тут объяснять? Живу один. Должен уйти.
– К амазонкам пойдешь? Девку себе искать?
– Есть уже девушка, – так же покорно ответил я, не поднимая глаз.
– Ой, ну вот не начинай! – Дело в том, что мы уже однажды с Бургомистром на эту тему разговаривали. Он считает, что благопристойный бюргер должен жить с пышнотелой женой и плодиться здесь и сейчас. А любовь – это чувство, которое после кружки меда чувствуешь к пиханной пальцем колбасе. – Не начинай, слышишь? Я тебя нормальной женщине порекомендовал. На все готовой! И что ты с ней сделал?
– Как раз Кассандры касается вторая часть моего предложения. Я оставляю деньги. И оставлю библиотеку. Городу. Можете сделать ее бесплатной для всех.
– Ага, щас! – выкрикнул Бургомистр. – Уже одну бесплатную разграбили!
– Оставлю безвозмездно. Более того, еще и деньги вам даю. С одной просьбой. Пусть администраторшей библиотеки станет Кассандра. Ей работа нужна. Она неглупа, быстро изучит фонды.
Вид у Бургомистра был такой свирепый, будто он хотел плюнуть на пол, но понимал, что плевок все же придется отмывать (секретарша Магдалена к такой работе была точно не приспособлена из-за античного склада характера).
– Кассандра?! – Он крикнул еще громче: – Кассандра?!! Сообщаю, молодой человек, что женщина по имени Кассандра сегодня с продуктовым обозом вернулась в Народную диктатуру Кальварию. Скорее всего, чтобы снова стать там невольницей.
– Как вернулась? – Я плюхнулся на стул, стоящий около стола, хотя Бургомистр мне этого не предлагал. – Вы же подарили ей гражданство!
– Вольные граждане получают роскошь самостоятельно решать, что делать со своей жизнью. Пожертвовать свободой и стать рабами – их полное право.
Я вспомнил, как кипело, млело и утопало в роскоши ее тело, на которое я не имел права даже смотреть. Мне хотелось сказать ей, что она сделала ошибку, что она не разобралась. Что свобода – это не страшно, что воля – лучше рабства. И что стоит лишь немного оглядеться, и она сама это поймет. Да только в нашем мире нет телефонов, по которым можно созвониться и объяснить.
Молча сняв с кольца ключ от своего почтового ящика, я положил его на стол:
– Я уйду завтра после утреннего звона. Ключи от квартиры и библиотеки оставлю в почтовом ящике.
Бургомистр посверлил меня взглядом, наверное, надеясь, что образовавшиеся дырки ослабят мою волю и заставят изменить решение. Взял лист бумаги, быстро написал на нем что-то, приложил печать и информировал:
– За ключами завтра пошлю! Книжника выберу из умных и достойных доверия. Ты свободен! Шею себе не сверни там, за стеной.
Я вышел на улицу, включил налобник и разобрал написанное Бургомистром:



