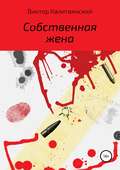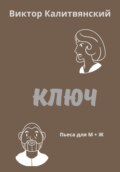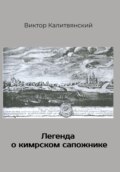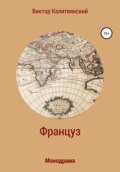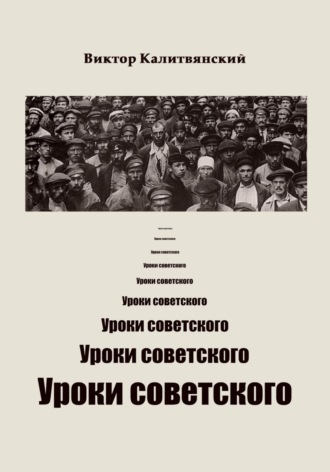
Виктор Иванович Калитвянский
Уроки советского
«Я видел такое, что нельзя забыть до смерти: в хуторе Волоховском, ночью, на ветру, на лютом морозе, когда даже собаки прячутся от холода, семьи выкинутых из домов жгли на проулках костры и сидели возле огня. Детей заворачивали в лохмотья и клали на оттаявшую от огня землю. Сплошной детский крик стоял над проулками. Да разве ж можно так издеваться над людьми?..
<…>
Вот перечисление способов, при помощи которых добыто 593 тонны хлеба:
1. Массовые избиения колхозников и единоличников.
2. Сажание в «холодную». «Есть яма?» – «Нет». – «Ступай, садись в амбар!» Колхозника раздевают до белья и босого сажают в амбар или сарай. Время действия – январь, февраль. Часто в амбары сажали целыми бригадами.
3. В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы юбок бензином, зажигали, потом тушили: «Скажешь, где яма? Опять подожгу!».
<…>
6. В Лебяженском колхозе ставили к стенке и стреляли мимо головы допрашиваемого из дробовиков.
<…>
10. В Затонском колхозе работник агитколонны избивал допрашиваемых шашкой. В этом же колхозе издевались над семьями красноармейцев, раскрывая крыши домов, разваливая печи, понуждая женщин к сожительству.
11. В Солонцовском колхозе в помещение комсода внесли человеческий труп, положили его на стол и в той же комнате допрашивали колхозников, угрожая расстрелом…
Примеры эти можно бесконечно умножить».[29]
Итак, за несколько лет большая часть крестьянских дворов потеряла хозяйственную самостоятельность и стала частью новых, социалистических хозяйств, колхозов и совхозов (97 % к 1937 году).[30] К 1940 году в СССР было чуть более 4 тыс. совхозов и около 237 тыс. колхозов.[31]
Чего же добилась советская власть, проведя эту тяжелейшую социально-политическую операцию над большей частью населения страны?
Известный дореволюционный экономист, бывший министр Временного правительства, в эмиграции внимательный исследователь советской экономики Сергей Прокопович так отвечал на этот вопрос: «… мы должны установить, что за 11 лет планового строительства Союза ССР, с 1927/28 года по 1938/39 год, сельское хозяйство в Союзе сделало значительные успехи».[32]
Для подтверждения правоты (или неправоты) Прокоповича проведём короткий анализ результатов работы реформированного по-советски сельского хозяйства СССР. Для анализа мы будем использовать советскую статистику, хотя она заслуженно не пользуется доверием. Но, во-первых, другой статистики у нас нет. Во-вторых, советскую статистику никак нельзя заподозрить в том, что она преуменьшает «достижения» советской власти. И, в-третьих, несмотря на все сказанное, советская сельскохозяйственная статистика при внимательном изучении даёт возможность получить вполне объективную картину.
Итак, рассмотрим первый показатель – валовой сбор зерна на территории СССР в границах 1960 года. 1913 год – 86 млн тонн. В последние годы НЭПа и чуть позже, в 1928–1932 годах (в среднем за год) – 73,6 млн тонн. В 1933–1937 годах (в среднем за год) – 72,9. В 1938–1940 годах (в среднем за год) -77, 9.[33]
Получается, валовой сбор зерна в течение всего предвоенного периода практически оставался на уровне последних лет НЭПа. Не помогла и созданная в стране сеть машинотракторных станций (МТС). На начало 1941 года сеть МТС располагала 531 тыс. тракторов (в среднем чуть более двух на хозяйство), 182 тыс. комбайнов (примерно один на два хозяйства) и 228 тыс. грузовых автомобилей (чуть менее одного на хозяйство).[34] Но показатель валового сбора зерна 1913 года будет превышен только в середине 50-х годов, когда техники уже почти в два раза больше…
Урожайность укладывается в ту же тенденцию: в 1913 году – 8,2 ц с гектара, в последние годы НЭПа – 7,5 ц, после «коллективизации» и до войны – от 7,1 до 7,7 ц. Рекорд 1913 года будет превзойдён только в 1956 году.[35]
При этом советской власти удалось после «коллективизации» – при том же уровне валового сбора зерна – повысить товарность: государственные закупки увеличились с 18 млн тонн в последние годы НЭПа до 32 млн тонн перед войной.[36]
Очевидно, что увеличение почти в два раза госзакупок было достигнуто за счёт уменьшения потребления миллионов крестьянских семей. До «коллективизации» каждое крестьянское хозяйство было самостоятельным, само решало, продавать ли хлеб государству или оставлять себе на пропитание, на сев и другие операции. После «коллективизации» крестьяне стали членами коллективных хозяйств, результат их труда аккумулировался в общем котле, а этим результатом фактически распоряжалось государство в лице назначенных руководителей совхозов и колхозов. Голод 1932–1933 годов стал итогом государственного самоуправства по отношению к коллективным хозяйствам: госорганы стремились выполнить планы по заготовкам и изымали зерно, невзирая на реальную урожайность, на величину запасов для потребления членов хозяйств, для сева.
Теперь – о состоянии животноводства до и после «коллективизации».
Крупный рогатый скот в 1913 году (в границах 1960 года) – 58,4 млн голов, в том числе коров – 28,8 млн. В 1928 году – 66,8 млн голов, коров – 33,2 млн. В 1934 году – 33,5 млн, коров – 19,0 млн.[37] То есть, за восемь лет поголовье уменьшилось в два раза… Затем идёт медленный подъем, снова падение во время войны, а показатель 1928 года будет перекрыт только в 1959 году.
Те же самые тенденции – рекордные показатели в 1928 году, затем падение после «коллективизации» в два и более раз, выход на уровень НЭПа лишь в 50-ые годы – и в других отраслях животноводства (свиньи, овцы, козы).
Общую картину подтверждают показатели производства мясо-молочной продукции. В 1913 году (в границах 1960 года) – произведено 5,0 млн тонн мяса в убойном весе и 29,4 млн тонн молока. В 1929 году – 5,8 млн тонн мяса и 29,8 млн тонн молока. В 1934 году – 2,0 млн тонн мяса и 20,8 млн тонн молока. Цифры 1929 года превышены в 1954 году – 6,3 млн тонн мяса и 38,2 млн тонн молока.[38]
Попробуем сопоставить обеспеченность советских граждан мясом и молоком до «коллективизации» и после неё – на душу населения. Население СССР по переписи 1926 году (в границах до 17 сентября 1939 года) – 147 млн чел., по переписи 1939 года в тех же границах – 170,6 млн чел., по переписи 1959 года (в границах 1960 года) – 208,8 млн чел.[39] Объёмы производство мяса и молока в 1926 году мы не знаем, поэтому возьмём показатели 1929 года. В 1939 году мяса произведено 5,1 млн тонн и 27,2 млн тонн молока, в 1959 году – 8,9 млн тонн мяса и 62 млн тонн молока.[40]
Несложный расчёт показывает, что на одного жителя Советского Союза в 1929 году производилось около 40 кг мяса и 202 кг молока в год, в 1939 году – 29 кг мяса и 158 кг молока, а в 1959 году – 42 кг мяса и 297 кг молока…
Наши расчёты подтверждаются и современными данными о калорийности рациона питания советских граждан: в годы нэпа – около 2900 ккал на душу и в конце 30-х годов – около 2650 ккал. То есть, душевое потребление уменьшилось на 250 ккал. В качественном отношении питание крестьян и рабочих в 30-е годы было значительно хуже, чем в эпоху нэпа: уменьшилось потребление мяса и молока и увеличилось доля хлеба и картофеля.[41]
Таким образом, цифры советской статистики наглядно демонстрируют, что «коллективизация» не привела к подъёму сельского хозяйства СССР. Наоборот, после того, как организационная фаза её была закончена, показатели производства сельхозпродукции существенно снизились по сравнению с последними годами НЭПа и превысили их только к 60-м годам ХХ века.
Почему же серьёзный экономист Сергей Прокопович писал в конце 40-х годов об успехах советского сельского хозяйства? Мы можем предположить, что на Прокоповича произвёл сильное впечатление масштаб изменений, произошедших на селе за 10 лет. В результате беспрецедентной силовой операции на живом многомиллионном теле крестьянства на месте десятков миллионов мелких частных хозяйств появилось несколько сот тысяч крупных, оснащённых минимумом сельхозтехники. Но эти крупные коллективные хозяйства так и не смогли стать эффективными: и урожайность, и производительность труда оставались на низком уровне многие десятилетия после «коллективизации». Большевистская модернизация деревни в конечном итоге не принесла сельскому хозяйству СССР ни процветания, ни даже устойчивого развития и способности обеспечить население продовольствием.
«Коллективизацию» можно считать символическим рубежом: тогда закончилась история русского крестьянства. Конечно, оставалось население сёл и деревень, но их жителей с той поры можно считать скорее аграрными рабочими, нежели традиционными крестьянами.
«Коллективизация» по-своему завершила тот процесс преобразования в деревне, который начался в ещё в 1861 году освобождением крестьян от крепостной зависимости. Реформа Столыпина ставила своей целью разрушение общины, расслоение крестьян на фермеров (кулаков), переселенцев в Сибирь и на тех, кто пополнит ряды батраков у фермеров и рабочих на заводах и фабриках. Революция 1917 года прервала эти попытки преобразований, произошёл т. н. «чёрный передел»: помещичьи и все другие некрестьянские земли были переделены между крестьянскими хозяйствами. После десятилетия неуправляемой крестьянской «вольницы» советская власть силовым образом преобразовала 25 млн частных хозяйств в крупные колхозы и совхозы. Преобразование было проведено с огромными жертвами для крестьян и издержками для экономики страны. В сущности, это была реализация крайне левой программы преобразования деревни, в теории предложенной ещё Троцким. И это, конечно, произошло не случайно. Большевизм был всегда враждебен деревне, как источнику мелкобуржуазности, как источнику социального хаоса, неподвластного прямому управлению, которое только и признавали большевики.
«Правая альтернатива», которую предлагали Бухарин и его группа, не нашла поддержки у большинства коммунистов, а что касается Сталина и группы высших руководителей, то для них «коллективизация» была не только экономической, а и политической целью – сохранить власть.
«Коллективизация», десятилетия подававшаяся советской пропагандой как величайшее достижение, – на деле обернулась величайшей трагедией. Сельское хозяйство так никогда и не оправилось от потрясений, сопровождавших разгром деревни. Даже когда в позднесоветский период у государства нашлись деньги для масштабных вложений в деревню – это не дало серьёзного результата по причине общей неэффективности колхозной системы хозяйствования – в рамках общей советско-социалистической. За все десятилетия советской власти в стране так и не сумели наладить производство сельхозпродукции в необходимых объёмах и бесперебойное снабжение населения продовольствием. А иногда наступал просто-напросто голод, уносивший миллионы жизней…
Индустриализация на марше
В буднях великих строек,
В весёлом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна учёных!
Ты по степи, ты по лесу,
Ты к тропикам, ты к полюсу
Легла родимая, необозримая,
Несокрушимая моя.
Нам нет преград ни в море, ни на суше,
Нам не страшны ни льды, ни облака.
Пламя души своей, знамя страны своей
Мы пронесём через миры и века!
Марш энтузиастов[42]
«Коллективизация» и «индустриализация» – два фундаментальных основания советской истории, советской пропаганды и советской мифологии.
Герберт Уэллс не любил марксизма, но полагал большевиков единственной модернизационной силой, способной ликвидировать хаос в стране, создать на руинах бывшей царской империи современное государство. Советская историография (а за ней пропаганда) проводила такую безальтернативную линию связанных между собой исторических процессов и событий: в революции 1917 года победили народные слои, рабочие и крестьяне; для осуществления настоящего подъёма сельского хозяйства необходимо было провести коллективизацию; для обеспечения подъёма всего народного хозяйства и обороны от империализма нужна была индустриализация; победа во второй мировой войне и была обеспечена предшествующими нелёгкими для страны этапами модернизации. Эта линия проводилась многие десятилетия при советской власти и во многом осталась прежней в постсоветский период.
Между тем, альтернативы были. Альтернативой сталинской «коллективизации» была программа сбалансированного развития всех отраслей народного хозяйства с опорой на развитие сельского, которую предлагала «бухаринская» оппозиция. При осуществлении такого варианта страна избежала бы тех потрясений, что сопровождали так называемый «великий перелом».
Что касается индустриализации, первое, с чего следует начать, – это оценить степень промышленного развития дореволюционной России. И – понять, какие задачи объективно стояли перед промышленностью после первой мировой войны, революции и гражданской войны.
Что собой представляла промышленность дореволюционной России?
Известный статистик Василий Варзар насчитал в 1908 году 39 866 производств (предприятий), на них работали 2 млн 680 тыс. человек. Из них самые крупные группы по числу производств – пищевое (около 7,5 тыс. производств), обработка металлов, машин и орудий (около 2 тыс.), обработка дерева (около 2 тыс.), золотодобывающие (чуть более 1,5 тыс.), обработка минеральных веществ (около 1,5 тыс.). По финансовому обороту (всего за 1908 года – около 4,5 млрд руб.) самый крупные – пищевое производство (около 1,2 млрд руб.), обработка хлопка (928 млн руб.), обработка металлов, машин и орудий (428 млн руб.), казённое винное производство (около 345 млн руб.).[43]
По замечанию Струмилина, промышленность в России и до 1917 года была ведущей отраслью народного хозяйства: «Вступив на стезю капиталистического развития позже других стран Запада и располагая в связи с этим в основном новейшим оборудованием зарубежного происхождения, русская индустрия по сравнению с другими, как известно, ещё до революции достигала максимальной концентрации своего производства и рабочей силы в самых крупных центрах и наиболее передовых предприятиях страны».[44]
Однако объем промышленного производства в целом и на душу населения был существенно меньше, чем в передовых странах. В 1913 году объем промышленного производства в России составлял 5,5 % от мирового. Для сравнения: США – 35,8, Германия – 15,7, Великобритания – 14, Франция – 6,4.[45]
Чугуна Россия выплавляла 1,6 пуда на душу населения, США – 20, Германия – 17,5, Великобритания – 14,2, Франция – 8,2. Стали в 1912 году Россия произвела 1,3 пуда на душу населения, США – 19,1, Германия – 16,4, Великобритания – 13,2, Франция – 7,5.[46]
Кроме небольшого объёма производства, русская промышленность имела несбалансированную структуру, свойственную аграрной стране. Струмилин отмечает, что относительная отсталость русской промышленности сказывалась в отставании тяжёлой промышленности, в производстве средств производства, в машиностроении и химии. В России целые отрасли машиностроения либо вовсе отсутствовали, либо были слабо развиты. Например, производство сельскохозяйственных машин выросло с 1900 года до 1912 года почти в 7 раз (с 6 млн руб. до 40 млн), производство машин для промышленности выросло с 32 млн руб. до 90 (почти в 3 раза), однако такие результаты не смогли удовлетворить все требования внутреннего рынка, и ввоз из-за рубежа соответствующего оборудования составил сумму 182 млн руб..[47]
Исчерпывающий анализ состояния русской промышленности до и после падения царского режима дал в своей книге «Послевоенные перспективы русской промышленности» известный русский инженер и экономист, ректор Императорского Московского технического училища Василий Гриневецкий. Книга была написана в разгар гражданской войны, издана в Харькове в 1919 году, и вскоре автор умер от сыпного тифа в Екатеринодаре. Гриневецкий был первым, кто определил задачи по восстановлению и дальнейшему развитию промышленности, стоявшие перед страной, а также – обозначил этапы достижения целей.
Первый этап – восстановление и увеличение снабжения топливом и сырьём всего народного хозяйства. Второй – восстановление и развитие транспорта. Третий – изменение, повышение технической оснащённости промышленности. Четвёртый – повышение качества и интенсивности труда, что является необходимым условием увеличение производительности труда в России, которая до 1914 года составляла четверть от развитых стран, а после гражданской войны находилась ещё ниже. Пятый этап – защита внутреннего рынка от иностранного ввоза. Шестой – изменение ёмкости рынка за счёт изменения структуры промышленности на более современную. Седьмая – привлечение иностранного капитала.
У книги Гриневецкого оказалась удивительная судьба. Неизвестно, как книга оказалась в Москве, но в 1919 году видный большевик, инженер Леонид Красин приносит её Ленину. Говорили, что пролетарский вождь прочёл книгу «тёмного реакционера» (такую заметку он оставил на полях), – не отрываясь. Помимо характеристик автора («взбесившийся буржуа»), поля пестрели такими замечаниями: «умница», «вот, что нам нужно», «в первую очередь!».
Книга, по-видимому, произвела огромное впечатление на руководство большевиков. Ничего подобного в русской экономической литературе им встречать не доводилось, только с её помощью они впервые осознали, какие конкретные технико-экономические задачи необходимо решать.
В том же году другой большевик Глеб Кржижановский, работавший до революции вместе с Красиным в российских структурах германской фирмы «Сименс-Шуккерт», посылает Ленину свою статью «Задачи электрификации промышленности» и получает немедленный отклик. Спустя несколько недель Ленин подписывает положение о Комиссии ГОЭЛРО (Государственный план электрификации России). Комиссия состоит из 19 человек под председательством Кржижановского.
В декабре 1920 года план готов и утверждён. План представлял собой единую программу возрождения и развития страны и её конкретных отраслей – прежде всего тяжёлой индустрии. Особо подчёркивалась в этой программе перспективная роль электрификации в развитии народного хозяйства.
Восстановление разрушенной экономики рассматривалось в плане лишь как часть программы, как основа для последующей реорганизации, реконструкции и развития народного хозяйства страны. План был рассчитан на пятнадцать лет, чрезвычайно детально: в нем определялись тенденции, структура и пропорции развития не только для каждой отрасли, но и для каждого региона.
Впервые в России авторы плана ГОЭЛРО предложили (вслед за Гриневецким) экономическое районирование из соображений близости источников сырья (в том числе энергетического), сложившегося территориального разделения и специализации труда, а также удобного и хорошо организованного транспорта. В результате было выделено семь основных экономических районов: Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский. С самого начала предполагалось, что план ГОЭЛРО станут вводить в законодательном порядке, а способствовать его успешному выполнению должно было централизованное управление экономикой. По сути дела, он стал в России первым государственным планом и положил начало всей последующей системе планирования в СССР, предвосхитив теорию, методику и проблематику будущих пятилетних планов. В июне 1921 года Комиссию ГОЭЛРО упразднили, на её основе создали Государственную общеплановую комиссию – Госплан, руководивший с этого времени всей экономикой страны в течение многих десятилетий.
В декабре 1925 года на XIV съезде партии большевиков был провозглашён курс на «индустриализацию». Цель «индустриализации» – превратить страну, которая ввозит машины и оборудование, в страну, которая машины и оборудование производит. Аграрная страна должна стать индустриальной, этим будет обеспечена независимость от капиталистических стран и обороноспособность СССР.
При обсуждении путей и способов «индустриализации» в руководстве большевиков не было единого мнения. Бухарин, Рыков, Томский, Дзержинский предлагали сбалансированное развитие и промышленности, и сельского хозяйства, чтобы они обеспечивали общий подъем экономики. Эта группа ратовала за самоокупаемость предприятий, за ориентацию на рынок, на потребителя, – то есть, фактически за продолжение НЭПа. Противники в лице Троцкого, Пятакова, Куйбышева выступали за «сверхиндустриализацию», за высокие темпы развития промышленности во что бы то ни стало. Сталин до поры до времени, как и при обсуждении «коллективизации», не обозначал свою позицию, но в нужный момент всегда оказывался во главе победителей.
Ключевым был вопрос об источниках огромных капитальных вложений, необходимых для быстрого развития индустрии. Как известно, Россия всегда была бедна собственными капиталами, источником средств были в основном иностранные инвестиции. Доля иностранного капитала в имущественных фондах всей российской фабрично-заводской дореволюционной промышленности, включая землю, составляло 36 %. Российские банки принадлежали международному капиталу на три четверти.[48]
Вот как видел решение проблемы инвестиций Гриневецкий: «Привлечение иностранных капиталов должно стать основной задачей экономического возрождения и развития России, и очевидно «социалистический» строй способен будет привлечь лишь авантюристический, хищнический капитал. Но мелкобуржуазный строй, который в крестьянской России должен явиться неизбежным следствием её социально-экономической структуры, способен вообще к гораздо большей социальной устойчивости, чем политический строй в странах чисто промышленного типа, и с этой стороны будет привлекателен для капитала, если сумеет справиться с налоговой системой и с вспомогательными условиями для развития промышленности. Поэтому после приобретения известной политической устойчивости Россия может стать страной весьма привлекающей капитал, тем более что Западу, вероятно, ещё долго придётся изживать социальные последствия мировой войны».[49]
Для большевиков такой способ обеспечить инвестиции был политически неприемлемым: советская власть ни в чем не должна зависеть от капиталистов, она должна иметь свободу рук… Оставалось искать внутренние резервы. Ими могли быть строжайшая экономия всех бюджетных расходов, «перекачка» средств из сельскохозяйственного сектора в промышленный за счёт завышения цен на промышленные товары и занижения их на сельскохозяйственные, высокие налоги на зажиточное крестьянство.
В итоге линия на «сверхиндустриализацию» победила, НЭП был свёрнут, свободных крестьян превратили в подневольных колхозников, началась эпоха «бури и натиска» советской «индустриализации».
В соответствие с планом первой пятилетки на 1928–1932 годы предусматривался рост промышленной продукции на 136 %, производительности труда – на 110 %, снижение себестоимости промышленной продукции – на 35 %. Планировалось строительство более 1200 заводов. Основное внимание уделялось тяжёлой промышленности, на которую выделялось 78 % всех капиталовложений. В начале 1930 года плановые показатели были пересмотрены и увеличены. Это касалось добычи угля, нефти, выплавки стали, производства тракторов, строительства новых заводов.[50]
Организовать одновременное строительство тысяч предприятий – такие амбициозные цели требовали огромных ресурсов: финансовых, материальных, человеческих, интеллектуальных (специальных знаний).
Финансовые ресурсы формировались за счёт «внутренних резервов», что подразумевало снижение жизненного уровня основной массы населения. Лес, камень, песок, гравий – этих и других природных продуктов было в стране достаточно. Нужны были только миллионы рабочих рук – их источником была деревня. Не хватало специалистов и специальных знаний – большевики приняли решение использовать иностранных специалистов, иностранные технологии.
Помимо советских организаций в проектировании и строительстве заводов и фабрик принимали участие крупнейшие фирмы США и Европы. Иностранцы проектировали все объекты по производству искусственного волокна, половину предприятий химической промышленности, 6 из 12 заводов чёрной металлургии, треть проектов сахарной промышленности, 80 % горнорудных предприятий.[51]
В строительстве и пуске Магнитогорского металлургического комбината участвовали американские и германские фирмы Arthur McKee of Cleveland (главный проектировщик), Freyn Engineering Corporation, The Coppers Corporation of Pittsburgh, General Electric, Demag AG, Krupp AG, German Koppers AG engineers. Московский автозавод АМО-ЗИЛ, основанный товариществом Рябушинских в 1916 г., был в начале 1930-х годов капитально переоборудован с участием американской компании Arthur Brandt. Проект Нижегородского (Горьковского) автозавода был разработан с помощью компании Форда. Строительную часть исполнила компания Austin из Огайо, США.[52]
Проект Сталинградского тракторного завода исполнило архитектурное бюро «Albert Kahn, Inc» из Чикаго. Архитектор Альберт Кан, спроектировавший все заводы Форда, разработал технологию проектирования, которая позволяла разрабатывать рабочие чертежи проекта за неделю, а возводить корпуса предприятий за несколько месяцев. Что и было осуществлено в Сталинграде. Конструкции завода изготовили в США, перевезли в СССР и смонтировали в течение полугода.
Фирма Кана спроектировала более 500 объектов в СССР, среди них – тракторные заводы в Челябинске и Харькове, Ленинградский алюминиевый завод, станкостроительные заводы в Калуге, Новосибирске, Верхней Сольде, литейные заводы в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, в Нижнем Новгороде, теплоэлектростанцию в Якутске, Уральский асбестовый завод.
Работа над проектами шла в Москве, под руководством брата Кана. Это был фактически филиал головной американской фирмы под названием «Госпроектстрой». Там работало 25 американских инженеров и тысячи советских сотрудников, которые перенимали опыт поточно-конвейерного проектирования.
Создание новой советской промышленной индустрии шло по двум направлениям: модернизировались старые предприятия и строились новые. В разных концах Советского Союза возникали целые города, обязанные своим появлением «индустриализации».
Организационная модель была везде одна и та же. В тайге, в степи, в пустыне – зачастую на голом месте – начинали строить завод, комбинат, фабрику. Возле и вокруг предприятия возводился так называемый соцгородок – «социалистический» город. Несколько домов со всеми удобствами для руководящего состава. Для рядовых – деревянные «скоростные» дома с отоплением и «удобствами» во дворе или простые бараки, почти такие же, как в лагерной зоне. Лагерная зона была тут же непременно, поскольку заключённые составляли всегда существенную долю строителей.
Один из самых ярких примеров – Комсомольск-на-Амуре. В его истории, в истории строительства и запуска городских заводов, как в капле воды, отражаются достижения советской промышленной политики, её провалы и даже преступления.
Комсомольск был построен на месте села Пермское в нижнем течении Амура, посередине между Хабаровском и устьем великой реки. В селе жило около четырёхсот человек, потомки переселенцев середины XIX века из центральной России. В феврале 1932 года правительство принимает решение о строительстве в этом месте двух военных заводов – судостроительного и авиационного. И уже в мае пароходы «Колумб» и «Коминтерн» привезли первых девятьсот строителей нового завода – судостроительного. Тогда же начали прибывать и заключённые. До середины 50-х годов город будет оставаться крупным центром ГУЛАГА. 12 июня 1933 года состоялась закладка первого камня Амурского судостроительного завода.
В десяти километрах ниже по течению Амура в том же 1932 году началось строительство авиационного завода. Началось не очень удачно: первая площадка была полностью затоплена осенним наводнением. Пришлось начинать заново, подальше от берега. 18 июля 1934 года заложили главный корпус, но вскоре Москва прислала нового руководителя. Акт приёма-передачи, составленный уполномоченной комиссией, даёт полное представление о том, что происходило на строительстве. Вот главные пункты:
– общего технического проекта организации работ по строительству завода № 126 не имеется;
– рабочего проекта организации работ ни на одном объекте не имеется;
– перечисленные в описи объекты в преобладающем большинстве не запроектированы по проекту, не сданы по актам в эксплуатацию, не выявлена их планово-проектная и фактическая себестоимость;
– строительство главного корпуса не обеспечено электроэнергией;
– цемент, импортная фанера, пакля, войлок хранятся под открытым небом;
– на 68 автомашин и 28 тракторов имеется утеплённый сарай на 10 машин, самолёт два года стоит под открытым небом;
– на всем строительстве нет ни одного барака, имеющего 100 % готовность;
– жилфонд перегружен, площадей для новой рабсилы нет, состояние бараков крайне антисанитарное, все поражены насекомыми;[53]
– недостаёт оборудования, материалов и денег на 13 млн руб.[54]
Новым директором завода № 126 был назначен уроженец нижегородской губернии, ровесник века Кузьма Кузнецов, успевший уже поучаствовать на высоких должностях в строительстве Горьковского автозавода и Казанского авиационного завода. В течение 1934 года на стройку прибыли несколько тысяч специалистов разных профессий из многих регионов страны. Среди них была группа американских граждан финского происхождения, которые работали по контракту в Нижнем Новгороде, а затем по приглашению Кузнецова отправились на Дальний Восток.[55]
Несмотря на огромные трудности, коллективу строителей во главе с Кузнецовым удалось закончить строительство завода и соцгородка. Вот основной перечень объектов, возведённых на заводе и вокруг него к началу 1938 года:
– главные корпуса авиационного завода;
– аэродром;
– 16 жилых 2–3-х этажных домов;
– 25 бараков;
– водопровод на заводе и в соцгородке;
– временная электростанция;
– три артезианских скважины;
– шоссейные дороги в соцгородке и на заводе;
– пожарное депо, дебаркадер, типография;
– гараж;
– три котельные;
– дерево-обрабатывающий комбинат и кирпичный завод;
– три хлебопекарни, три магазина;
– две конюшни на 70 лошадей;
– больница;
– школа;
– клуб.[56]
Хуже обстояло дело с главной задачей – налаживанием производства самолётов. После пуска завода в эксплуатацию Кузнецов постоянно просил Москву, Серго Орджоникидзе, заменить его авиационным специалистом, однако его просьбы оставались без ответа. Первой задачей для завода стало освоение выпуска многоцелевого самолёта Р-6 конструкции Туполева, который уже производился в Москве и Таганроге. Опытная партия Р-6 оказалась негодной в эксплуатации, а затем было принято решение осваивать на заводе производство дальнего бомбардировщика ДБ-3 конструкции Илюшина. Планы производства на 1937 год были не выполнены. Кузнецов объяснял это «недоведённостью» конструкции самолёта (30 тыс. изменений в документации), молодостью и неопытностью заводского коллектива, недостатком оборудования, некомплектностью поставок.[57]