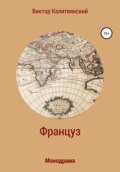Виктор Иванович Калитвянский
Пьеса для пяти голосов
ГОЛОС ПЯТЫЙ. МУЖ
Я въезжаю во двор и ставлю машину на свободное место.
Смотрю на наш балкон. Балкон пустой.
Мужик возится возле «Нивы» и глядит исподлобья. Я занял, по его мнению, чужое место, – но сказать он боится. У них тут весь двор поделён, а мы для них типа «понаехали тут», хотя живём второй год.
Ну что поделаешь, мы их раздражаем. Во-первых, новенькие, чужие, а никому не кланяемся. Во-вторых, ездим на японском джипе. В-третьих, купили сразу две квартиры, сделав одну большую, – весь дом нам этого простить не может. Когда начали ремонт, один маразматик с верхнего этажа подал на нас в суд. За моральный и физический ущерб при проведении ремонтных работ в течение более трёх месяцев.
Я согласился с приговором – полторы тысячи рублей компенсации – и сказал судье, что мог бы дать вдвое больше и без суда. Судья усмехнулась и говорит: слава богу, что весь дом не понёс иски.
На прошлой неделе приходит к нам старший по двору, мужичок в советских трениках с отвисшими коленками, подшофе. Видно, для смелости. И говорит мне, что нужно платить за стоянки. Чтобы поддерживать их в нормальном состоянии. Я ему: нет вопросов, дело хорошее. Он обрадовался и говорит: две тысячи в месяц. Я ему: две штуки со всех или только с меня? Он помялся и отвечает: в соответствие с мощностью двигателя. Это мне даже понравилось, ловко он ввернул насчёт мощности, совсем как налоговая.
Я ему – пожалуйста, только мне какой-нибудь квиток.
Какой квиток? – спрашивает мужичок.
Документ, – отвечаю я. Откуда мне знать, может, ты себе на бутылку собираешь?
Он весь перекосился и ушёл.
Я тут же пожалел, да было поздно. Саша слышала наш разговор и сказала из своей комнаты, что надо было ему дать эти две тысячи. То, что она вдруг высказалась по такому поводу, только подчеркнуло мою глупость, – обычно Саша молчит неделями, ни во что не вмешивается.
Да, нужно сделать аборигенам шаг навстречу.
– Слушай, – говорю я мужику возле «Нивы», – а где старшой живёт? Ну, этот, по двору?
– Мишка что ли? – не сразу соображает тот.
Мне до лампочки, думаю я, – что Мишка, что Гришка. Лишь бы они успокоились, а то ведь колёса начнут прокалывать.
По наводке мужика я иду в соседний подъезд и звоню в квартиру.
Открывает сам старшой. И смотрит на меня, разинув рот. Не ожидал.
– Что, – говорю, – так и не сделал квитанцию?
Он разводит руки.
– Да какую квитанцию? Мы испокон веку собираем на всякие такие нужды, никаких квитков не даём…
– Ладно, – говорю я и протягиваю ему две тысячи.
Он берёт деньги, вертит их в руках, как будто удивлённый, а затем бормочет, что со следующего месяца хватит одной тысячи.
– С тебя, как с новенького, – криво усмехается.
– Ну и ладно, – говорю я и бегу вниз.
Слава тебе, господи. Он разнесёт по двору, что мы не выпендриваемся, признаём их власть. Мне, в общем-то, наплевать, а Саше будет легче.
Я выхожу во двор. Смотрю на балкон. Балкон пустой.
У меня вошло в привычку – поглядывать на балкон – после того, как однажды застал Сашу, стоящей прямо у перил. Ограждение низенькое, она стоит вплотную и внимательно смотрит куда-то. У меня сердце ушло в пятки, я подбежал и гляжу ей снизу прямо в лицо. Думаю, если она будет падать, я её поймаю. Я здоровый, как-нибудь изловчусь. А она – на меня смотрит, но голову даю на отсечение – не видит.
И вот мы так стояли и смотрели друг на друга, пока она – не очнулась что ли. Увидела меня – и ушла в квартиру.
Вот какие у нас теперь порядки.
Ладно, иду наверх.
На лестничной площадке прислушиваюсь. За нашей дверью – голоса. Весёлые голоса. Саша с Петькой смеются. То есть, Петька хохочет, он у нас весельчак, а Сашиного голоса не слышно. Я уже и забыл, как это – когда Саша смеётся. Сидит, наверное, смотрит на Петьку и улыбается. Как она улыбается, как это выглядит, – я тоже позабыл.
Я поднимаю руку – и опускаю.
Как только я войду в прихожую, Саша сразу же уйдёт к себе в комнату. Ужин на кухне готов, Петька будет меня кормить, а Саша так и просидит весь вечер у себя.
Так мы теперь живём.
Ту фотографию – с телевизионщиком и Сашей – мне принесли под вечер.
Когда я увидел её, эту фотографию, со мной сделалось такое, что я сидел в своём кресле какое-то долгое время и не мог шевельнуться. Хорошо, офис был пустой, мои все ушли, мне было так лучше – одному.
И вот я сижу, а у меня в голове какие-то странные мысли, какие-то картины таким тяжёлым роем ворочаются. А в центре этого роя – фотография, где мою жену ведут в чужой подъезд. Она сама идёт, не упирается, и так смотрит на человека, который за плечо её держит, – снизу вверх смотрит, и у неё такое чужое лицо при этом, незнакомое.
Вот ведь какая штука, как это происходит. Только что было всё: семья, любовь, здоровье, успех в делах с деньгами в придачу, и всё вокруг какое-то яркое, весёлое. И вдруг – всё черно вокруг, и только одно перед глазами: как твою женщину ведёт чужой мужик.
Вот, оказывается, что такое любимая женщина в жизни мужчины.
Помню, я тогда ещё спросил себя: а с чего ты взял, что она тебя любила? Она ведь так никогда и не сказал, не произнесла, ни в шутку, ни в постели – что любит меня.
Вышла замуж, родила ребёнка, жила с мужем, исполняла долг жены и матери… а что там в душе, о том знает только бог. Или чёрт.
Так и не сказала.
Никогда.
Не выговаривал язык.
И вот живёшь, понимаешь это – что непонятно до конца, насчёт этой самой любви, – но не пускаешь эту мысль к сердцу. В конце концов, она, Саша, рядом, она твоя жена, она мать твоего сына, она самая красивая женщина города. И она – твоя, ты живёшь с ней бок о бок, день за днём, месяц за месяцем, год за годом. Подумаешь, не имеет привычки вести душещипательные разговоры. Ты и сам не большой в них мастак.
И вот перед тобой кусок бумаги, и на этом куске бумаги твоя жена смотрит на чужого мужика чужим взглядом, и та мысль, которую ты не пускал к душе много лет, – всплывает и становится перед тобой во всей своей чёрной наготе.
Я просидел эти часы в своём офисе, но так и не решил, что мне делать со всем этим свалившимся горем.
То есть, одно дело я всё-таки сделал. Позвонил моим ребятам, которые распутывали сложные хозяйственные проблемы, и поставил им задачу – разобраться с одним человеком, который мне мешает.
Они эту задачу выполнили. Но, странная вещь, когда я узнал, что телевизионщик лежит в больнице с многочисленными травмами, я не испытал никакого удовлетворения. Наверное, удовлетворение испытываешь, когда человека наказывает жизнь, бог, судьба. А мы всего лишь люди, у нас этого права – казнить, миловать – наверное, нет.
В тот вечер я ничего Саше не сказал. Меня что-то удерживало, я как будто на что-то ещё надеялся.
Я стал следить за ней. Я не ходил за нею по пятам, но теперь каждую минуту знал, где она находится, с кем, я контролировал каждый её шаг. Это было несложно, если ты просто внимателен, а если ты словно зверь, который чует запах беды за версту, – это так же просто, как дважды два.
Саша что-то почувствовала. Я видел это в её глазах, она иногда смотрела на меня каким-то новым, долгим взглядом.
Мне не составило труда вычислить тот вечер, когда Саша пошла в больницу к телевизионщику.
Я сидел в машине и смотрел, как она выходит из ворот больницы, как идёт по улице. По походке её я понимал, что ей очень грустно. Как минимум.
В тот вечер я объявил, что мы будем перебираться на постоянное место жительства в областной центр.
Помню, Саша очень удивилась. Мы как-то обсуждали эту возможность, как далёкую перспективу, знаете, такие разговоры ни о чём: если б да кабы. А тут – переезжаем.
Она не очень-то и сопротивлялась. Только спросила, почему такая спешка. И где мы будем жить. Тут у меня было всё на мази. Так получилось, что я вложил деньги в недвижимость, в областном центре, мне посоветовали. Я не собирался там жить, это была коммерческая операция, но тут пришлось очень кстати.
А мне эта идея как-то очень помогла. Я бросился в организацию нашего будущего жилья в областном центре. Быстро сообразил, что одной квартиры будет мало, мне нашли вариант с двумя соседними, и в рекордном темпе, за два месяца, отремонтировали. Надо было решаться.
Во всём этом , конечно, была какая-то сумасшедшая странность: тебе жена изменила, она тебя не любит, ты должен с ней разобраться, а вместо этого ты занимаешься устройством домашнего очага пуще прежнего… Да, ты наказал любовника жены, который виноват всего лишь в том, что не устоял перед её чарами (а кто бы устоял?), – а с истиной виновницей живешь как ни в чём ни бывало?
Наша жизнь, конечно, изменилась. Я, например, не мог себя заставить притронуться к Саше в постели. Я вдруг обнаружил, вспомнил, – собрались в один ком чувства-воспоминания, – что она никогда не начинала наши любовные игры-занятия – первой. Инициатором всегда был я. Она только мне уступала, отдавалась.
И вот я пытался дождаться, когда она приласкается первой, но – не дождался. Я брал её за эти месяцы раз-два и обчёлся, когда уже совсем становилось невмоготу, – брал среди ночи, проснувшись, быстро, без нежностей и лишних слов.
Саша, конечно, чувствовала что-то, но молчала, – только иногда эти новые длинные взгляды, когда я делаю вид, что не слежу за ней.
И надо было решаться – уезжать, и я сказал ей как-то вечером, что всё готово. Я знал, что она не встречалась с телевизионщиком, он уехал после больницы, после лечения – в Москву.
– Ну что ж, – сказала Саша как-то устало, – надо, значит надо.
Я даже растерялся, что так просто всё получается, а она добавила: мол, наверное, так будет лучше.
– Так будет лучше, – сказала она, и вот тут-то я взбеленился.
Что на меня тогда нашло, я не знаю. Потому что повода для того, чтобы расставить все точки, вроде бы, и не было. Ну что она такого сказала? Что так будет лучше? Я ведь тогда не понимал, что она имеет в виду мэра со своей любовью, – тогда я ещё этого не знал.
То есть, я узнал про мэра через несколько минут, но смысл её фразы я понял гораздо позже.
А тут я вдруг психанул. Наверное, всё, что накопилось во мне за эти месяцы, вырвалось из меня наружу.
– Лучше? – закричал я шёпотом, потому что Петька только что заснул. – Тебе будет лучше? Ты, – сказал я, – ты…
Я замолчал, я не мог произнести никаких бранных слов по отношению к ней, всех тех слов, которых она заслуживала.
Я только вынул из портфеля фотографию и бросил на стол.
Саша с удивлением посмотрела на меня, потом – на фотографию. Потом – отвернулась и долго сидела молча. Минут пять, наверное, а может быть, и десять.
– Значит, это был ты, – сказала она тихо. – Значит, Диму… ты.
Она снова посмотрела на меня. Это был тот самый новый длинный взгляд. И – опустила глаза, увела их. С той самой минуты я уже никогда не видел её глаз, её чёрных блестящих глаз.
– Дима был не один, – сказала она. – Был ещё один человек. Не в одно время, но… в разное время.
Я молчал. Во мне всё окаменело. Прошло ещё несколько минут. Не знаю, о чём она думала. Наверное, не о том, что мэра могла постигнуть та же участь, что и телевизионщика.
– Это был мэр, – сказала она. – Завтра я пойду и подам заявление. Я в любом случае уволюсь из мэрии.
Она так сказала «в любом случае», что я хорошо помню, – я вздрогнул.
И потом она опять сидела и молчала. Много минут. И я сидел и молчал.
– Я не знаю, – сказала она, – что мне делать. Мне надо подумать. А ты… ты можешь поступать со мной, как считаешь нужным. Если ты скажешь, я уйду с Петькой. Впрочем…
Тут Саша сказала что-то в том смысле, что таким женщинам, как она, детей, наверное, доверять нельзя. Она именно это имела в виду, но выразилась так, что я не смогу передать. Она всегда была способнее меня в гуманитарной области. Способнее – это слабо сказано. На десять голов.
И добавила, что если я велю ей уйти, она уйдёт, вот прямо сейчас соберётся и уйдёт. Тут мы снова посидели, помолчали.
Я тогда немного пришёл в себя, налил себе стакан коньяку, выпил. Саше не предложил. Она сама могла, но даже не шевельнулась.
Меня отпустило, и я сказал ей, чтобы она увольнялась и готовила вещи к переезду.
Через месяц мы устроились на новом месте.
Сашу взяли в областную газету, она там на хорошем счету, редактор в ней души не чает. Он мне сам это говорил, мы однажды с ним встретились на какой-то деловой тусовке.
Я перенёс свою штаб-квартиру в областной центр, и бизнесу такая смена декораций пошла только на пользу.
А дома – дома у нас установился новый порядок. Мы теперь жили каждый в своём углу, благо, жилплощадь позволяла, при желании можно с человеком почти не пересекаться. Например, муж встаёт, варит себе кофе, режет бутерброд, завтракает. Тем временем сын разбужен, жена его готовит в школу, его кормят, как только муж-отец покидает кухню. Так что Петька кричит ему вслед:
– Пока, пап! – когда тот выходит из квартиры.
Как-то раз я застал Сашу в гостиной, она смотрела какой-то французский фильм и не заметила меня. А я сел на секунду, засмотрелся. И тут фильм кончился, и я вижу, что она чувствует: я здесь. Надо встать из кресла, пройти мимо меня, лицом в лицо. И вот она сидит, не встаёт, сидит – и всё тут! Дождалась, пока я не ушёл, только потом встала и скрылась в своей комнате.
Однажды я пришёл с работы, а они, Саша и Петька – ужинают.
Петька увидел меня и кричит:
– Пап, иди быстрей, мама такую вкусную запеканку приготовила!
Петька, наверное, своим детским сердцем чувствовал неладное и пытался инстинктивно, как мог, мирить маму с папой.
Что делать, я сел. Саша положила мне запеканку. Петька наелся, убежал в свою комнату. Саша поднимается следом со стула, и тут я что-то такое произнёс – типа хмыкнул или громко так усмехнулся.
Саша постояла немного и села. И вот мы сидим один против другого за кухонным столом. Я смотрю на неё, а она – нет, у неё глаза опущены.
– Я понимаю, – говорит она, – что я… Не жена, так, полжены. Домработница. Ты можешь меня прогнать, я тебе говорила, я уйду. С Петькой уйду, одна уйду. Ты найдёшь себе жену, какую только захочешь, ты…
– Заткнись, – сказал я. – Заткнись.
Она помолчала, но глаз так и не подняла.
– А может, будет лучше, если ты меня убьёшь? – вдруг прошептала она.
Она шептала, чтобы Петька не услыхал.
– Нет, – продолжала она, – так нельзя. Петька останется сиротой, ведь тебя посадят…
Я, помню, смотрел на неё тогда, и во мне клокотало какое-то брезгливое чувство. Мне было совсем не жаль её. То есть, немного всё-таки жалко, но я не мог этого выразить, у меня язык не поворачивался даже кричать на неё.
– Нет, надо как-то по-другому, – прошептала она и ушла.
После этого случая она совсем перестала попадаться мне на глаза.
Дошло до того, что раз прихожу с работы, а в прихожей меня Петька встречает и шепчет, что, мол, мама заболела.
Заболела?
Петька смотрел на меня снизу с такой надеждой, что я пошёл в Сашину комнату. Она лежала, свернувшись в клубок. Я подошёл, она даже не шелохнулась. Мне стало не по себе, я принялся звонить по врачам и вызвал кого-то за хорошие деньги.
Приехала женщина, посмотрела Сашу и даже сумела с ней тихо поговорить.
Потом пришла на кухню и сказала:
– Не знаю, что тут у вас происходит, но у вашей жены нервное истощение. Да и физическое тоже.
Она посмотрела на меня, здорового мужика под сто девяносто, неодобрительно, словно это я морил жену голодом.
Мы решили положить её в стационар. Саша месяц лежала в отдельной палате, за ней хорошо смотрели.
Весь этот месяц мы с Петькой почти каждый день ходили к ней в больницу. То есть, мы приходили вместе, Петька бежал в палату к Саше и проводил там какое-то время – полчаса, час. А я сидел в коридоре, гулял во дворе и посматривал на Сашины окна.
Пока мы шли домой, Петька мне всё пересказывал, что узнал от матери: чем там кормят, как лечат и вообще – сколько осталось до того дня, когда мама вернётся домой.
Когда Саша вернулась, диспозиция в доме немного изменилась. Теперь уже я старался больше проводить времени в своей комнате. Чтобы Саша могла быть с Петькой, по всей квартире, чтобы я не пугал её. Тогда и случилась эта история с балконом, когда Саша стояла у перил, а я собирался ловить её, если она вдруг упадёт.
Так мы теперь и живём.
Я снова поднимаю руку и снова опускаю.
Но сколько можно стоять здесь, на лестничной площадке?
Осторожно сую ключ в замок. Открываю дверь. Конечно, Петька хохочет, Саша что-то говорит ему спокойным голосом. Я тихо вешаю куртку. Теперь надо бы заглянуть в туалет, потом – прошмыгнуть к себе, а там будет видно.
Я суюсь в туалетный коридорчик, а мне навстречу, лицом в лицо – Саша. Дверь гостевого туалета – нараспашку, Петька там сидит и что-то напевает.
А я гляжу – Сашины глаза, чёрные, блестящие, они на её похудевшем лице – огромные, такие красивые, что у меня сжимается всё внутри. Я гляжу в её глаза, оторваться не могу, не видел больше года.
Саша отступает на шаг, медленно отводит глаза, потом – снова смотрит на меня.
И вдруг какая-то судорога пробегает по её прекрасному худенькому лицу. Она открывает рот, словно хочет и не может вздохнуть. Какое-то короткое рыдание вырывается у неё, она опрокидывается спиной на стену и начинает сползать вниз.
Я кидаюсь к ней, подхватываю её.
Саша сотрясает дрожь, она плачет, – нет, не плачет, а как-то жутко – воет.
Петька выбегает из туалета со спущенными штанами, глазёнки испуганные, сразу набухают слезами.
Я подхватываю Сашу на руки, несу к себе в комнату, ко мне – ближе.
Кладу на постель. Она по-прежнему издаёт эти ужасные длинные воющие стоны, но уже спокойнее. Она дрожит и вздрагивает, мне кажется, что ей холодно, и я накрываю её пледом.
Петька стоит в дверях, штаны уже подтянул.
Я машу ему рукой: иди, мол, к себе.
Смотрю на Сашу. Она затихает. Я ухожу, пусть спит спокойно.
На кухне мы ещё сидим немного с Петькой и так по-взрослому друг на друга поглядываем. Мы с ним так приучились сидеть, когда Саша лежала в больнице.
Потом Петька идёт спать, я остаюсь один. Прохаживаюсь тихонько по квартире. Непривычно даже – пусто, гулко. Лечь в Сашиной комнате? Как-то неудобно. Лезу в гардеробную, нахожу простыни, стелю в гостиной на диване. Заснуть долго не могу, ворочаюсь, диван скрипит, – дрянь подсунули, оказывается.
А когда просыпаюсь – вижу, Саша сидит рядом, в кресле.
Ночь, тишина, ни звука.
– Ты в порядке? – спрашиваю я.
Саша кивает. Я лежу, молчу, смотрю на её силуэт в кресле.
– Ты очень хороший человек, – говорит, наконец, Саша. – Ты меня не убил, не прогнал. Даже меня выходил… Я не знаю, чем я могу тебя отблагодарить.
Я молчу. Что я могу сказать? Во мне всё немое, окаменелое. Мне просто жалко её, и всё.
– Я не знаю, как нам жить дальше. Я весь год жила как во сне, а теперь я понимаю, что нужно что-то решать.
Я молчу. Я ничего не могу сказать.
– У нас два выхода. Или я ухожу или… – она молчит немного и продолжает: – Я перед тобой виновата. Ты…
Тут Саша как-то неловко сползает с кресла и садится на пол. Это мне так показалось поначалу – садится. А она – она становится на колени.