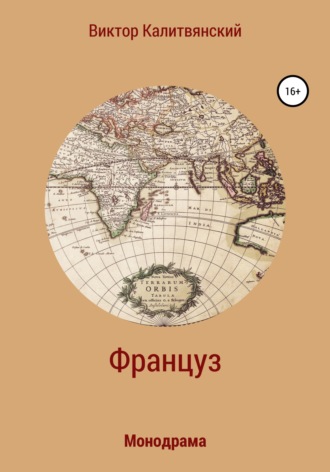
Виктор Иванович Калитвянский
Француз
Не для меня придёт весна,
Не для меня Дон разольётся,
И сердце девичье забьётся
В восторге чувств не для меня.
Не для меня бегут ручьи,
Текут алмазными струями,
Там дева с чёрными бровями,
Она растет не для меня.
Ну, и так дальше, до самого конца.
Пауза.
А когда царя-батюшку сбросили – началось. Форменный беспорядок. Одно, другое, третье. Временное правительство, большевики, фронтовики возвращаются. Землю начали делить заново. Шум, крик, перессора…
И вот как-то приходит средний брат из деревни и говорит, что в имении фронтовики шуруют. И кажется, самого помещика прибили… Потом он воды из ковша хлебнул, посмотрел на меня и еще что-то сказал отцу и старшему, я не разобрал. Они тоже на меня посмотрели, а отец головой покачал.
Помню, пошёл я тогда в мастерскую, походил вокруг колёсного круга – а потом сиганул через плетень и побежал полем, вокруг пруда, прямо на имение. Я бежал всё быстрее, как будто мог еще куда-то успеть, так что раз со всего маху свалился в яму и бок подрал. Подбегаю, а из дома выходят врач, из земской больницы, который маманю лечил, и отец Григорий, наш священник. Я в кустах спрятался, пока они ушли за гребень, и пошёл в дом.
А там, в зале, темно, на столе свечка горит, а рядом, под белой простыней, – что-то большое, я даже не сразу понял, – что там… Огонёк свечки скачет, как живой, и на простыне – красные пятна, то тут, то там… А я стою, как вкопанный, глаз не могу отвести от простыни… Как вдруг над самым моим ухом кто-то говорит, таким сухим незнакомым голосом: «И ты здесь…». Гляжу, а это – она, Нина Николаевна, стоит в дверях. Платье на ней разорвано и лицо побито. «Что, – говорит, – полюбоваться пришел?» А я смотрю на неё и слова сказать не могу. «Или ты тоже хочешь?.. – говорит она с нехорошей улыбкой. – А что, давай… Вам теперь всё можно».
Сказала – и ушла. Ну, и я пошёл – куда глаза глядят…
Пауза.
Так вот и закончилось всё это: воскресная школа, имение, помещик и Нина Николаевна, её рассказы, чай да театр…
Не сказать, чтобы в деревне радовались, когда это всё случилось. Скорее, стыдно было. Так что быстро забыли, как будто бы ничего и не было вовсе. И наши, отец с матерью и старшие – тоже. Один только раз слышал я под окном, как мать сказала что-то про Нину Николаевну, – дескать, она-то чем провинилась, – так отец что-то такое ответил ей, из священного писания, что дети, мол, отвечают за родительские грехи… Помню, тогда я подумал: неужто и мне придется отвечать за их прегрешения?.. Другое дело, что я не понимал тогда толком, что это такое, по-настоящему, – грех. Отец Григорий на проповеди, конечно, частенько толковал нам о грехах и геенне огненной, но до сердца и души не доходило. Что мы, парни да девки, понимать тогда могли?..
А потом, в восемнадцатом году, под рождество, красные забрали в их армию среднего брата. И возвернулся он только летом, контуженный на правое ухо. А осенью пришли с юга белые. Корпус генерала Май-Маевского. И говорят: мобилизация, вы должны помогать большевиков скинуть. Будет, мол, Учредительное собрание и новая жизнь. И требуют от нас, от нашего семейства, одного мужика.
Ну, отец видит, что никуда не деться и говорит мне: иди-ка ты, сынок, сходи. Может, и правда, прогонят большевиков, так нам зачтется. Не высовывайся, под пули не лезь, начальство слушайся. Москва недалече, глядишь, к масленице вернёшься, а я тут пока один колёса погну…
Ну, я пошёл. А куда деваться?
Дали мне шинель, показали, как из винтовки стрелять. Дело нехитрое. Толку, правда, немного, потому как попасть я мог разве что в белый свет…
Уж не знаю почему – поставили меня денщиком ротного командира. Тут мне повезло, капитан Муромцев был мужчина спокойный, солдат по морде не лупцевал и даже не ругался последними словами. Только если совсем уж что-нибудь эдакое – так посмотрит, что хоть под землю провались…
В бою капитан не робел. Наоборот, делался таким весёлым-весёлым… Станет на одно колено, в бинокль смотрит да что-то напевает. Пуля просвистит – он и ухом не ведёт. А у меня душа – в пятки… Лежу, носом в землю, господа поминаю, маманю, всех святых…
Должность свою я старался исполнять на совесть: и порядок, и поесть вовремя, и поручения разные от капитана донести куда надобно… Один рядовой, Митька, земляк из соседнего уезда, всё меня подначивал. Будто бы я аки молния по командирским приказам ношусь, рота не успевает башкой вертеть… А что ж не помочь хорошему человеку?.. Как-то раз подслушал я разговор капитана с другим ротным, ротмистром. Они ночью выпивали, а я им закуску таскал… Так вот, ротмистр говорил, что вся беда в России от того, что мало пороли да ссылали, что нужно простонародье в полной строгости держать. На что наш капитан смеялся и отвечал в таком разе, что – как же его, народ-то, взять в полную строгость, когда он того уже не хочет… Может, оттого и настала революция, что вместо того, чтобы учить народ и делать его ровней, пороли да ссылали? Ротмистр на слова про «ровню» ругался и грозил, ежели Москву возьмут, всех смутьянов на бульварах развесить… Я, помню, удивился: что это за бульвары такие, на которых людей развешивают?..
Ну, Москву Май-Маевский не взял, а заместо того, наоборот, пошли мы назад, на юг, потому что красные давили вовсю. А мы с Митькой всё судили да рядили – что же нам делать? То ли сбежать и – по домам, то ли дальше уходить вместе с белой армией. То есть, всё дальше от Липовицы…
Митька – мне: а кому ты нужен в Липовице? Земли тебе все одно не достанется, потому как старшие братья загребут. Ты им не нужен вовсе… Маманя с отцом тебя, конечно, ждут, живого, а братаны – те нет, ты им лишний. А фронтовики? Они, небось, теперь все большевиками стали. Думаешь, они тебе в укор не поставят, как ты к Деникину пошёл?..
А я ему: так разве ж я своей волей, то ж мобилизация, я за старших, за все семейство пошел…
А Митька мне: большевики тебе скажут, дескать, коль не своей волей, так надо было перебежать к ним, красным то есть. А теперь ты вражина, и с тобой будет разговор простой…
На этом он меня, конечно, всегда побивал, потому что от фронтовиков я ничего хорошего не ожидал.
Все не могли мы с ним решить, как нам поступить. И вдруг, под Воронежем, пропал Митька. Утром был, а к обеду его не нашли. Ага, – подумал я, – он решил без меня дать дёру… Обиделся я на него, но тут ранило капитана Муромцева, стал он без сознания, и полковой командир велел мне за ним ходить, как за родной матерью. Ну что делать, так я и ходил за капитаном, пока он не выздоровел. Совестно было его бросить. Он, бывало, дремлет, а я рядом на телеге сижу и песню какую нить затяну – не слышно шума городского или раскинулось море широко. Он вроде спит, а потом скажет: давай – не для меня…
Я ему всегда до конца не допевал -
А для меня – кусок свинца,
Он в тело белое вопьется,
И слезы горькие прольются:
Судьба такая у меня.
А раз – забыл. Гляжу – а у него слезинка из закрытого глаза скатилась на щеку…
Встал на ноги капитан только после Ростова, когда мы уже шли к Новороссийску. А там – полный беспорядок. Всё перемешалось, никого не найти, из-за гор канонада слышна ночью, все бегают, матерятся. И передают от одного к другому, что красные рубят нашего брата беспощадно…
Капитан Муромцев пошёл к начальству разбираться, а я – первым делом к морю, посмотреть: что это такое – море? После нашего пруда в Липовице повидал я две реки – Воронеж и Дон, но море, конечно, не сравнить. Волны – в два аршина. Бегут на тебя, бегут, как будто кто их гонит, – то ли царь морской, то ли сам господь небесный…
Я даже попробовал этой морской воды. А она – холодная и как бы рассолом сладким отдаёт…
Вернулся капитан от начальства, пошли мы в трактир, поесть. И говорит капитан: через два часа уходит корабль на Крым. Так что решай: либо со мной, либо положись на волю божью и милость большевиков. А они, говорит, будут здесь дня через два…
В общем, ушёл я с капитаном Муромцевым в Крым, и там мы ещё полгода проваландались. И опять я гадал, что мне делать: возвращаться в Липовицу через большевиков или бежать дальше в туретчину… Я говорю капитану: что за Константинополь такой, что мы там забыли, кому мы там нужны? А он усмехается, дескать, мы теперь никому не нужны, а там хоть живы будем… Вон, красные с севера жмут, и теперь уже, ясное дело, сбросят нас в Черное море, порубив предварительно на кусочки… Это он, капитан, в подпитии так выражался… А так, коли уйдём в туретчину, – глядишь, мир посмотрим. А уж совсем будет невмоготу – можно и вернуться, когда война кончится, никуда твоя Липовица не денется, она триста лет стояла и ещё столько же простоит… Это мне, говорит капитан, назад хода нет, а тебя, может, и простят большевики.
Куда мне было деваться от капитана Муромцева? Ушел я с ним в Константинополь этот самый Стамбул, турок посмотрел и турчанок. А уже из туретчины пошли мы в Африку, в порт Бизерту, через все море, которое называется средиземным. Теперь уж море было теплое, и купался я в нём и даже плавать выучился…







