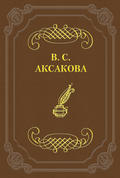Вера Сергеевна Аксакова
Дневник. 1855 год
В Англии Пальмерстон первым министром, но в последних газетах сказано, что и это министерство не прочно и что, может быть, Пальмерстон вынужден будет сделать воззвание к народу. И в Англии, и во Франции начинают восставать против обнародования частных писем из Севастополя, взывают к patriotisme de discretion (патриотизм молчания (фр.)). Это немного поздно. Под Севастополем у нас беспрестанные вылазки, которые очень тревожат утомленного неприятеля, измученного снегом, холодом и грязью, попеременно сменяющимися. В Евпаторию все посылают турок, которые должны будут с севера окружить Севастополь; но у нас там войска, говорят, до 130 тысяч. Меншиков, как слышал Иван в Петербурге, не сообщает государю ничего более того, как что печатается в газетах, и почти ничего не отвечает на требования государя, который посылает ему свои распоряжения из Петербурга, требует от него планов его действия. Меншиков отвечает, что, когда прогонит французов, тогда отошлет такую-то дивизию и т. д. Иван видел в Петербурге Костича, воротившегося из Сербии. Сербское правительство, расположенное в пользу Австрии, его преследовало, и он с трудом уехал, но народ сербский более, нежели когда-нибудь, предан России и готов избить каждого, кто будет уверять, что Россия приняла 4 пункта. Несчастные славяне не хотят и верить нашему предательству, но Бог, может быть, не попустит нас совершить его. В четверговых газетах помещена прекрасная речь Иннокентия, говоренная им в напутствие болгарам-волонтерам, шедшим из Измаила в Севастополь, которых велено было воротить. Эта речь прекрасна, написана без малейшего подлого выражения, упоминает о долге душевном России к ним, т. е. славянам, возбуждает их уповать непреложно на судьбы Божий и т. д. Такое слово именно было необходимо в настоящую минуту; оно утешит, укрепит веру несчастных славян в сочувствие русских, это просто воззвание. Как у нас позволили напечатать, не можем понять, но у нас все непоследовательно. А Филарет наш молчит, и ни одного слова сочувствия, утешения или укрепления не вырвалось у него по поводу таких великих событий и бедствий, – удивительно!
Новакович, попавший вместе с Костичем в Сербию, остался там профессором в семинарии в Белграде. Костич, уезжая наскоро из Сербии, захватил с собой его книжку записную, в которой были также записаны по просьбе Новаковича нами самими имена всей нашей семьи. «Когда буду священником или монахом, буду молиться об вас», – сказал он нам, и мы охотно исполнили его желание. Теперь же эта книга попалась в руки гр. Блудовой, покровительницы Костича, и всем сделалась известна.
Штейнбок прислал Константину бесценный для него подарок. Это превосходно вылепленная группа, разумеется, в маленьких размерах, такого содержания: русский мужик стоит, прислонясь слегка к камню, скрестя руки, и смотрит с совершенно спокойным выражением лица; против него, в некотором расстоянии турок, которого подталкивают с одной стороны французы, а с другой англичанин, турок упирается, хотя и схватился одной рукой за кинжал. Все фигуры сделаны превосходно, сколько жизни и простоты, ни малейшей карикатуры, напротив – все лишь так просты и благородны. Мы с наслаждением любуемся этим истинно художественным произведением; жаль, что оно не может быть исполнено в больших размерах. И каково же, государь запретил его!.. Почему и как, даже трудно решить, разве страшна показалась фигура русского человека?
Мы должны были ставить рекрута, предоставили это крестьянам, и жребий пал на человека, которого все же менее жаль других; вдруг получаем известие с дороги, что он бежал, однако же на другой день его нашли. Вероятно, он и не хотел убежать совсем, а только укрылся на время. Обвинять в этом поступке нельзя, хотя пред своим обществом он виноват; за него должен был бы идти другой.
15 февраля. Вчера приехал из Москвы крестьянин и сказал, что бежавший вряд ли будет принят в рекруты; потому что совершенно изменился в лице. Они думают, что он принял что-нибудь нарочно. Тягостное дело! Сколько горя! Нам прислали из Москвы разных журналов, и мы принялись читать их. Братья должны были приехать сегодня, но с почтой получили коротенькое письмо от них. Константин пишет, что еще не выбрали губернского начальника ополчения, что он сам не участвует в выборах, потому что не Московской губернии, что во вторник (т. е. сегодня) будут выбирать Ермолова, и они, вероятно, останутся там. Иван приписывает, что страшные интриги, что баллотируются Чертков, Трубецкой, Волков. Не можем хорошенько понять, что у них там делается. Завтра, вероятно, они приедут. Но какая подлость подымать интриги против выбора Ермолова, какая дерзость сметь тягаться с ним! Вероятно, впрочем, тут есть интрига полицейская, но хороши наши дворяне, нечего сказать: подлость и своекорыстие – вот их двигатели. – С почты привезли нам пятый номер «Journal de Francfort». Интересного и нового ничего в нем нет. Конференции не начинались еще; говорят, Россия расположена к уступкам и к ограниченности своей власти на Черном море. Пожалуй, согласятся сжечь флот и разрушить Севастополь. Лорд Джон Рассел назначен уполномоченным на венские конференции. Пруссия все толкует о трактате своем с Францией, говорят, будто для того, чтоб быть посредницей между Россией и западными державами. Неаполь присоединяется к общему союзу против нас; если это и неправда, то, по крайней мере, очень вероятно, все иностранные державы должны быть в одном союзе против нас, а мы отталкиваем и предаем своих единственных союзников – несчастных православных братии. Сами иностранные журналы не могут скрыть, что из австрийской армии много перебегают к русским, но русские выдают их австрийцам, и потому они теперь должны скитаться в лесах. Возмутительно слышать это, тем более, что это должно быть справедливо. Ответ дадут в страданиях этих несчастных те, которые должны были их спасти!
Вечером приехал наш деревенский священник с женой; он сказывал нам, что слышал от крестьян, что к назначенному числу ополчения прибавлено еще 17 человек, итак – 40 человек с тысячи. Он удивляется, как они все знают, что пишется в газетах, какое живое участие принимают, и хотя судят по-своему, но очень справедливо. Замечательно, что еще в самом начале наших несогласий с иностранными державами крестьяне говорили, что теперь будет время тяжелее 12-го года, что нас хотят окружить со всех сторон, запереть кругом и на морях, – это было тогда, когда мы сами еще не знали того, и что ж? Все вышло точно так. А теперь они нисколько не унывают и не боятся за себя самих и за свою землю; они говорят, что теперь Англия совсем разорится, что у ней последняя королева, что больше ее не будет, а что во Франции государь посадит другого царя, а этого сгонит. У народа и мысли не является о возможности победы над Россией; но они предчувствуют самую продолжительную борьбу. Наш староста говорил своим особенным способом выражаться вроде этого, на объявление ему об ополчении: «Что делать, уже это общая беда, мы полагаем, что этим еще и не обойдется, что и еще надобно будет.
Если б, то есть, мы теперь молитвами каких-нибудь святых людей, и в пух бы разбили Англию и Францию, они, то есть, через несколько лет опять бы собрались на нас, и все будет вражда, еще скорей, то есть, если и мы уступим, то все не уладится» и т. д.
Сейчас прочли несколько превосходных проповедей одесского Иннокентия во время нашествия неприятеля на Одессу с моря. Как хорошо, просто, какое истинно-христианское, пастырское слово, как соответствует минутам, в которые оно было говорено! И в каждом он повторяет о братиях, о святом долге стоять за них и т. д. Дай Бог, чтоб он так и продолжал. Наш московский митрополит не сказал ни одного слова по поводу настоящих, столько важных обстоятельств и бедствий, грядущих на России.
16 февраля. Ждали утром братьев, но вместо того получили от Константина письмо с крестьянином. Ермолова выбрали, Константин пишет: чудная была минута. Константина уговорили остаться на сегодня, будут баллотировать предложение послать депутацию к Ермолову, после которой он должен явиться в собрание. Это будет удивительная минута. Боимся, что Константин не останется до конца; хочет приехать сегодня после собрания. Послали ему на подставу лошадей. – Избрание Ермолова – важное событие; утвердят ли его в Петербурге?
Вечером в 9 часов приехал Константин прямо к нам за чай; мы его обступили, с нетерпением желая слышать его рассказ. Вот что он нам сообщил.
В пятницу Константин, приехавши в Москву, отправился к Черткову, потом к Трегубову, нашему уездному предводителю. Этот последний, прочитав отесенькино письмо, сказал, что Константин участвовать в собрании не может, т. е. не может иметь шара, потому что не приписан к Московской губернии. Но Константин скоро узнал, что может присутствовать на собрании. В субботу, в 11 часов, приехали они в дом собрания, сперва пошли на хоры, но скоро знакомые созвали их вниз. Собрались дворяне и губернский предводитель. Губернатор Капнист прочел манифест, его прослушали в совершенном молчании, затем губернатор сказал несколько слов об уверенности государя в усердии дворян и т. д. То же молчание. Тут тотчас Чертков стал приглашать дворян в собор и, таким образом, помешал, может быть, на этот случай невинно, исполниться намерению некоторых тотчас после речи губернатора провозгласить Ермолова, как губернского начальника ополчения. Все отправились в собор, наконец возвратились оттуда, и тут Чертков, не допуская еще рассуждений, представил дворянам правила выборов, им составленные с явным намерением не допустить, по крайней мере, затруднить выбор Ермолова. Многие это поняли и не согласились с правилами, которые вообще были не справедливы и нелепы. Начался спор: многие предложили Ермолова, некоторые говорили, что его нельзя выбирать, что он служит, – другие, что он не примет. Словом сказать, видны были тайные действия низкой интриги, во главе которой стоял Чертков, да, вероятно, и все власти, не желавшие допустить выбора Ермолова. Много шумели и спорили, призывали для разрешения сомнения прокурора – правоведа Ровинского. Тот очень коротко и ясно разрушал приговором закона все козни интриги. Звенигородский уезд (в котором сильно действовал Самарин) предложил единогласно Ермолова, Дмитровский также. Суббота, воскресенье прошли в этой борьбе. – В понедельник появилось в собрании письмо Ермолова, писанное в ответ на приглашение Закревского (генерал-губернатора), впрочем друга Ермолова, отказаться самому от выборов. – Сильное и желчное письмо Ермолова хотя смутило несколько малодушных, но не помешало тому, что все уезды написали его первым; кандидатом ему назначили графа Строганова. Один уезд записал еще Черткова, и еще один на случай записал Трубецкого. Выборы были отложены до вторника. Вот письмо Ермолова. На другой день собрались для баллотировки. Константин говорит, что минута была торжественная. Стали разносить шары, и слова «баллотируется Алексей Петрович Ермолов» сильное произвели впечатление на всех. Все толпой обступили стол; баллотировка кончилась; стали считать шары, все в молчании и в волнении следили за счетом, наконец раздалось: 206 белых, черных 9. Итак Ермолов выбран! Волнение охватило всех, раздалось в середине утра и разразилось во всем собрании, в галереях и на хорах таким одушевленным криком. Лица просветлели, многие плакали, восторг был общий; вдруг раздался голос (князя Мих. Оболенского): «Господа, у Ермолова черных шаров быть не может, они положены по ошибке». По ошибке, по ошибке! – закричали все. И вслед за этим раздалось в толпе: просить, просить, просить! Хотели тотчас отправить депутацию к Ермолову, чтоб просить его приехать в собрание, но и тут низкий Чертков воспрепятствовал, сказав, что это незаконно и т. д. Прокурор сказал, что хотя закона нет, но это в обычае и всегда так делается, когда выбирают купеческих голов, но Чертков решительно не согласился и сказал, что он не поедет вместе с ними и что надобно сперва выбрать и других. Вы баллотировали Строганова: ему положили 137 белых и 76 черных. Чертков решительно воспротивился депутации и предложил баллотировать это намерение на другой день. Неприятно было всем это противодействие, и, говорят, досталось Черткову, но нечего делать, чтоб не испортить дела, надобно было покориться. Чертков и Трубецкой отказались от баллотировки.
В это самое время ходило в собрании письмо к Ермолову Погодина, после выбора. Константин читал его на хорах вслух дамам, которые не менее были в восторженном настроении. Письмо горячее, но есть и ложка дегтю, говорят. Мы его еще не читали. – На другой день собралось опять в доме собрание; но Чертков принес письмо Ермолова, где тот, благодаря дворянство за выборы, просит отклонить депутацию. Говорят, он ее ожидал в самый день баллотировки, но не ожидал «ура», и, верно, удовлетворившись этим, остерегся повторения другого изъявления. После окончания собрания хотели все отправиться к нему расписаться. Константин предлагал адрес, – вряд ли соберутся. – Иван остался в Москве; не знаем, что-то там делается. Пошло ли представление о выборах, а главное – вот вопрос, который занимает всех: утвердит ли или нет государь Ермолова? Выбор Ермолова один оживил значение ополчения, которое само по себе не возбуждает почти вовсе сочувствия: все на него смотрят, как на удвоенный рекрутский набор, в который включены и дворяне.
Умели опошлить самые высокие минуты, вынуть душу из всякого живого дела, как говорит Константин. И что за ополчение, когда ведутся переговоры и соглашаются на самые унизительные и преступные уступки, потерян уже стыд, уже согласились на ограничение или даже уничтожение нашей власти на Черном море! Горчаков сделал было оговорку, чтобы, по крайней мере, не нарушали «les droits de souverainete de I'Empereur de Russie chez lui» [2], но и эту унизительную оговорку согласились исключить. Чего же ждать после этого, какой может быть энтузиазм при ополчении! Кто поручится, что не велят сдать Севастополь и не отдадут Крыма и пр.? Все тягости войны, все труды и опасности остаются те же и даже с каждым днем увеличиваются, но отнят дух, одушевлявший всех, отнята уверенность в пользе этих трудов и жертв, отнято сознание, что не даром они приносятся, а за святое дело, за веру и братьев, от которых теперь уже отказались, принявши условия. Впрочем, конечно, нам не дадут мира, вероятнее всего, что потребуют таких уступок, на которые даже и наше правительство не может согласиться, а, главное, побоится согласиться. Но и тут чего можно ожидать? Мы будем вести войну оборонительную, стало быть, по свидетельству всех авторитетов, самую невыгодную; боясь перейти за границы свои, мы должны будем с первой же минуты отступить и внести войну в свои пределы. К тому же теперь с каждым днем являются все новые и новые союзники к нашим врагам. Мы выждем, пока все соберутся против нас, пока французы пришлют 100 тысяч в Польшу и подымут ее, пока шведы войдут в Финляндию и т. д. И даже, если б и тогда Бог помог нам одолеть наших врагов, и тогда наше великодушное, в отношении иностранных держав, правительство первое возобновило бы готовность приступить к миру на тех же условиях, на которые они уже согласились. Какой может быть после этого энтузиазм и дух в несчастных, бесполезных жертвах, в наших войсках? Это возмутительнее всего – видеть неизбежность жертв и не иметь утешения думать, что они приносятся на пользу святого дела.
Воскресенье, 20 февраля. Боже мой, какое страшное неожиданное известие! Мы были поражены, ошеломлены совершенно. Сегодня привезли письма и газеты с почты рано, в то время как мы собирались к обедне. Прочли сперва за чайным столом в зале письмо от Ивана, и в нем были очень важные известия, Иван сам записался охотником в ополчение, Константин записан между баллотирующимися дворянам, но его выбрать нельзя, потому что он нигде не служил. Ермолов избран также в Петербург, и к нему прислано было об этом уведомление; он, разумеется, благодарил, но отвечал, что уже выбран в Москве. Получено частное известие, что Ермолов будет утвержден; разнесся слух, что он в такой-то день будет в собрании; все дворяне съехались; однако же слух оказался ложным. Иван отказался от избрания в дружинные начальники, и на его место – князь Леонид Голицын. Вот что заключало письмо Ивана. Мы не успели еще потолковать о нем, как отесенька или маменька спросили Константина, но где же другое письмо Ивана? Их было два. Константин смутился, замялся, признался, что точно есть, но что он считает лучше его не показывать. Разумеется, стали к нему приставать, и он сказал, в нем есть одно известие об Николае Павловиче. – «Каком Николае Павловиче?» – «О государе, – сказал он, – он очень болен». – «Как, что, значит, умирает, может быть, умер, не совсем!» – И Константин не решался вдруг выговорить, наконец, показал письмо Ивана. Оно начиналось так: «Государь Николай Павлович умер».
Не могу пересказать то впечатление, которое произвели эти слова на всех нас. Мы были подавлены огромностью значения этого неожиданного события. Следствия его нескончаемы, неисследимы. Никогда не могло оно иметь такого важного значения, как в настоящую минуту. Чего ждать, что будет, как пройдет эта минута смущения? Не пойдет ли все прежним или даже худшим порядком, или вдруг переменится все направление, вся политика? И, может быть, Бог ведет Россию к исполнению ее святого долга непостижимыми своими путями! Да, на Бога вся надежда, Господь не оставит верующих и молящихся Ему, а сколько молятся усердно по всей земле русской! Господь защитит православие и несчастных мучеников.
В сильном волнении, еще не пришедши в себя от поражения и разнородных впечатлений, столпившихся в душе, поехали мы к обедне. И во время обедни не могли мы освободиться вполне от того смутного волнения, и странно нам было слышать обычные возглашения на эктении. Искреннее чувство сожаления, как об человеке, также наполняло нам душу, и мы помолились внутренне об нем. – Помолились также, да не оставит Господь всех нас, и да совершатся Его святые судьбы во спасение всех, да помилует нас от бедствий! В Хотькове мы почти никому не сообщили вполне этого известия, только одной Каломиной, а та священнику Алексею.
Возвратившись из церкви, мы нашли всех в том же тревожном настроении. Начали было читать газеты, но чтение беспрестанно было прерываемо разговорами все об одном и том же предмете; наконец, все согласились, что Константину необходимо ехать немедленно, и он решился также. Велели закладывать лошадей, и в 4 часа перед обедом он выехал, сопровождаемый благословением отесеньки и маменьки. В самом деле, может быть, теперь единственная минута действовать, новому государю можно многое высказать, написать адрес с изъявлением общих желаний другой политики или что-нибудь в этом роде. Может быть, надобно съездить будет в Петербург? Словом сказать, необходимо Константину быть в Москве и следить за ходом событий. Как жаль, что мы не в Москве; конечно, интереснее времени не может быть в городе следить ежеминутно за возрастающими или изменяющимися событиями, делить с другими все впечатления!.. Живешь общею жизнью, а здесь, получивши такое известие, мы не скоро узнаем его подробности, не увидим и не разделим общего впечатления; не услышим любопытных и умных толков; только толкуем между собой, делаем разные предположения, перевертываем со всех сторон слова, занесенные к нам из общей жизни, и все-таки ничего не уз-t наем нового. Грустно и больно, что особенно сестры лишены этого интереса. Да и Константин не может оставаться спокойным и столько, сколько ему надобно бы было [быть] в Москве. А если б мы были все там, он мог бы принимать ежеминутно участие и даже иметь влияние на других.
Чего мы не передумали и не переговорили в этот день! Какие великие всемирные события, которые подавляют даже душу огромностью своего значения, и что будет, к чему ведет нас Бог? Вечером приехал к нам священник с женой, мы сказали им страшную новость, она всех поражает. – Не верится ей иногда, признаюсь. Право, иногда кажется, уж не подшутил ли кто-нибудь! Ничего эффектнее выдумать нельзя было в настоящую минуту, пожалуй еще, это происки иностранцев. Право, я готова поверить, что это выдумка, хотя надо мной смеются. Вечером читали проповеди Иннокентия, прекрасные, полные истинно пастырской христианской заботы к своему словесному стаду. Потом нарочно для развлечения принялись дочитывать дрянную повесть Ольги Н. Дрянь по исполнению и отвратительная дрянь по той безнравственной среде, к которой она принадлежит, задача которой вся состоит в смешении всех понятий о добре и зле, в затемнении совести и всех мерзостях. Покуда читали, внимание наше довольно было занято, чтоб с негодованием бранить это направление, но как скоро кончили, в ту же минуту разговор обратился на то событие, которое поглощает все интересы в настоящую минуту. Я уверяла, полушутя отчасти, что это все пуф! Не получим ли завтра каких-нибудь подтверждений?
21 < февраля >. И точно подтвердилось все это событие. Сегодня возвратились из города наши крестьяне, возившие туда продавать свои дрова. Они привезли туже весть. В Москве вчера уже все присягнули. На вопрос, какие вести в Москве, – «Царь помер, – отвечал один из них. – Вчера загоняли весь народ в церковь присягать. Все церкви были отворены, казаки разъезжали по всему городу с объявлением и гнали народ в церкви». – «Что же, народ жалеет?» – Крестьянин как-то улыбнулся и сказал «не знаю». В народе ходит слух, что государь был болен ден 20.
Итак, нет сомнения. Сегодня, как будто вновь узнали мы эту новость, вполне ей поверили. Неисчислимые последствия этого события стали развиваться перед нашим воображением, в самых разнообразных образах. Беда, если Александр не соединится заодно в направлении и всех намерениях с Константином. Константин имеет сильную народность; он известен везде, как русский человек, как христианин, даже раскольники надеются на него. Между ними ходит слух, что он сказал: «Я бы не стал вас притеснять, пусть всякой молится, как хочет». И к тому же в народе живет мнение, что только тот законный царь, кто родился от царя, а Александр, говорят они, родился от великого князя. Прежде Александр не разделял вовсе направления и мыслей Константина, и между их приверженцами начинал образовываться довольно сильный дух партии, но с недавних пор, из расчету ли или искренно, Александр принял мысли своего брата и вполне разделял его мнения насчет настоящих обстоятельств. Это сказал сам Вел. Кн. Константин Погодину, когда этот последний представлялся ему. «Скажите все это брату, он вполне разделяет мои мысли». Наследник принял очень хорошо Погодина, водил его к жене и пригласил обедать. Просил Погодина прислать ему экземпляр всех его писем. Мы знаем такжехнаверное, что жена его читала письма к Оболенскому брата Константина; говорят, она умная и серьезная женщина, дай-то Бог! Если Александр хочет приобрести народность и избежать разногласия с Константином, он должен действовать заодно. Иначе чего доброго сравнение может быть невыгодно и даже опасно! Неужели исполнятся предсказания Константина, которые он начал говорить еще лет 15 тому назад; предсказания соперничества между двумя братьями, не дай Бог!