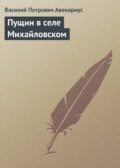Василий Авенариус
Школа жизни великого юмориста
– Простите, – решился Гоголь все-таки обеспокоить старичка-канцеляриста, – но я, признаться, никак в толк не возьму, какое дело московскому генерал-губернатору до петергофских фонтанов?
Пыжиков заглянул в прошении и фыркнул Гоголю в лицо.
– Перепутали, батенька! Это вам надо отправить вовсе не в Москву, а к министру Двора, а то, другое, – в Москву.
Фу ты пропасть! Совсем опростоволосился. Делать нечего: взялся опять за первую бумагу. Да не угодно ли связать мысли, когда вокруг тебя вечная толчея, а начальник-барон без устали ходит себе, знай, взад и вперед между столами подначальных тружеников, как маятник в часах – «чик!» да «чик» «чик» да «чик», – мимоходом подпуская тебе еще струйку табачного дыма, – может быть, и от настоящей гаванской сигары, но, тем не менее, преедкого дыма, от которого у некурящего человека с непривычки в горле першит.
Наконец-то угомонился, присел к своему столу просмотреть поданную ему столоначальником Тимофеем Ильичом кипу переписанных бумаг. Вдруг, словно муха его укусила, гаркнул на все отделение так, что все кругом вздрогнули, оглянулись:
– Тимофей Ильич! Да что же это такое? Тот подошел к начальнику.
– Помилуйте, батюшка, что вы тут нагородили? Ведь резолюция директора совершенно ясная: «Разрешить».
– Ясная, но ошибочная, – отвечал Тимофей Ильич сдержанным, но решительным тоном.
– Как ошибочная! Его превосходительство, очевидно, желает удовлетворить ходатайство, а вы категорически его отклоняете.
– Потому что ходатайство незаконное.
– Вашего мнения не спрашивают! Воля начальства, а мы – исполнители. Я вас покорнейше прошу переделать бумагу.
– Не взыщите, Адольф Эмильевич, но я переделать ее не берусь.
– Как не беретесь?
– Да вы прочли ее до конца?
– Прочел. Ну, и что же?
– Законы приведены мною, кажется, правильно?
– Положим, что правильно…
– А коли так, то какое же я имел бы право исполнять незаконную резолюцию? Всякому человеку свойственно ошибаться – и начальству. Если же мне, исполнителю, вверена ответственная часть, то я должен и оправдать это доверие, оберегать начальство от противозаконностей.
Хотя сам Тимофей Ильич по-прежнему не повышал тона, подобно своему начальнику, но общее внимание всего отделения было уже обращено на препирающихся. Адольф Эмильевич не мог этого не заметить, и кровь хлынула ему в голову, глаза его гневно засверкали. Ему стоило, видимо, большого труда побороть себя.
– Хорошо! Оставьте мне бумагу… – пробормотал он и дрожащею от волнения рукою схватил перо, чтобы самолично переделать работу строптивого подчиненного.
Наступило полное затишье; весь чиновный мир кругом притаился, как бы в ожидании нового раската грома. И вдруг, откуда ни возьмись, солнышко!
В отделение впорхнул маленький, кругленький человечек лет двадцати пяти, в котором решительно уже не было ничего «чиновного». Партикулярный с иголочки фрак на нем был последнего покроя с длиннейшими фалдами и самого модного цвета – гаванского с искрой; из-под широких бланжевых панталон кокетливо выставлялись кончики маленьких ножек в лакированных ботинках; пунцовый шелковый шарф, пришпиленный крупной булавкой-жемчужиной, ниспадал на белоснежную кружевную сорочку небрежно-изящным бантом. Это был петиметр чистейшей воды, мягкие движения которого и слегка помятое, но розовое и предобродушное лицо с ущемленным в правом глазу стеклышком вполне гармонировали со всей элегантной фигурой.
– Вот и наш Павлик, – заметил Пыжиков, подмигивая Гоголю. – Добро пожаловать, Павел Анатольевич. Сколько лет, сколько зим?
Но Павлику было не до канцелярского. Приятельски кивая по сторонам, он подлетел уже к начальнику отделения, красиво изогнувшись, расшаркался и извинился по-французски, что немножко-де замешкался и явился в партикулярному виде; но что он в ужасной передряге: надо в три дня развезти триста билетов к благотворительному концерту княгини Евпраксий Борисовны.
– Вашему высокородию имею честь представить на ближайшее усмотрение, по бывшим примерам, два почетных билета, – заключил он по-русски, доставая из бумажника два билета. – А супруге вашей я позволил себе препроводить по принадлежности прямо на кухню замечательного зайца.
– Grand merci, – поблагодарил начальник, черты которого значительно прояснились. – А вы, mon cher, что же, были ОПЯТЬ на охоте?
– Да, с вашего разрешения, за Нарвой у Палена.
– Как с моего разрешения?
– Да когда я как-то доставил вам оттуда окорок лося, вы разве не дали мне раз навсегда carte blanche[17]?
И какой же там при сей оказии со мной анекдот приключился, доложу я вам, – умора!
При одном воспоминании об анекдоте, молодой охотник покатился со смеху.
– Расскажите, – заинтересовался Адольф Эмильевич, усаживаясь удобнее в кресле и зажигая себе новую сигару.
– Eh bien[18], едем мы это всей компанией к месту охоты. Дорога проселками. Снег по сторонам сугробами в два аршина. На паре, как знаете, проехать и не думай.
– Еще бы: на то у нас там и санки-одиночки, а лошади – маленькие шведки.
– Вот, вот. Но мы затеяли гонку. Лошади вязнут в снегу чуть не по горло, фыркают; бубенчики звенят; крик, хохот… Вдруг выскочи на дорогу из крестьянских задворков свинья, препочтенная этакая mater familias, и под ноги моей шведке Та – стоп, на дыбы. А задние сани нас уже обгоняют. Положение хуже губернаторского! Ударил я вожжами по шведке, гикнул, и понеслась она, голубушка, стрелой за хавроньей. А та в перевалку перед нами трюх-трюх и со страху без умолка: «хрю-хрю!»
– Хороша картина! – вставил с снисходительной улыбкой Адольф Эмильевич, пуская дымное колечко.
– N'est-ce pas? Но постойте: la pointe впереди. Нагнали мы Хавронью Ивановну; ну что бы, кажется, признать уж себя побежденной, свернуть с дороги? Ан нет, трусит себе, дурища, без оглядки перед нами тем же аллюром. Момент – и визжит уже под полозьями благим матом на всю Ивановскую. Санки на бок и я в снегу. Гляжу: что с моей свиньюшкой? Можете себе представить: туша-то в целости, но пятак с рыла как ножом срезало!
– Так-таки отскочил и лежит на дороге?
– Так и лежит.
– А вы что же, не подобрали?
– Подобрал и тут же подарил деревенскому мальчишке, который подвернулся очень кстати: «На тебе, братец, на пряники».
«Пуанта» рассмешила не только начальника, но и окружающих подчиненных, которые, оказалось, также прислушивались к игривому рассказу. Адольф Эмильевич сразу нахмурился, вытянулся в своем кресле и заметил рассказчику полуофициальным уже тоном:
– Пора нам, однако, и делом заняться. И для вас, mon cher, кое-что найдется.
– На сегодня, добрейший Адольф Эмильевич, я просил бы меня еще уволить, – с заискивающей развязностью извинился Павлик, – мне непременно надо заехать до обеда еще в несколько мест.
Начальник не стал, конечно, его удерживать. Теперь только, уходя «со службы», Ключаревский по пути стал по-приятельски здороваться и прощаться за руку с остальными сослуживцами. Тут ему попался на глаза и Гоголь, сидевший как раз на его, Ключаревского, месте.
– А, новое лицо! – сказал он, поправляя в глазу стеклышко. – Определяетесь на службу?
– Определяюсь, – отвечал Гоголь, не без недоумения глядя на приветливо улыбающегося ему допросчика.
– Очень рад – не столько за вас, сколько за себя: при случае заместите. Ведь я здесь некоторым образом гость: не хочу быть только лишним гостем. Вы, может быть, не знаете, что такое лишний гость?
– Что?
– А вот что. Засиделся он опять после чая, надоел хозяину хуже горькой редьки, а сам не убирается, ждет, вишь, не угостят ли еще фруктами, вареньем или закуской? Наконец, делать нечего, берется за шляпу, извиняется, что никак не может более оставаться: доктора советуют ложиться ранее… «О! Я вас отлично понимаю, – говорит хозяин с соболезнующей миной, – сон до двенадцати часов, действительно, самый крепкий и полезный. Доброй ночи!» Так вот-с, буде вы, прослужив здесь малую толику, все еще оставались бы на положении лишнего гостя, то не выжидайте закуски…
– Павел Анатольевич! Вы что это там проповедуете? – донесся тут голос начальника. – Уходите-ка, уходите и других не мутите.
– Ухожу, ухожу, лечу!
Интермедия, устроенная Павликом, несколько освежила Гоголя, и он с новыми силами принялся за свою вторую бумагу. Осилил тоже, переписал почище и понес к столоначальнику. Что-то скажет?
Увы! Тот едва только бросил взгляд на первую бумагу, как похерил все «содержание» и, взамен того, нацарапал на полях живой рукой нечто вдвое короче. Вторую бумагу постигла та же участь. Шелуху оставил, а ядро выкинул! Передав обе бумаги одному из писцов для переписки, он обратился к Гоголю:
– Другой работы для вас у меня покамест нет: все слишком еще для вас сложно. Но вам неизлишне ознакомиться на практике и с нашей черной работой. Пыжиков! Займите-ка молодого человека.
Как провинившегося мальчугана, его сдали на руки инвалиду-дядьке!
– С чего бы нам начать? – глубокомысленно проговорил Пыжиков, входя в роль наставника. – С иглой-то вы ведь, я чай, немножко обходиться умете? Пуговицы себе в школе пришивали?
– Нет, не случалось; у меня был на то человек.
– Эх-эх! Да, впрочем, пуговицы все не то, что казенные бумаги. Ужо, как удосужусь, так обучу вас нашему портняжному делу. А теперича что желаете на выбор: либо новые дела в алфавит вносить, либо старым делам опись составлять для сдачи в архив?
У Гоголя точно петлею горло сжало, а глаза заволокло влажною дымкой. Вот она, государственная деятельность, широкая, плодотворная, к которой он недавно еще так порывался, которую в мечтах своих рисовал себе такими радужными красками! С первого же дня самого его сдают в архив! Да стоит ли теперь возражать? К кому апеллировать? Против судьбы, неотвратимой, неумолимой, не апеллируют, а выносят ее с христианским смирением.
– Мне все равно! Давайте, что хотите.
– А все равно, так вот-с опись. Дело простое, не головоломное.
Дело, точно, было не головоломное, но отупляющее, одуряющее; окружающая же департаментская атмосфера, пропитанная насквозь бумажною пылью и табачным дымом, еще более одурманивала. Гоголю сдавалось, что он с часу на час глупеет, деревенеет. С полным равнодушием услышал он, как запыхавшийся курьер возвестил, что директор собирается уходить и просит к себе господ начальников отделений с самыми экстренными бумагами; с тем же равнодушием видел он, как Адольф Эмильевич, поспешивший на зов главы департамента, вскоре опять возвратился и передал Пыжикову одну подписанную бумагу с внушением немедля ее отправить.
– Эге-ге! – пробормотал про себя Пыжиков и вполголоса подозвал к себе Гоголя: – Пожалуйте-ка сюда.
– Что такое?
– Чудо чудное: на закон-то не посягнул.
– Кто?
– А отделенский шеф наш. Помните ведь, как из-за одной бумажки у него с Тимофеем Ильичом давеча сыр-бор загорелся?
– Ну?
– Ну, так это она самая и есть: редакцию-то по своему изменил, да только так, знаете, с поверхности патокой помазал, дабы усластить горечь отказа: одной рукой по морде, а другой по шерстке, одной по морде, а другой по шерстке! Хе-хе-хе!
– И директор подписал?
– А вот, изволите видеть. Вся штука, батенька, в редакции. О, это целая наука-с! Хомут-то на вас надели, но везти повозку – надо поучиться да поучиться. Ну, да Бог милостив, сам директор наш, было время, тут же на этом стуле под моим руководством дела подшивал, а теперь, на-ка поди, куда возлетел! Терпи казак – атаманом будешь.
Так утешал старик. Но юнец-казак не мечтал уже об атаманстве. Перед ним тянулась неоглядная, однообразно-серая перспектива алфавитов и описей, дел к подшивке и шаблонов, шаблонов, шаблонов без конца…
В хомуте!..
Глава десятая
Первая ласточка
«„Удав!“ Выдумал тоже! – рассуждал сам с собою сожитель Гоголя, Прокопович, лежа после сытного обеда в полудремотном состоянии у себя на кровати. – Как набегаешься этак с утра, высунув язык, по урокам, так к обеду аппетит, понятно, волчий. Комплекция, слава Богу, здоровая, казацкая. А нынче, не в счет абонемента, прихватил еще с Сенной живого налима: такую знатную ушицу молодец Яким сварил, что после двух тарелок съел бы и третью и четвертую, кабы место только нашлося. И после этого человек величает себя „венцом творения“! Хорош венец! А добрый приятель над тобой еще издевается: „Удав! boa constrictor!“ – точно ты и в самом деле закусил не каким-то ничтожным трехфунтовым налимцем, а целым теленком».
Философствуя таким образом, Прокопович стал понемногу забываться, когда внезапно был потревожен каким-то необыкновенным шумом в смежной комнате.
Что бы это значило? Топанье ног, хлопанье в ладоши и пение не пение, а монотонное завывание как будто самого Гоголя, который и в гимназии-то, за отсутствием слуха, был освобожден учителем Севрюгиным от хорового пения. С горя-печали себя потешает, что ли? За обедом давеча сидел ведь как в воду опущенный, на уху и глядеть не хотел, а на вопрос: «Здоров ли?» – взялся только за горло: хомут, мол, давит. Хомут! Да, моя ясочко, служба не дружба. Однако, посмотреть все же, что с ним.
С трудом расставшись с мягким ложем, Прокопович отворил дверь к приятелю. Но тут глазам его представилось такое зрелище, что он застыл на пороге.
Посреди комнаты Яким плясал гопак, плясал с таким азартом, что чуб на макушке у него трясся, точно хотел оторваться, а с лица его, пылавшего как жар, пот длил градом. Гоголь же, в своем неизменном халате, полулежа на диване, бил в такт в ладоши и распевал с большим одушевлением и упорно фальшиво[19]:
Ходит гарбуз по городу,
Пытаетця свого роду:
Ой, чи живы, чи здорови
Все родичи гарбузови?
При виде Прокоповича Яким, довольный случаем дух перевести, прекратил свой неистовый танец.
– А я, брат, Николай Васильевич, уже думал, что не твоя ли это милость с горя в пляс пустилась? – заметил Прокопович.
– Я ни плясать, ни плакать, как знаешь, не умею…
– А потому поручил дело Якиму? Но пока-то он только пляшет.
– Все по ряду, душа моя; будет и плач велий. Можешь, казаче, налить себе еще рюмицу, – обратился Гоголь к Якиму, – а там спой-ка нам старую думу, да пожалобливее, чтобы слеза прошибла.
Для приятелей-земляков у Гоголя в шкапчике имелось всегда угощение: банка с вареньем и две фляги: одна – киевской наливки и другая – горилки-старки.
– Бувайте здорови! – пожелал Яким обоим господам, налив себе полную рюмку старки, и разом ее опрокинул в глотку; после чего крякнул, тряхнул чубом и отошел к двери. Прислонясь здесь спиной к косяку и подперев ладонью щеку, он затянул протяжно-заунывно, на манер украинских кобзарей, старинную думу о побеге трех братьев из неволи турецкой.
«Как из земли турецкой да из веры басурманской, из того города Азова, не пыль-туман вставал: из тяжелой неволи три родные брата утекали: два конных, третий, меньшой, – пеший. За конными бежит пеший, бежит-подбегает, по выжженной степи белыми ногами ступает, кровь следы заливает, за стремена братьев хватает, горько молит-умоляет сбросить с коней дорогие седла, добычу богатую, взять его, меньшого брата, меж коней своих, подвезти в землю христианскую к отцу-матери.
Не брали его конные братья: жаль с добычей расстаться. Нагоняет их снова пеший брат, последней милости просит: вынуть из ножен саблю, снять с него, пешего, голову, похоронить в чистом поле, не дать на поживу зверю и птице.
Не хотят рубить ему братья головы: не возьмет сабля, рука не подымется, сердце не осмелится.
В третий раз догоняет их пеший брат: как доедут до буераков, срубали бы ветви терновые, по дороге бы раскидывали для приметы ему, пешему.
Срубали братья ветви терновые, раскидывали по дороге; а как выехали на высокие степи и не стало терновика, средний брат из-под жупана обрывал красную да желтую китайку, стлал по дороге для приметы меньшому брату.
Находил меньшой брат ту красную да желтую китайку, к сердцу прижимает, слезно рыдает: нет, уже, знать, на свете братьев, либо изрублены, либо пристрелены, либо в неволю назад угнаны.
Самого же его голод-жажда мучит, тихий ветер с ног валит. Дошел так на девятый день до Савур-могилы, на могилу ложится, головой припадает. Сбегались тут волки серые, слетались орлы чернокрылые – живому темные похороны справлять. И молвил он им:
„Волки серые, орлы чернокрылые, гости мои милые! обождите хоть немножечко, пока душа казацкая с телом разлучится…“
Не черная туча налетела, не буйные ветры подули, то душа казацкая молодецкая с телом разлучалася. Сбегались тут волки серые, слетались орла чернокрылые, в головах садились, изо лба черные очи выклевывали, белое тело вокруг желтой кости обгладывали, желтую кость под зеленые яворы разносили, сверху камышами прикрывали…»
– Стой! – неожиданно перервал Гоголь самозваного кобзаря, вскакивая с дивана. – А теперички, братику мий, утекай тоже.
– Дай же ему хоть допеть-то, как безбожные басурмане набега ли и тех двух старших братьев порубали… – вступился Прокопович.
– Может допеть, коли хочешь, у тебя, – отвечал Гоголь, быстро подходя к письменному столу и доставая из ящика ворох исписанных листов.
– Да неужели ты, Николай Васильевич, записать всю думу хочешь?
– Записать не записать, а поймать за хвост некую мысль…
– Как жар-птицу, чтобы не улетела?
– Да, да. Ну, что же, люде добри? На добра нич вам, спочивайте.
И те – делать нечего – вышли, а минуту спустя из комнаты Прокоповича донеслись прежние заунывные звуки. Но Гоголь уже не слушал, не хотел слышать и, хмурясь, стал рыться в своих бумагах.
Дума замолкла, но вызванные ею образы продолжали витать над головою юноши, наклонившегося над своим писаньем.
Еще в Любеке, как припомнят читатели, у Гоголя был начат очерк малороссийской ярмарки, принявший затем форму рассказа. Но предназначался он тогда для немцев и остался не только не переведенным на их язык, но и недописанным по-русски, и сердце автора к нему охладело. Писательская жилка, однако, как ключ подо льдом, продолжала в нем тайно биться.
По возвращении в Петербург, до поступления в департамент, томясь бездействием, Гоголь занялся опять просмотром присланных ему матерью из деревни отрывочных материалов, и от этих народных обычаев и нравов, от этих старинных преданий и поверий повеяло на него чем-то таким родным и милым, что он не устоял и снова взялся за перо.
Вдохновившись теперь думой о побеге трех братьев, он мельком лишь на всякий случай перелистывал свою «Сорочинскую ярмарку». Ярмарочные сценки, кажется, удались, да и про красную свитку недурно. Только страху настоящего маловато, чертовщина больше для смеха. То ли дело – его новая быль, подлинная драма, от которой самому как-то жутко становится! Здесь и для тех волков серых и орлов чернокрылых найдется подходящее место. Пидорка не хочет идти за нелюбого ляха и посылает к Петру своего шестилетнего братишку Ивася!
– Скажи ему, что и свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе: будут дьяки петь, вместо кобз и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом моим: понесут меня! Темная-темная моя будет хата: из кленового дерева, и, вместо трубы, крест будет стоять на крыше!
Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины слова.
– А я думал, несчастный, идти в Крым и Туречину, навоевать золота и с добром приехать к тебе, моя красавица. Да не быть тому! Недобрый глаз поглядел на нас…
Ну, тут и вставить, но так, конечно, чтобы вставка вытекала из предыдущего как бы сама собой. Гм… Волки, сдирающие мясо с костей, в этакой старинной песне, пожалуй, даже кстати: картина грубая, но ведь и для грубых времен и нравов. А что скажут наши нынешние слабонервные эстетики, если ту же картину во всей неприкосновенности преподнесет им современный автор? «Тьфу, – скажут, – что за мерзость! Этак ничего теперь и в рот не возьмешь!» Но чем заменить серых волков? Черным вороном? А как же быть тогда с орлом чернокрылым? Вот тут и подбери картинный эпитет! Точно сам враг человеческий хотел подшутить над тобой, подсунул нарочно этих трех братьев… Да нет, приятель, не надуешь! Подберем.
Гоголь облокотился и глубоко задумался: потом совсем безотчетно выдвинул ящик стола и из глубины его, не глядя, выудил леденец; но едва лишь препроводил его в рот, как схватил перо и стал писать на полях листа. Перечел в связи с остальным – и остался недоволен; зачеркнул несколько слов и надписал сверху другие. Народная дума дала ему, так сказать, только толчок к поэтической вставке, которая в окончательном виде сохранила отдаленный лишь намек на первоисточник:
«Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе – ворон черный прокрячет, вместо попа, надо мною; гладкое поле будет моя хата; сизая туча – моя крыша; орел выклюет мои карие очи; вымоют дожди казацкие косточки, и вихорь высушит их…»
Тем временем смеркалось; пришлось зажечь свечу. Сам того не замечая, Гоголь начал перечитывать всю быль. Эх, не то, не так! Рука его машинально полезла в стол за новым леденцом.
Рядом, в комнате Прокоповича, давно шумел самовар; сам Прокопович два раза уж заглядывал в дверь, звал к чаю, а молодой писатель нетерпеливо только пером отмахивался:
– Ах, отвяжись!
– Да ведь чай тебе когда уже налит; совсем простынет.
– И пускай.
– Так не подать ли его тебе сюда?
– Да, будь друг.
И друг на цыпочках принес стакан и на цыпочках удалился. Гоголь же продолжал с критическою строгостью исправлять свое произведение, как бы совсем чужое, по временам вставал и прохаживался большими шагами взад-вперед, обдумывая какую-нибудь сцену, потом опять садился и чиркал, писал целые страницы вновь.
Запас леденцов в столе истощился; рука тщетно шарила за ними по всему ящику. Ах ты, Господи! Вот беда так беда!
Писатели-курильщики уверяют, что в минуты творчества курение очень способствует им связать мысли. Великий Шиллер вдохновлялся для своих бессмертных драм запахом гнилых яблок, которые имелись у него всегда в письменном столе. Гоголь не курил, не питал пристрастия и к гнилым яблокам; но он был лакомкой, и леденцы на этот раз сослужили подобную же службу.
Откуда взять им суррогат? Овва! Ему вспомнилась вдруг в шкапчике банка с вареньем, которую он припас вместе с наливкой и горилкой-старкой для приятелей-малороссов. Поставив ее к себе на стол с стаканом воды, он временами брал по ложечке варенья и запивал тотчас глотком воды. И как фантазия-то опять окрылилась! Поясница ноет, голова отяжелела, а все как-то не можешь оторваться от увлекательной работы. Но вот и банка опустела, и мысли в голове начинают путаться, глаза слипаться; эх-ма, хошь не хошь, а придется-таки лечь! Но и в ночном мраке, в ночной тиши действующие лица его самодельной были мелькали перед ним вереницей, говорили меж собой, как живые.
На другое утро он чуть не на целый час запоздал в департамент и должен был выслушать там от начальника отделения реприманд, что «эдак, милостивый государь, служить нельзя; служить – так служить!»
А каково ему было потом приняться снова за канцелярские «шаблоны»? Воображение рисует ему самые захватывающие драматические положения среди дорогой ему Уркайны, а тут изволь-ка по-чиновничьи расшаркиваться: «Вследствие отношения… имею честь… покорнейше прося о последующем почтить уведомлением…». Ай да «честь», нечего сказать! И о чем «покорнейшая» просьба-то? О пустяковине; да еще «почтить»! Господи помилуй! Вот уж подлинно, «слова, слова, слова», как говорит Гамлет.
Зато, возвратясь со службы, с каким наслаждением обратился он снова с своему «приватному» делу! После нестерпимой жажды от департаментской суши как освежала светлая струя собственного вдохновения!
Так с этого-то времени и до тех пор, пока он окончательно не распростился со служебной карьерой, жизнь его раздвоилась: первая половина дня отдавалась волей-неволей черствой прозе действительной жизни; вторая же половина была в полном его распоряжении, и сколько тут пережил он горьких и сладких минут в самосозданном, сокровенном мире свободного творчества!
Незадолго до Рождества, в воскресный день, Гоголь, дочитывая про себя краткую молитву, звонил у двери, на которой была прибита металлическая дощечка с надписью: «Редакция журнала „Отечественные Записки“», под дощечкой – визитная карточка Павла Петровича Свиньина, а под карточкой – письменное объяснение, что «редактора можно видеть по воскресным дням, от двух до четырех часов». Открывший двери казачок, увидев в руках Гоголя бумажный сверток, не спросил даже, кто он и кого ему нужно, а просто предложил ему пройти в гостиную.
– А что же, господин редактор занят?
– Заняты-с: у них сотрудник.
«Сотрудник»! Да, этакий титул куда почетнее звания не только канцелярского, но и столоначальника. Столоначальников-то в Петербурге – что тумб на улице, именно тумб! А сотрудников журнальных – один-другой и обчелся. Попадешь ли только в число их?
Гоголь со вздохом присел около двери; но ему не сиделось, и он подошел к столу, на котором было разложено несколько номеров «Отечественных Записок». Журнал этот случалось ему, конечно, видеть и прежде, но теперь он отнесся к его внешнему виду совсем иначе – с точки зрения будущего «сотрудника». М-да, с виду-то куда неказист: формат мизерный – в двенадцатую долю, бумага серая, шрифт избитый… Зато эпиграф на обложке самый возвышенный:
Любить Отечество велят: природа, Бог;
А знать его – вот честь, достоинство и долг!
Рифма, правда, с изъянцем, но не всякое же лыко в строку. И соловей на вид не наряднее воробья, а как, поди, заливается!
Б-р-р-р! Какой холод! Даже дрожь пробирает. Верно, не топили сегодня? Нет, печка теплая. А вот на стене и термометр. Посмотрим, сколько градусов? Четырнадцать! Температура более или менее нормальная. Но кровь точно застыла в жилах, руки как ледяшки. Непременно надо будет обзавестись теплыми перчатками, а то подашь этому редактору мерзлую руку – он, как от лягушки, свою отдернет, и станешь ты ему сразу противен. Как часто ведь этакое первое впечатление решает судьбу человека!
Чу! Рядом в комнате задвигали стульями, заговорили громче: один голос как труба, – очевидно, редакторский, другой как дудка – сотрудника. Какую бы позу принять? Не так, чтобы слишком независимую, но и не так, чтобы чересчур забитую. Главное – вооружиться рыцарским бесстрашием: смелость города берет!
Дверь стукнула, и на пороге показался, спиною к Гоголю, жиденький человек с лысинкой и в потертом сюртучке. Как комнатная собачка, на задних лапках выпрашивающая себе кусочек сахару, он пятился от напиравшего на него средней комплекции господина в бухарском шелковом халате и с чубуком в руке и продолжал жалобным фальцетом начатую еще за дверью просьбу:
– Но завтрашний день, клянусь вам, статейка будет вам представлена…
– Тогда и сведем счеты, – решительно и басом перебил сотрудника выпроваживающий его редактор.
– Но даю вам голову на отсечение…
– А на что она мне, скажите, когда будет отсечена? А на плечах она пригодится, надеюсь, еще и вам, и мне. Нижайший поклон супруге!
Затем он обернулся к выступившему вперед Гоголю и чубуком, как жезлом, пригласил его за собою в кабинет:
– Прошу.
Опасение Гоголя, что мерзлая рука его может дать неблагоприятный оборот его судьбе, было излишне: Свиньин вовсе не подал ему руки, а опустившись в широкое резное кресло перед большим письменным столом, кивнул ему на простой соломенный стул рядом.
– Что скажете?
«Рыцарское бесстрашие» готово было опять покинуть Гоголя: несмотря на свой домашний костюм – халат, Свиньин был в галстуке и накрахмаленном жабо; хохол над высоким лбом, а также узенькие полоски бакенбард около ушей и виски были тщательно причесаны; свежевыбритое лицо лоснилось как атлас; слышался от них даже как будто запах розового масла; а этот острый, пронизывающий до глубины души взгляд из-под нависших бровей, – ну, сам великий инквизитор, или, по меньшей мере, квартальный надзиратель. Но и с квартальным связаться тоже – мое почтение!
– У меня небольшая вещица, – отвечал Гоголь возможно развязней, но сам не узнал своего голоса; а когда стал теперь торопливо снимать веревочку со своего свертка, то оледенелые пальцы никак не могли справиться с этим несложным делом.
– Да вы не трудитесь, – остановил его Свиньин, кладя ему на рукав руку. – Скажите прежде всего: это у вас не поэма?
– Нет, повестушка, быль…
– В прозе?
– В прозе.
– Слава Богу! Но не первый ли опыт?
– Первый в прозе – да-с.
– Та-ак. Посмотрим, чем порадуете.
Взяв из рук Гоголя сверток, редактор обрезал веревку лежавшими на столе полуаршинными ножницами и развернул рукопись.
– «Вечер накануне Ивана Купала. Быль, рассказанная дьячком *** церкви», – прочел он заглавие и окинул затем сидевшего перед ним автора снисходительно-ироническим взглядом. – А вы сами, верно, из духовных? Может быть, даже дьячок?
– Ах нет, я – дворянин и состою на коронной службе.
– На коронной? Вот это похвально, заработок все-таки верный, обеспеченный и дает возможность заниматься литературой con amore[20]. Но как это вам в голову забрело вести рассказ от имени какого-то дьячка?
– А так, для большей натуральности. Я – уроженец Полтавской губернии, хорошо знаю тамошние обычаи, старинные поверья малороссов, и так как из малороссийского быта в русской литературе почти ничего еще не имеется…
– То вы и обогатили ее теперь этаким простонародным малороссийским блюдцем? Что ж, иной раз и борщ, голубцы, вареники покушаешь не без удовольствия, буде хорошо приготовлены. Конечно, это не майонез, не ананасное желе! Вот кабы вы побывали в чужих краях…
– Да я был уже в Любеке, в Гамбурге…
– То есть в прихожей Европы? Это что! Я вот целые годы провел в Испании, в Америке, беседовал с королями, с президентами республик… Какой разгул молодой фантазии! И что же? Я сумел благоразумно сдержать себя; писал, но не поэмы, не повестушки, а «Взгляд на республику Соединенных Американских Областей», «Опыт живописного путешествия по Северной Америке», «Воспоминания на флоте»…
«Потому что на поэму, на повестушку у тебя пороху не хватило», – подумал Гоголь, но на словах выразил одно почтительное изумление:
– Представьте! Это просто непостижимо! Как это вы, право, воздержались? Но истинное призвание свое вы все-таки нашли только по возвращении в отечество, принявшись за издание «Отечественных Записок».
– В известном отношении – да, – согласился издатель-редактор, с задумчивою важностью покачивая головой. – Но главная цель моей жизни иная – капитальный труд…
– Смею спросить: какой?
– Полная история Великого Петра.
– Скажите пожалуйста! Этим вы заслужите глубочайшую благодарность потомства!
– Надеюсь.
Раздавшийся в передней робкий звонок прервал дальнейший их разговор.
– Очень рад был познакомиться, – сказал Свиньин, приподнимаясь с кресла и милостиво подавая Гоголю два пальца. – Оставьте рукопись и наведайтесь этак через месяц.