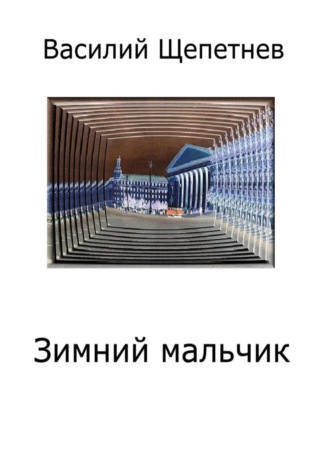
Василий Павлович Щепетнев
Зимний мальчик
Глава 2
2
21-22 июля 1972 года, пятница-суббота
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Партия первого тура началась ровно в восемнадцать. То есть в шесть вечера.
В пять минут седьмого я понял, что схожу с ума.
Соперником был старый знакомый, пенсионер Розенбаум. Вечный перворазрядник, мое отражение в будущем. Я с ним в турнирах встречался и прежде, три раза выиграл, два проиграл и две ничьи. Не самый трудный противник, но и не легкий. К тому же за год он немного сдал. Возраст. Ему, если не ошибаюсь, шестьдесят три.
Я играл черными, в ответ на е4 выбрал Каро-Канн. На четвертом ходу Розенбаум свернул с шоссе теории на тропинку практики. Сделал ход, мне неизвестный. Ничего страшного, ход так себе, потеря темпа, и только. Можно и нужно этим воспользоваться. Но как?
Я задумался. Ненадолго. Коня вывести? И тут перед глазами поплыло, подернулось чёрным туманом. А когда туман рассеялся, перед глазами появилась бегущая строка. Анализ партии, но странный анализ. Цепочка ходов, и цепочка эта росла и росла. А в конце цепочки оценка, которая тоже менялась. 0.44, 0.49, 0.53…
Вот они, последствия усердной учебы и мозгового штурма. Миша ку-ку. Правильные люди после экзаменов на курорты едут, водичку целебную пьют, ванны лечебные принимают. А я, вместо того, чтобы отдыхать, в шахматы играю. Опять нагрузка на мозги.
Вообще-то я сегодня отдыхал. Два часа на речке загорал, купался, книжку читал развлекательную. А всё равно рехнулся.
Хорошо, не буйный.
Анализ уже доходил до двадцать пятого хода черных.
– И вовсе не рехнулся, – успокоил внутренний голос. – Это просто ментальная проекция шахматной программы конца первой четверти двадцать первого века.
– А с кем я говорю? – осторожно спросил я. Мысленно.
– С самим собой, с кем же ещё.
– Ага, шизофрения.
– Глупый термин глупых людей. Все люди сами с собой ведут диалоги. Иначе и не бывает.
– То есть ты сидишь внутри огромной электронно-вычислительной машины?
– Я сижу внутри головы, – и рука сама почесала затылок. – Вот-вот, этой самой.
– А откуда тогда программы?
– Добрый дядя дал, – вздохнул я-второй. – В общем, пользуйся. А я посплю.
– Посплю?
Но ответа не получил.
По часам я уже пятнадцать минут думаю над очередным ходом. А, ладно, рехнулся, не рехнулся, жизнь покажет. Проверим практикой.
Ментальная проекция перебирала ходы на глубину до тридцать второго хода черных. Моего то есть. Хватит думать, нужно ходить.
И я сходил.
В дальнейшем длительных раздумий не допускал, тем более что моя шизофрения анализировала и во время размышлений Розенбаума. Минутку выжидал, и ладно.
На двадцать третьем ходу Розенбаум, оставшись без ладьи, сдался. Мы пожали руки, расписались в бланках. Я отнес бланки судье, а Розенбаум, как проигравший, расставлял шахматы наново. Завтра с утра сюда придут дети, на занятия шахматной школы.
– Выиграл? Вот, а ты сомневался, – сказал Антон. Он – помощник судьи. – Завтра в четыре, суббота.
Я только кивнул. У большинства игра в разгаре, а разговоры, они мешают. Особенно чужие.
Я вышел. Игра заняла полтора часа. Двадцать пять минут у меня и час пять минут у Розенбаума. Контроль у нас укороченный. Обычный, по два с половиной часа каждому, больно жирно будет. Люди с работы, уставшие. Ну, и первый разряд – не мастера. У мастеров строго. Даже у камээсов строго. А перворазрядникам и полтора часа хватает. На сорок ходов. С откладыванием партий.
Вечерело. В кино, что ли, сходить? У меня в голове своё кино. Кино на одного зрителя. Пусть таким и останется. Дядя доктор, я слышу голос в голове. Чей? Свой. Ну, это бывает. А электронно-вычислительная машина в голове? Большая? Не знаю. А что она делает? Играет в шахматы. И сильно играет? Не знаю. У Розенбаума выиграла, так и я сам у него выигрывал не раз. А целых два раза. А кроме Розенбаума у кого выиграла эта машина? Или кому проиграла? Пока только разок сыграла. Она что, сама играет? Она мне подсказывает. А сейчас она что-нибудь подсказывает? Сейчас она выключена. И кто ее выключил? Я. А включить можешь? Попробую.
Я попробовал. Бледная, едва видимая доска. Никакого анализа. А если представить – каким ходом белых лучше всего начать партию? И побежали строчки, е4, d4, c4, Кf3 Без явного преимущества какого-либо из ходов. Общеизвестный факт шахматной науки.
А выключить можно? Легко.
Я сидел на скамейке фонтанного сквера. Журчание воды гипнотизировало. Самоанализ по Дмитриенкову. Есть такая книга, профессора Дмитриенкова, «Как убедиться в здравости собственного рассудка», одна тысяча девятьсот двадцать третьего года издания. Бабушкина. Бабушка была хирургом, но в хирургической крепости не отсиживалась, а постоянно делала вылазки – в психиатрию, микробиологию, евгенику… И меня, тогда юного пионера, учила: к себе нужно относиться трезво и правдиво. Не искать утешения в мечтах, а воспринимать жизнь, как она есть, и себя в этой жизни тоже.
Если исключить невозможное, то остаток, как бы маловероятным он не казался, и есть искомое. То есть либо я просто сошёл с ума, либо произошла визуализация мыслительного процесса. Переход количества в качество. Прежде поэты, художники, композиторы считали, что их посещает муза и одаряет музыкой, стихами, картинами. Вот берет, и диктует «Я помню чудное мгновение…» Мы-то думаем, что поэты для красного словца так говорили, метафоричное сознание. А на самом деле Бетховен в тишине слышал музыку, а Булгаков видел спектакль. На самом деле! Оставалось только на бумагу записать. То есть, с позиции материализма, муза есть субъективное воплощение объективных процессов, а именно – мышление в доступной субъекту форме.
Впрочем, музыку и я слышу. С тех пор как себя помню, лет с трех. А теперь, стало быть, и шахматы стали являться. Но я, в отличие от людей прошлого века, в языческих божков не верю, вот мне и явилась электронно-вычислительная машина. Всякому времени свой образ, на дворе прогресс и печатный пресс. Раньше просто тупо считал за доской – если я так, то противник этак, я тогда пойду этой фигурой, а он той. А сегодня это оформилось в образ ЭВМ. Возможно, в кристаллизации образа сыграла роль книжка Ботвинника, что я вчера читал.
То есть я теперь мыслю иначе. А вот лучше ли – вопрос. И если лучше – то насколько.
Жизнь покажет, опыт есть лучшая основа для теоретических построений.
Значит, так: буду считать, что у меня просто качественный скачок способностей, специфических по форме и шахматных по содержанию. А вот куда скачок, вперед, вбок или вовсе в кусты, будет видно по ходу событий. Вывод: о видениях молчать, продолжать жить обычной жизнь.
И я продолжил. Пошёл на городскую квартиру.
Идти недалеко, от фонтанного сквера пять минут. Хороший дом, даже очень хороший. Живут заслуженные люди – генералы, советские и партийные деятели, сливки творческой интеллигенции. Областного масштаба, понятно. В вестибюле вахтер, которого творческая интеллигенция зовёт консьержем.
Я кивнул Павлу Сергеевичу, забрал почту и поднялся наверх, на третий этаж. Давненько живу исключительно на даче, даже интересно, изменилось ли что в доме.
Изменилось. Это я понял с порога. Запах духов. Не сильный, но и не сказать, чтобы слабый. Не маменькиных духов, конечно. Анны.
Анна – хористка из оперного театра. Юная и талантливая. Настолько юная и настолько талантливая, что весной я было подумал, что её я же и интересую. Однако нет, она нацелилась на папеньку. Что ж, дело житейское. Кто я, а кто папенька. Но прежде Анной в нашей квартире не пахло. А теперь пахнет.
Я прошёл на кухню, заглянул в холодильник. Пусто. Только в морозилке сиротливая пачка пельменей. И горчица, свежая, ещё не открытая баночка. Второй намёк: мне здесь не рады. Сейчас-то папенька с Анной далеко, в Свердловске, на гастролях. Ну, а к его возвращению горчица должна быть съедена.
Я поставил кастрюлю на огонь и, в ожидании кипения, представил: папенька позавчера поехал ко мне, в Сосновку, и попросил Анну перед отъездом подготовить квартиру на время гастролей. Ну там в холодильнике прибраться и подобное. Вот Анна и подготовила.
Собственно, почему нет? Родители разъехались давно, что ж, папеньке теперь и не жить? Да вот хоть и с Анной? У меня-то теперь свой дом. Но могли бы и предупредить, а то ведь я зашел бы запросто, неловкость бы случилась.
А не о чем предупреждать, всё только-только налаживается.
В гостиной на столике конверт, а рядом лист бумаги. Письмо от маменьки. Папеньке. Коротенькое. Пока пельмени плавали в кипятке, я его три раза прочитал. Маменька в шутливом тоне сообщает папеньке, что на днях выходит замуж за Марцинкевича, и потому он (папенька, а не Марцинкевич), может считать себя совершенно свободным.
Обо мне ни слова.
Ну, тогда да. Тогда мизансцена понятна. Всё на месте – горчица, пельмени, открытое письмо и запах духов. Папенька явно берёт курс на режиссуру.
Странная какая-то горчица. Солёная.
В моей комнате пока без перемен. Ни загадочных знаков, ни таинственных предметов, ни запахов.
Однако проснулся я бодрым, полным сил. Пельмени тому причиной, или иное, а только к институту я подошёл с песней в душе.
У вывешенных списков толпились и поступающие, и родители. Пришлось потолкаться.
Ага, вот он я! Ну, ура, что ли. Поискал подробности. Нашел объявления, что подробности будут в понедельник, 24 июля. Выдача документов, распределение по группам и прочее. Интересно, что такое «прочее». Хотя и не очень интересно.
Оглянулся. Ни Бочаровой, ни Стельбовой не видно, а остальных я не знаю.
Получается, нужно поесть и пойти в кино.
Поел я в столовой от железной дороги, очевидно хорошей, поскольку даже в субботний день она не пустовала. А теперь – кино! Я ж целый год в кино не ходил, всё учился, учился и учился.
Фильм выбрал давеча, по газете. «Корона Российской Империи». Две серии! Пока доехал до кинотеатра, пока отстоял очередь за билетами, уже и полдень. Но серии куцые, и я после кино успел зайти в кафе. Крепкий чай и пирожное – необременительно для желудка и полезно для умственной работы. Пока заряжался, думал о фильме. Эк куда занесло героев – вся великолепная четверка работает в ЧеКа! А вот Париж не глянулся. Вроде райцентра средней величины. И ресторан плохонький. Зато Ролан Быков с золотыми часами хорош. Будто Ленин в «Кремлевских курантах».
Второй тур свел меня с Ириной Крюковой, единственной дамой в турнире. И с ней я прежде играл трижды, две ничьи и проигрыш.
Включаем? Включаем. Играем? Играем.
На двадцать третьем ходу Ирина предложила ничью. Я четко сказал «нет» и двинул пешечку, выигрывая слона. На тридцатом, в виду неизбежного мата, Ирина, не подписав бланка, убежала из зала.
Незадача. Сидеть и ждать сорок минут, пока не упадет флажок, не хотелось. Судья, почтенный Николай Васильевич, только развел руками, мол, Ирина в своем праве, ей, может, стало плохо. И вообще, к девушкам следует быть снисходительнее.
Я стал кружить по залу. Визуализация шахматной мысли работала отменно. Призрачная картинка показывала: вот здесь мат в пять ходов, там – комбинация с выигрышем ферзя, третья – черным плохо, но есть возможность объявить вечный шах. Похоже, я мог бы дать сеанс всем участникам турнира.
– Обидел девушку, – сказал мне Антон.
– Это чем же?
– Она на кандидатский балл рассчитывала. С девушками бы давно кандидатом стала.
– Так пусть у девушек и побеждает.
– Да она и побеждает, только у нас перворазрядниц мало, как выполнить норму?
– И потому мужчины поддаются?
– Ну, не то, чтобы совсем поддаются, но…
– Нет уж. Мне кандидатский балл и самому пригодится.
– Тебе?
– Мне.
– Что ж, если так, – Антон с сомнением посмотрел на меня.
Флажок, наконец, упал, и я заработал полноценную единичку.
Перед игрой я был настроен уехать в Сосновку, но сейчас передумал. Фигушки. Если Анна мечтает стать хозяйкой, пусть постарается, а я капитулировать не буду. Купил в главном городском гастрономе, «Утюжке», всяческой студенческой еды – плавленых сырков, яиц куриных диетических, варёной колбасы, кабачковой икры, каш и супов в пакетиках, и пошёл в городскую квартиру. Заполнил холодильник и стал думать, кого бы пригласить в гости. Получалось – никого. Лизавета ещё весной вместе с родителями уехала в Киев навек, да и не такие у нас с ней отношения, чтобы звать в гости на ночь глядя. Вернее, не такие у нас были отношения, а сейчас никаких отношений нет. Друзья же, кого хотелось бы позвать, тоже далеко. А те, кто близко, и не друзья вовсе, а так, приятели. До первой неприятности.
И ладно.
На танцы пойти? Ага, сейчас. На пролетарские танцы ходить нужно взводом. Иначе съедят.
Включил телевизор и стал смотреть программу «Время». Британские портовики бастуют, отстаивая права трудящихся. Американская военщина нагнетает обстановку. Весь мир аплодирует советскому искусству. Спортсмены готовятся к олимпиаде. Переменная облачность, местами дождь.
На дожде я заснул. И проснулся заполночь от дождя настоящего. Закрыл окно, выключил злобно шипящий телевизор, посмотрел газеты. Уже вчерашние. Отчет о пятой партии матча. Стал смотреть – в уме, без доски. На двадцать седьмом ходу Спасский ошибся, и очень грубо ошибся. Пришлось сдаться. Что ж, теперь Фишер догнал чемпиона.
Странное у меня сумасшествие, а, впрочем, с чем мне сравнивать? И вообще… Ты говоришь, что слышишь музыку? Доктор и тебя вылечит. Даст таблеточек, поможет электрошоком, инсулиновыми комами, и – никакой музыки. Иди, Бетховен, в свекловоды.
Я-то не Бетховен. Я Чижик. И собираюсь стать доктором. Доктор не свекловод, но в семь раз лучше голосов в голове.
Лег спать теперь уже по-настоящему, обстоятельно, спал беспробудно, встал в пять сорок пять. В голове легкий беспорядок, но не более того.
А дальше что?
Дальше была яичница с жареной колбасой. Под шкворчание сковородки я поймал радио Челябинска. У нас раннее утро, там просто утро, время новостей, да и приём на средних волнах ещё уверенный. Новости обыкновенные: плавки и трубы, привесы и надои. В конце – новости культуры. Премьерное представление «Евгения Онегина». Высокое мастерство исполнителей.
Папеньку отдельно не упомянули.
Ну, что вы хотите, в утренних новостях-то…
В восемь ровно я был в Сосновке. Вывел из гаража велосипед и поехал на Дальнее Озеро. До полудня загорал и купался. На берегу нас было человек двадцать, все сосновские. Дальнее Озеро считалось местом тихим, почти заповедным, и потому ни транзисторов, ни магнитофонов с собой не брали, в волейбол не играли, а предпочитали преферанс, шахматы или просто подремать в тени. Или отойти в сторонку и рыбачить. Купать червячка, для верности насадив на крючок. Чтобы не утонул.
В общем, благолепие. Но благолепие скучное. И потому я быстро собрался и поехал назад, в Сосновку. Даже не от скуки – от нехорошего предчувствия. Ну что здесь может быть нехорошего? Берешь в кафе мороженое, вкусное, прохладное, а ночью бах – пищевая инфекция. Рвать и метать!
Вот и сейчас – во рту скопилась липкая слюна, хотя ничего подозрительного я не ел. И, когда приехал домой, чувствовал себя уже совершенно здоровым. Ехать в город на третий тур, или ну все эти пустяки, пока совсем не свихнулся?
Опыт должен быть продолжен. Это не внутренний голос сказал, а я. Внешним голосом.
Но электричку я отставил. Произвел гаражную рокировку – вывел «ЗИМ» на стартовую позицию, а папенькину «Волгу» поставил в тупик.
Гараж немаленький, главное – с подогревом, от АГВ и сюда проведена труба. Зимой здесь не жарко, но плюс держит в самые сильные морозы. Так для машины полезно. «ЗИМ» немолод, его дедушка купил, получив Сталинскую премию, последнюю в ряду. Потом Сталин умер. Был в те годы не то закон неписаный, не то поветрие – на Сталинскую премию покупать автомобиль. Для наглядности. Вот она, забота власти о творческой интеллигенции в материальном воплощении.
Дедушка не сразу купил «ЗИМ» – у него уже была «Победа». Деньги, они же лежат тихо, есть не просят. А в пятьдесят девятом году они, деньги то есть, начали пищать. Вот дедушка и тряхнул мошной. «Победу» отдал папеньке, а себе купил «ЗИМ». Для лауреатов квота была. И с тех пор в гараже тот «ЗИМ» и поселился. Точнее, не «ЗИМ», а ГАЗ-12, Молотов с примкнувшим Шепиловым вдруг выпали из обоймы.
Дедушка ездил на «ЗИМе» редко, но регулярно: два раза в месяц летом, и раз в месяц зимой. В Дом Художника. Нанимал шофера, Луку Лукича, из обкомовского гаража. Тут и возраст, и нежелание забивать пустяками голову, предназначенную для искусства. До города, по городу, обратно – тридцать пять километров. За год, стало быть, километров семьсот. За пятнадцать лет – десять тысяч. Точнее, одиннадцать триста – так на одометре. Осенью, когда дедушка приводил в порядок дела – он любил приводить в порядок дела, – то и машину отдал на профилактику лучшим обкомовским механикам. А мне сказал, чтобы я над машиной не трясся, а гонял в хвост и гриву. Он, дедушка, и сам бы гонял, будь лет на семьдесят моложе.
Он мне много чего говорил, дедушка. С кем ещё было ему говорить? Вот и оставил в наследство и дом, и автомобиль, и деньги, и всякое прочее. Папеньке, решил дед, это ни к чему, папенька уже на орбите, а тебе пригодится.
Формально папенька надо мной опекунствует, пока мне восемнадцать не стукнет. Опекунствует, но не препятствует. Да и как можно препятствовать, завещание составлено так, что до моего восемнадцатилетия сделок с движимым и недвижимым имуществом совершать вовсе нельзя никому ни за что. Ну, и кое-что дедушка передал с рук на руки. На всякий случай.
«ЗИМ» у дедушки, а теперь у меня – игрушка, правда, большая игрушка. Темно-вишневого цвета, экспортная модель, последняя серия перед снятием с производства.
Я посидел, примеряясь к пространству, и тронулся. Плавно, так, бывает, трогается поезд после стоянки. Кажется, что это вокзал отходит, а не ты.
И неспешно же двинул к городу.
На «ЗИМе» не торопятся. Кому нужно – подождёт.
Но за доску я сел вовремя. Противник на сей раз был серьезный, Михаил Сорокапут, перворазрядник с баллом, год назад разгромил меня вчистую. И, верно, тоже помня тот разгром, небрежно пожал руку и двинул ферзевую пешку.
Я же решил рискнуть. Проверить себя на слабину. Отвечал почти сразу, много – через пять, секунд. В темпе блица. Противник усмехнулся, потом опять усмехнулся, Потом задумался на сорок минут – и сдался.
– Ты ныне просто гроза фаворитов. Крюкову обыграл, теперь Сорокапута раздраконил. Восходящая звезда какая-то – сказал Антон.
– Восходящее солнце, – ответил я, но продолжать тему не стал.
– Гори-гори ясно, – с сомнением сказал мне в спину Антон.
Глава 3
5 – 6 августа 1972 года
ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ
Когда я выиграл последнюю партию турнира, сомнения Антона исчезли. Одиннадцать побед в одиннадцати турах нечасто увидишь. Нет, будь это в самом деле какая-то восходящая звезда, юное дарование – куда не шло, но от меня, битого-перебитого, никто сюрпризов не ждал. Ждали результат в районе полтинника. При своих. И то в лучшем случае. Ведь я весь здесь. На виду. Обыкновенный перворазрядник.
– Ты много тренировался?
– Последний год вовсе не играл. Выпускной класс, экзамены, не до шахмат.
– Значит, перерыв в занятиях пошёл тебе на пользу, – сказал Антон.
– Значит, пошёл.
– Посмотрим, как сыграешь следующий турнир.
– Следующий?
– Ну, ты же хочешь проверить, насколько вырос твой шахматный потенциал?
– А что проверять? Ну, вырос, так вырос. Расцвёл. А потом назад завянет.
– Нет, так нельзя. Таланты в землю безнаказанно не закапывают. Может, ты теперь кандидат в мастера или даже мастер!
– Даже и так, что с того?
– Интересно же! Я посмотрю партии, сыгранные тобой, повнимательнее. Может, найду подсказку.
– Мне учиться нужно. Анатомия, химия, латинский язык, история партии.
– Одно другому не помеха. Если бы учеба была важна, послали бы вас, первокурсников, на полтора месяца в колхоз?
– На полтора?
– Или около того. Приходится: засуха, каждый колосок на счету.
– И что с того? Я-то буду в поле, колоски собирать или свёклу дергать, а не за доской.
– В сентябре все будут в поле, турниры отменяются. Но потом… Я с тобой свяжусь, как определимся. Ты сейчас где живешь, в городе, в Сосновке?
– Где придётся. Приедет папенька с гастролей, определимся.
– Ничего, перезвоню. Две копейки не расход. Да и ты заходи. Все-таки перворазрядник с кандидатским баллом – это почти фигура.
Я и сам заметил: обращаться со мной стали почтительнее. Как с собачкой, от которой не знаешь чего ждать: как да и укусит? А шугнуть нельзя, собака неизвестно чья, вдруг и хозяйская.
Я посмотрел на таблицу, вздохнул: если кого результат и радовал, то лишь Антона. Жил, жил гадкий утенок и надо же – крякнул во все утячье горло.
Один раз не считается.
Вышел из клуба. Подошел к «ЗИМу». Шахматисты, курящие у входа, смотрели на мальчика-мажора. Ну, смотрите, смотрите.
Открыл дверь, сел. Прогрел мотор. И тронулся.
Часы показывали, что всё время – моё.
Потому я неспешно, показным ходом, двинулся к Дому Кино. Сегодня там предпремьерный показ «Ромео и Джульетты». Собственно, фильму четыре года, и его уже показывали тогда, в шестьдесят восьмом, для узкого круга партийной, творческой и прочей интеллигенции, и даже я видел. Мне не понравилось. Драк мало, больше про любовь. И потому сегодня я отговорился – мол, решающий тур, пан или пропал, а в кино мы ещё сходим. Звала Ольга, но, если честно, звала без огонька. То ли папенька ей билеты дал, то ли в райкоме комсомола, так не пропадать же. А я, что я, чижик. Птица мелкого полета. Пошла с Бочаровой, взяв с меня слово, что заеду за ними и развезу. А то поздно, девушкам страшно.
И в самом деле темнело. У Дома Кино две дюжины авто, все больше «Жигули» и «Москвичи». «Волг» мало, разве такси. Ну, и я на «ЗИМе» как вишенка на торте. Сижу, мурлыкаю «What Is a Youth». Уверен, сегодня все будут напевать песню в меру сил и способностей. Ну, и если слова запомнят. Ольга с Надеждой-то запомнят, вернее, знают давным-давно. Будет повод для девичьего дуэта.
Деликатный стук по кабине.
– Сержант Сидорчук. Попрошу документы.
Я протянул права.
– Кого-то ожидаем, или так?
– Соседку по даче. Отец попросил.
– Отец?
– Соседкин, не мой. Товарищ Стельбов, наш первый секретарь.
– Приятного вечера, – откозырял сержант, возвращая документы. А что, может, действительно приказали приглядеть за Ольгой, и меня назвали, вернее, «ЗИМ». Мало ли. Служебную «Волгу» выделять нескромно, а вот так, по-соседски, никто слова не скажет.
Через пять минут фильм закончился, люди потянулись. Кто к авто, кто на остановку троллейбуса, кто пешком. Молодежь, из тех, кому достаются билеты в райкоме комсомола.
– Давно ждешь?
– Третью сонату, – ответил я и, играя этюд до конца, распахнул заднюю дверцу. – Усаживайтесь поудобнее, сударыни.
Ольга скользнула легко, а Надежда немного неловко. Непривычно ей в «ЗИМах» ездить. Заднее сидение там шикарное, особенно когда дополнительные места демонтированы. А они демонтированы, дедушка давно их снял.
– Куда ехать изволим?
– Ты не спешишь? – спросила Ольга.
– До следующей пятницы я совершенно свободен, – ответил я по-пятачковски.
– Тогда давай на дамбу. Посмотрим на море.
Морем у нас зовется водохранилище, действительно, немалое. До дамбы двадцать километров, но по ночному времени – пятнадцать минут неспешной езды. И да, как и ожидал, девушки стали петь, сначала робко, а потом громче и громче. Почему нет? Мелодия простая, полторы октавы обе тянут, ну, а повыше…
– Ты бы помог девушкам, – сказала Ольга.
– Ваш дуэт мне только портить, – ответил я, но помог, чуть-чуть. Не стал сверкать и грохотать. Второй, третий раз вышло и совсем неплохо – для самодеятельности.
Постояли на дамбе. Зона охраняемая, но нас пустили. Узнали Ольгу, верно. Или им заранее позвонили.
– Ну, над водой, а капелла – подначила Ольга.
Чуден Днепр при ясной погоде, а мы втроем втройне чудней.
Назад ехали молча. Лучше-то не получится. Вряд ли. Высадили Надежду, её уже ждал брат у подъезда.
Поехали домой, в Сосновку.
– Я думала, ты соловьем разливаться станешь, – сказала Ольга.
– С чего бы?
– Неужели не хочется произвести внимание на девушек?
– Положим, хочется. Но перепевать песни из кинофильмов по заявкам радиослушателей – не моё. Уж если петь, так то, что на душу ляжет.
– Хорошо. Тогда представь, что ты разведчик на задании. И должен произвести впечатление.
– На задании я, во-первых, должен довести тебя домой в цельности и сохранности. Во-вторых, петь за рулем удобно только в кино, а мне позицию Лапозо подавай. И в третьих, дома ждет прекрасно настроенный «Блютнер», можем хоть до утра песни распевать, если твои не против.
– Позиция Лапозо – это то, что я думаю?
– Позиция Лапозо – певческая. Вариант высокой. Чтобы всё в человеке было прекрасно: и диафрагма, и связки, и резонаторы, и остальное. Тогда голос звучит вольно, как днесь над морем.
– И много таких позиций?
– Достаточно, чтобы найти по себе.
– А за рулём петь, значит, никак?
– За рулём поют в кино. С переозвучкой в студии.
На счастье, мы приехали. Ольга поблагодарила, и пошла к себе, напоследок подарив загадочный взор: мол, прозевал я свое счастье.
Счастье, может, и прозевал, но зато нашел у порога в ящике две телеграммы. Одна от папеньки: «Поздравь! Владлен, Анна Соколовы-Бельские». Вторая от маменьки «Поздравь! Мария Соколова-Бельская, Леонид Марцинкевич».
Ага. Понятно. Артистические свадьбы. Прямо на гастролях. В один день, ну, совершенно случайно совпало. Вот так я обрёл и мачеху, и отчима. Или не обрёл? Усыновление дееспособного совершеннолетнего без желания последнего не практикуется. А желания нет. Не Дантес, чай. Да и баронов поблизости не наблюдается. Нет, я ещё не совершеннолетний, но почти. И одного опекуна, папеньки, вполне достаточно. А если что – маменька подключит подругу Галю. Будет интересно. Дедушка предупреждал и дал кое-какие инструкции. Ну, мне до совершеннолетия всего ничего. Наступит осень золотая, и младость детская уйдет.
В голове – почти забытый гул. Заварил и выпил травяного чаю, по бабушкиному рецепту, постоял десять минут под холодным душем.
Потом открыл окно и стал слушать тишину. Давненько так хорошо её не слышал. Листы летели со стола на пол, хорошо, нумерованные. К восходу Луны – а взошла она ближе к утру, – дело было сделано. Я собрал листы, аккуратно сложил по номерам и лёг, наконец, спать.
Усталый, но довольный.
Спал, впрочем, вполглаза, и, едва стало прилично, включил радио и под воскресную передачу «С добрым утром» проделал комплекс упражнений сразу за три дня. Надо бы заняться физкультурой, что ли. А то певческое брюшко отращу не ко времени.
Подошел к «Блютнеру» и начал играть. Утром слышно иначе чем ночью, тем более, в голове, но в целом вышло даже лучше, чем представлял. Румынская тема веселенькая такая. Тема Ветцеля – инопланетная. И, конечно, главная тема – величие, торжественность, несокрушимость.
Не буду я ничего править. Хронометраж – полтора часа. То, что сегодня и нужно.
Теперь что?
Теперь нужно искать поэта.
А чего искать-то? Ольга и будет поэтом. Она уже в «Подъёме» публиковалась, и в сборнике «Молодые поэты Черноземья». Дело за простым – уговорить Андрея Николаевича, первого секретаря нашего обкома, члена ЦК КПСС и прочая и прочая и прочая.
На это Ольга есть.
Я ей и позвонил.
– Ты никуда не уехала?
– В половину десятого?
– Тогда заходи поскорее, дело есть.
– Ну какое такое дело?
– Поэтическое, приходи.
И повесил трубку.
Клюнет.
И в самом деле клюнула.
Сразу, не сразу, но через полчаса пришла.
– Ну, Чижик, песенку сочинил?
– Угадала. Только не просто песенку, а целую оперу.
– И теперь тебе нужны слова.
– Не слова, поэзия.
– А сам что не сочинишь?
– Не умею. А ты умеешь.
– Думаешь?
– Знаю. В общем, так: опера о десанте Великой Отечественной. На Малую Землю. Война, кровь, любовь. Молодой лейтенант, юная медсестра, друзья, враги, бури, ураганы, и храбрый полковник-политрук, как гарант наших побед.
Вот одна из тем: – и я сыграл рэгтайм.
– Это что, политрук? Брежнев?
– Это тема союзников. Из-за океана советы дают, как воевать.
А вот гитлеровцы – и я выдал внеземной ужас. – А это румыны, вначале бодренькие, а под конец разбитые, улепетывающие – проиграл сырбу.
– А гитлеровцы природные, немцы которые – не разбитые?
– Природные гитлеровцы – это вселенское зло. Его можно придавить, но порох следует держать сухим.
Так, потихоньку, я и показал оперу первому зрителю. Пел ля-ля-ля, играл в меру способностей, не на «Блютнере», а лицом, артистически, но более всего рассказывал историю первой любви музыкальными средствами. Не свою, ни боже ж мой, кому моя интересна. Просто – история первой любви.
Ольга молчала минут пять. Или шесть.
– И я должна написать…
– Не должна, а напишешь. Сроку неделя.
– Неделя… Но я не смогу.
– Ещё как сможешь. Неделю я с запасом назвал, с учетом непредвиденных помех. А напишешь быстрее. Просто бери карандаш в руки и пиши, что услышишь.
– Что услышу?
– Ну да. С поэтами так и бывает. Вот тебе ноты, это специально твои, смотри, слушай и пиши.
– А я это… С нотами не дружна, – пожалуй, впервые я видел Ольгу растерянной.
– Ничего. Магнитофон дома есть? Конечно, есть. Какой?
– Катушечный, «Акай». И кассетный, «Панасоник».
– Панасоника у меня нет, сойдемся на «Воронеже». Звук будет тот ещё, у меня ж не студия, но мелодию услышишь – и я сыграл восемь основных тем. Проверил запись. Сносно. – Вот. Работай.
– А…
– Мы пишем оперу. Практически, написали. Музыка хорошая, стихи волшебные. В будущем году – тридцатилетие десанта на Малую землю. Некоторые уже мастерятся, но у нас выйдет лучше. Собственно, уже вышло. Нашу оперу непременно поставят, театру такие нужны. Государственную премию, может, и не получим, хотя неплохо бы, а Ленинского комсомола – осилим. Ну, а дальше, если повезёт – а я думаю, повезёт, – оперу поставят во всех театрах страны. Оно и слава, и большие деньги заработаем.
– Деньги?
– А как же! Музыкальное – моё, поэтическое – твоё. Мерседес купишь, а сочтут нескромным – Волгу в импортном исполнении. Заработала же. Это ладно, насчет договора и денег с отцом посоветуйся, у него юристы. Я ведь не денег одних ради писал.
– А ради чего?
Тут замолчал я.
– Не знаю, – признался через минуту. – Накопилось, и вот – я показал на стопку нотной бумаги.
– Но вдруг у меня не получится…
– Уж поверь – получится. Ты, главное, не старайся писать гениально, пиши, как на душу ляжет. Если что – поправить всегда сможешь. И прости за совет: побольше рифм с открытой гласной, а шипящих хоть бы и вовсе не было, оперные певцы этого не любят.
– Но…
– Всё, иди, стихи наружу рвутся. Вечером возвращайся, попоём, чайку попьём – я дал Ольге кассету, чистый блокнот и автоматический карандаш.







