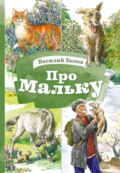Василий Белов
Повести
Белову и нужно, чтобы никому и никогда не удалось постичь, почему на другой день после драки Олеша и Авинер сидят и мирно беседуют. Это и есть непостижимость, о которой писатель говорил применительно к произведению искусства. Или «тайна», без которой, по Достоевскому, немыслимо истинно художественное произведение.
В 1972 году в журнале «Север» были опубликованы первые главы нового произведения Белова «Кануны» в сокращенном журнальном варианте. Писатель приступил к работе, которая займет у него годы: «Кануны», имеющие подзаголовок «Хроника 20-х годов», и их продолжение «Год великого перелома», часть первая, затем часть вторая, в которой разворачиваются события весны 1930 года. Читатели сразу отметили, что в «Канунах», в первой части, в списке бедняков, вызванных на собрание бедноты Ольховской волости, есть и Африкан Дрынов, мужик из дальней деревни. Выслушав новые указания, поступившие из Вологодского губкома, Африкан Дрынов возмущается: опять инструкция временная, начальство временное, указания насчет хлебозаготовок тоже обозначены как временные. А надо бы понадежнее. Африкан Дрынов бедняк, но он против того, чтобы кредиты выдавать только бедноте. Он за общую справедливость. «Ведь передеремся сплошь, перепазгаемся». На коленях у Африкана Дрынова замызганная буденовка, значит, бывший красноармеец. И сомнений нет, что в «Канунах» действие происходит там же, где и в «Привычном деле», и Африкан Дрынов – отец Ивана Африкановича, но дальше в «Хронике 20-х годов» мы его уже не встретим. Главный герой «Канунов» и «Года велико го перелома» – молодой парень из Шибанихи Павел Пачин, который потом женится на своей любимой Вере Роговой, войдет в ее семью и будет уже зваться Павлом Роговым.
Мы знакомимся с Павлом в тот момент его жизни, когда он объявляет о своем решении строить мельницу. Причем не единоличную (не «кулацкую»). Павел мечтает о мельнице общественной, созданной на паях с другими крестьянами. Жизнь начала налаживаться, перед Павлом пример процветающей сельской маслоартели, именуемой также животноводческим товариществом. Теперь Шибанихе по силам поставить свою ветряную мельницу и не ездить молоть к соседям. Павлу по молодости никакие дурные предчувствия не ведомы, но люди постарше жмутся, чего-то недоговаривают, опасаются, что мельница не ко времени. А современный читатель, изучавший русскую историю XX века, совершенно точно знает: не надо, Павел! Не затевай ты эту мельницу. Именно за нее и пострадаешь. Раскулачат, арестуют, семью погубишь!.. Но не докричаться из нашего времени ни в какое прошлое.
«Хроника 20-х годов» ведет читателя из Шибанихи в Ольховку, из Вологды в Москву, в кабинеты Сталина, Калинина, Кагановича. Споры на самом верху, разговоры в крестьянских избах. И повсюду что-то неясное, пугающее своей неясностью, неведением, что же будет завтра. И наверху, и внизу.
Белов пишет народную трагедию, задаваясь среди других мучительных вопросов и таким: что́ могли понимать в происходящем вокруг них и с ними люди, жившие в те страшные времена, русские крестьяне, русские интеллигенты? Перед читателем «Канунов» и «Года великого перелома» проходят попытки самых разных людей разобраться хотя бы в логике наблюдаемых ими событий и действий власти. Член партии председатель волисполкома Лузин поддерживает, как ему кажется, правильный, ленинский план кооперации в деревне – и это для него добром не кончится. Дворянин Прозоров арестован за антисоветскую пропаганду, а он всего лишь пересказал крестьянам статью из «Комсомольской правды» о перегибщиках и тем самым помешал активисту Сопронову конфисковать у Павла Рогова мешки с ячменем. По логике Прозорова ему как представителю класса «эксплуататоров», «классовому врагу», допустим, и положено сидеть в тюрьме. Но вместе с ним в одной камере оказался простой крестьянин, представитель трудового народа, ради счастья которого и совершалась революция. И туда же может попасть сельский активист за перегибы. Прозоров приходит к выводу, что большевики говорят одно, а делают другое. Конечно, террор гарантирует им всеобщий страх и повиновение, но если начать разбираться, против каких слоев населения проводится «революционный террор», получается полный абсурд. Однако, как начинает догадываться Прозоров, кто-то все же дирижирует этой свистопляской.
Хаос как метод управления страной, как государственная система… Так Белов пытается ответить на вопрос, почему народ в те годы растерялся, не смог сопротивляться. Или действовал, как старики из Шибанихи, которые подают жалобу на бесчинства Сопронова и каравай с расшитым полотенцем уполномоченному Меерсону, чьи приказы Сопронов исполняет. Нет, не зря в те годы все было временным: все правила, все требования. Этим, как мы помним, и возмущался бедняк Африкан Дрынов. Очередная новая директива, отменяющая прежнюю, – и вот уже арестован ненавидимый всей деревней Сопронов, его уводят под конвоем со связанными руками. Конечно, Павел Рогов, увидев это, может поверить, что в жизни наступило облегчение. И только самые недоверчивые будут чесать затылки: «Надолго ли? Одно в этом деле голове круженьё». Правы оказались недоверчивые. В третьей части «Года великого перелома» Игнаха Сопронов возвращается в Шибаниху. В свое время, когда Игнаху еще не сажали в тюрьму, а только исключили из партии, этого исключенного послали организовывать колхозы: организуешь – получишь обратно партийный билет. Так что и теперь Сопронов без дела не останется.
В третьей и четвертой частях «Года великого перелома», опубликованных в журнале «Наш современник» в 1994 году, все еще длится тридцатый год. Белов пишет в финале четвертой части: «По Сталину, год великого перелома начинался в двадцать восьмом. На самом деле не закончился он ни в двадцать девятом, ни в тридцать первом…» Писатель считает свою крестьянскую эпопею не законченной.
И есть там персонаж, на которого стоит обратить внимание современному читателю. Жизнелюбивый и беззаботный Микуленок, Николай Николаевич Микулин, председатель сельсовета. Казалось бы, вот кому не сносить головы при таком хаосе. То он казенную печать потеряет, то поручение насчет проработки в Шибанихе тезисов ЦК и контртезисов оппозиции не выполнит. Но снимают с работы дельного Лузина, арестовывают за перегибы Сопронова, а Микуленок не только не пропал – он сделался районным начальником, заврайколхозсоюзом, ходит на службу «в пиджаке с партбилетом» и опять ни за что не отвечает, ни над чем всерьез не задумывается. Узнаёте знакомый современный тип деятеля? Время хаоса, время абсурда формирует очень нужный организаторам абсурда персонаж. Такие люди принимают обман всей душой, потому что им нравится быть обманутыми. Спокойнее жить, не надо ни бороться, ни думать. Пожалуй, до «Канунов» и «Года великого перелома» в русской литературе еще не встречался такой человеческий тип или, вернее сказать, такая мутация человеческой личности под воздействием сил абсурда.
Мы прощаемся с Павлом Роговым в Печорской губе, куда пароход доставил в переполненных трюмах «живые дрова истории», ссыльных, раскулаченных. Изнуренные люди куда-то ползут и бредут от травянистого берега. И ползет вместе с ними восьмилетняя девочка. «Дуня не знала, куда и кто ее влечет, но ползла, двигалась. Трава перед глазами ее закончилась, высокие ивы тоже. Она ползла теперь между каких-то кочей. Ее обессиленные ручки не чувствовали болотную влагу. И захотелось Дуне лечь и уснуть в этой мшистой перине, но перед глазами ее вдруг загорелась желтая капелька вроде брошки. Дуня губами дотянулась до этой янтарной брошки. «Брошка-морошка, брошка-морошка», – все запело внутри восьми летней Дуни. Животворная мякоть еще не растаяла у нее во рту, а вторая ягодка, намного крупнее первой, сама так и просилась в рот, потом третья, а после третьей девочка перестала считать. Она ползла и ползла, как птичка ловила ртом янтарные крупные ягоды, и силы возвращались к Дуне, такие силы, что она уже пробовала встать на коленки…»
Потом Дуня соберет горсточку ягод и, преодолевая неудержимое желание съесть эти желтые мягкие комочки, понесет ягоды отцу, братьям.
Не много отыщется в современной прозе страниц, исполненных такой трагической силы…
Почему ворвался между «Канунами» и «Годом великого перелома» роман Белова «Всё впереди»? Ответом на этот вопрос может стать время публикации романа. 1985 год. Снова начинается в нашей истории что-то непонятное, кого-то обнадеживающее, кого-то пугающее. А каковы итоги прожитых семи десятилетий? Герой романа Медведев размышляет о самом тревожном симптоме возможного развала государства – о распаде связей между людьми. Медведев – коренной москвич, в его роду были и бояре, и купцы, и священники, и крестьяне. Но вот от его ученика Жени Грузя, рано погибшего, подававшего большие надежды, тянется ниточка все в те же места, на Русский Север. Он из украинской крестьянской семьи, из тех ссыльных украинцев, о судьбе которых рассказано в «Годе великого перелома».
В романе «Всё впереди» Грузь гибнет по своей вине. Он нарушил приказ своего научного руководителя Медведева и в одиночку занялся наладкой сверхсекретной установки. Но Медведев не способен выкручиваться, а тем более перекладывать вину на погибшего. Для него судебный приговор – искупление, без которого дальнейшая жизнь была бы невозможна. После гибели Грузя, после долгих лет тюрьмы происходит духовное преображение Медведева, о чем уже шла речь в начале предисловия. Медведеву открывается бесцельность веры в технический прогресс, которая стала чем-то вроде суррогата религии. В 1985 году такое отношение к высокочтимому прогрессу не могло не вызвать негативных откликов о романе «Всё впереди» – и возмущенных, и иронических. Но через семь лет, в 1992 году, на Конференции ООН по окружающей среде и развитию заговорили о кризисе всего мирового технического прогресса, превращающегося в угрозу всему живому на Земле. Писатель оказался провидцем.
«Всё впереди» – политический роман. Здесь самое интересное – размышления Медведева, записки Жени Грузя. Непрочность современной семьи – это государственная проблема. По убеждению Медведева, «чтобы уничтожить какой-нибудь народ, вовсе не обязательно забрасывать его водородными бомбами. Достаточно поссорить детей с родителями, женщин противопоставить мужчинам». В поисках истины Медведев анализирует отношение современного человека к будущему. Эти поиски и дали название роману. Всё впереди – это и иллюзии отдельного человека, и надежды людского множества, и способ обмана, применяемый в политике.
Медведев в романе Белова размышляет о неправомерности общепринятого отношения к жизни: настоящего, по сути, не существует, настоящее лишь краткий миг между прошлым и будущем. Это отношение звучит и в известных строках Валерия Брюсова: «…не живи настоящим: только грядущее – область поэта». Меж тем идеализация будущего гораздо опаснее, чем идеализация прошлого. Идеализируя будущее, человек ежеминутно отрекается от своего настоящего, а значит, от самого себя.
…В повести «Привычное дело» бабка Евстолья рассказывает внукам их любимую пошехонскую сказку. Пошехонцы ржи не сеяли, одну репу. Крапиву постным маслом поливали, чтобы у домов не росла.
Географически Пошехонье располагается на реке Шексне (Шехоне), ныне оказавшейся на дне Рыбинского моря. Литературное Пошехонье куда шире. Это и знак отсталости, глухомани, может прозвучать с презрением. Кому как! Потому что Пошехонье – исток классики русского юмора, особый склад ума, своя манера подмечать и выставлять людские недостатки, веселая удаль, умение подшутить и над самим собой. Мы это пошехонство видели в характере Ивана Африкановича. «Со смехом многое понимается», – сказал Василий Шукшин, в смехе которого много общего с Беловым. Вообще в юморе всегда ярко выражены национальные черты. Смешон Иван-дурак в русских сказках, но Пришвин сравнивал его с Дон Кихотом, над которым ведь тоже потешались.
У Белова есть повесть «Целуются зори». История поездки трех современных пошехонцев в город передана с самыми невыгодными для них подробностями, они то и дело попадают в дурацкое положение. Причем рассказано-то все с их слов. Но вот уж где смех помогает подметить такие детали современной городской жизни, до которых никогда не добираются популярные писатели-юмористы! Эту разницу между понятиями смешного определил Гоголь. Он писал о смехе: «Возвратим смеху его настоящее значенье! Отнимем его у тех, которые обратили его в легкомысленное светское кощунство над всем, не разбирая ни хорошего, ни дурного!»
Вологодские бухтины Белова были опубликованы год спустя после «Плотницких рассказов» и воспринимались тогдашним читателем как продолжение: сначала плотницкие рассказы, а потом бухтины печника. Полностью Белов дал такое название: «Бухтины вологодские, завиральные, в шести темах. Достоверно записаны автором со слов печника Кузьмы Ивановича Барахвостова, ныне колхозного пенсионера, в присутствии его жены Виринеи и без нее». Вот послушайте, как привирает Барахвостов. Было дело, выручил он свой колхоз, спас от волков. Выступил на собрании и предложил установить для волков подкормку: резать по четыре овцы в день и выдавать волкам бесплатно. Собрание проголосовало. И больше никаких хлопот, волки успокоились. В свои бухтины Барахвостов умудряется уложить и бытовые темы, и исторические события, и сатиру на современные нравы. В 90-х годах Белов написал продолжение «Бухтин вологодских, завиральных».
Кроме Белова-юмориста, Белова-сатирика, есть еще и Белов – детский писатель, автор сказок, рассказов о животных, многие из которых включены в школьные хрестоматии для чтения. В театрах России идут пьесы Белова «Над светлой водой», «Сцены районной жизни», «Бессмертный Кощей», «Семейный праздник»… Такое стремление работать в самых разных жанрах – в традиции русской литературы.
В одном из интервью Василия Ивановича Белова спросили, что самое главное в работе писателя. Он ответил теми же словами, что и Олеша Смолин в своих рассуждениях о жизни: «Без совести никакой литературы нет». Писатель верит в нравственные силы России: «Нравственный закон универсален, и он один на всех. Величайшее чудо состоит в том, что человек, живший по уму и по совести в незапамятные времена, скоро на ходит путь и к нашему сердцу поверх любых барьеров. В преемственности нравственной традиции заключается неубывающий духовный капитал человечества, его уникальное достоинство. Но в отдельном человеке нравственность созидается каждый раз наново, и никто не пройдет за нас путь, назначенный нам».
Ирина Стрелкова
Привычное дело
Повесть
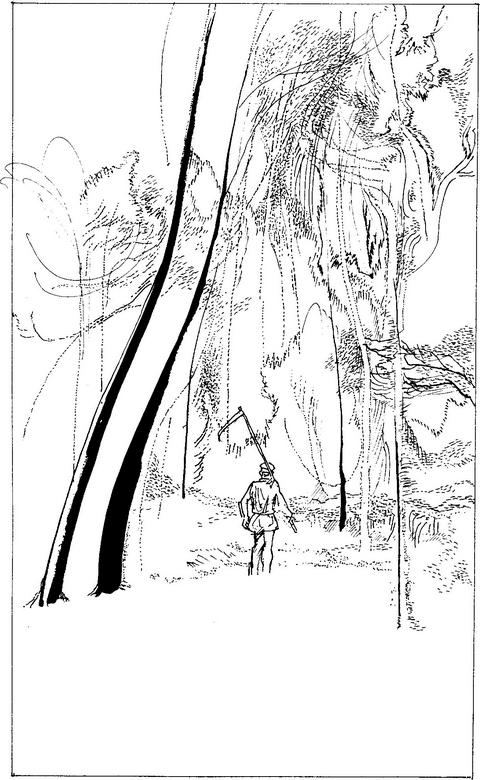
Глава первая
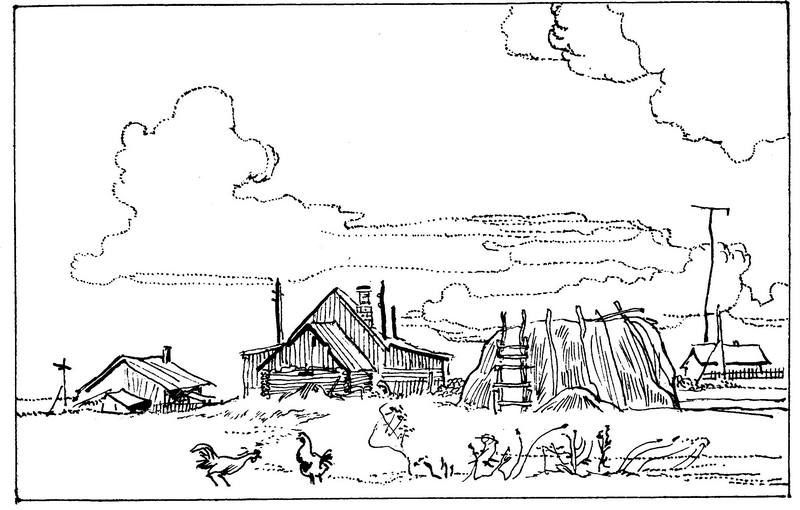
1. Прямым ходом
– Парме-ен? Это где у меня Парменко-то? А вот он, Парменко. Замерз? Замерз, парень, замерз. Дурачок ты, Парменко. Молчит у меня Парменко. Вот, ну-ко мы домой поедем. Хочешь домой-то? Пармен ты, Пармен…
Иван Африканович еле развязал замерзшие вожжи.
– Ты вот стоял? Стоял. Ждал Ивана Африкановича? Ждал, скажи. А Иван Африканович чего делал? А я, Пармеша, маленько выпил, выпил, друг мой, ты уж меня не осуди. Да, не осуди, значит. А что, разве русскому человеку и выпить нельзя? Нет, ты скажи, можно выпить русскому человеку? Особенно ежели он сперва весь до кишков на ветру промерз, после проголодался до самых костей? Ну, мы, значит, и выпили по мерзавчику. Да. А Мишка мне говорит: «Чего уж, Иван Африканович, от одной только в ноздре разъело. Давай, – говорит, – вторительную». Все мы, Парменушко, под сельпом ходим, ты уж меня не ругай. Да, милой, не ругай. А ведь с какого места все дело пошло? А пошло, Пармеша, с сегодняшнего утра, когда мы с тобой посуду пустую сдавать повезли. Нагрузили да и повезли. Мне продавщица грит: «Свези, Иван Африканович, посуду, а обратно товару привезешь. Только, – грит, – накладную-то не потеряй». А когда это Дрынов накладную терял? Не терял Иван Африканович накладную. «Вон, – говорю, – Пармен не даст мне соврать, не терял накладную». Свезли мы с тобой посуду? Свезли! Сдали мы ее, курву? Сдали! Сдали и весь товар в наличности получили! Так это почему нам с тобой выпить нельзя? Можно нам выпить, ей-богу, можно. Ты, значит, у сельпа стоишь, у высокого-то крылечка, а мы с Мишкой. Мишка. Этот Мишка всем Мишкам Мишка. Я те говорю. Дело привычное. «Давай, – говорит, – Иван Африканович, на спор, не я буду, – грит, – ежели с хлебом все вино из блюда не выхлебаю». Я говорю: «Какой ты, Мишка, шельма. Ты ведь, – говорю, – шельма! Ну кто вино с хлебом ложкой хлебает? Ведь это, – говорю, – не шти какие-либо, не суп с курой, чтобы его, вино-то, ложкой, как тюрю, хлебать». – «А вот, – говорит, – давай на спор». – «Давай!» Меня, Пармеша, этот секрет разобрал. «На что, Мишка меня спрашивает, на что, спрашивает, на спор идешь?» Я и говорю, что ежели выхлебаешь не торопясь, так ставлю еще одну белоглазую-то, а ежели проиграешь, дак с тебя. Ну, взял он у сторожихи блюдо. Хлеба накрошил с полблюда. «Лей, – говорит. – Большое блюдо-то, малированное». Ну я и ухнул всю бутылку белого в это блюдо. Начальство, какое тут изладилось, заготовители эти и сам председатель сельпа Василей Трифонович глядит, затихли, значит. И что бы ты, Парменушка, сказал, ежели этот пес, этот Мишка, всю эту крошенину ложкой выхлебал? Хлебает да крякает, хлебает да крякает. Выхлебал, дьявол, да еще и ложку досуха облизал. Ну, правда, только хотел он закурить, газетку у меня оторвал, рожу-то и повело у него; видно, его и прижало тутотка. Выскочил из-за стола да на улицу. Вышибло его, шельму, из избы-то. Крылечко-то у сельпа высокое, как он рыгнет с крылечка-то! Ну да ты тут у крылечка и стоял, ты его видел, мазурика. Заходит он обратно, в лице-то кровинушки нет, а хохотнул! У нас, значит, с ним конфликт. Все мненья пополам разделились: кто говорит, что я проспорил, а кто говорит, что Мишка слово не выдержал. А Василей-то Трифонович, председатель сельпа-то, встал на мою сторону да и говорит: «Твоя взяла, Иван Африканович. Потому как выхлебать-то он, конешно, выхлебал, а в нутре-то не удержал». Я Мишке говорю: «Ладно, шут с тобой! Давай пополам купим. Чтобы никому не обидно было». Чего? Ты что, Пармен? Чего встал-то? A-а, ну давай, давай. Я тоже с тобой побрызгаю за компанию. За компанию-то оно, Пармеша, всегда… Тпрры! Пармен? Кому говорят? Тпрры! Ты, значит, меня не подождал, пошел? Я тебя сейчас вожжами-то. Тпрры! Будешь ты знать Ивана Африкановича! Ишь ты! Ну вот и стой по-людски, где у меня, эти… пуговицы-то… Да, кх, хм.
Нам недолго погулять,
А только до девятого.
Оставайся, дорогая,
Наживай богатого.
Вот теперь поехали, поехали с орехами, поскакали с колпаками…
Иван Африканович надел рукавицы и опять уселся на груженные сельповским товаром дровни. Мерин без понукания в бок сдернул прикипающие к снегу полозья, он споро волок тяжелый воз, изредка фыркал и прядал ушами, слушая хозяина.
– Да, брат Парменко. Вон оно как дело-то у нас с Мишкой обернулось. Ведь налелькались. Налелькались. Пошел он в клуб к девкам, девок-то тут у сельпа побольше, какая в пекарне, какая на почте, вот он и пошел к девкам-то. И девки все экие толстопятые, хорошие, не то что у нас в деревне, у нас-то все разъехались. Весь первый сорт по замужьям разобрали, остался один второй да третий. Дело привычное. Я говорю: «Поехали, Миша, домой», – нет, к девкам пошел. Ну, дело понятное, мы тоже, Пармеша, были молоденькие, это уж теперь-то нам все сроки вышли и соки вытекли, дело привычное, да… А как думаешь, Парменко, попадет нам от бабы-то? Попадет, ей-богу, попадет, это уж точно! Ну, ее бабье дело такое, ей тоже надо скидку делать, бабе-то, скидку, Парменко. Ведь у ее робетешек-то сколько? А у ее их, этих клиентов-то, чур будь, ей тоже не мед, бабе-то, ведь их восемь… Али девять? Нет, Пармен, вроде восемь… А с этим, который… Ну, этот, что… которой в брюхе-то… Девять? Аль восемь? Хм… Значит, так: Анатошка у меня второй, Танька первая. Васька за Анатошкой был, первого мая родила, как сейчас помню, за Васькой Катюшка, после Катюшки Мишка. После, значит, Мишка. П-п-погоди, а Гришку куда? Гришку-то я и забыл, он-то за кем? Васька за Анатошкой, первого мая родился, за Васькой Гришка, после Гришки… Вот ведь, унеси леший, сколько накопил! Мишка, значит, за Катюшкой, за Мишкой Володя еще, да и Маруся, эта меньшуха, родилась в межумолоки… А перед Катюшкой-то кто был? Значит, так, Анатошка у меня второй, Танька первая, Васька первого мая родился, Гришка… А, шут с ним, все вырастут!
Нам недолго погулять…
А только до девятого…
Тпрры, стой, Парменко, тут нам потихоньку надо, как бы не окувыркнуться.
Иван Африканович слез на дорогу. Он с такой серьезностью поддерживал воз и дергал за вожжи, что мерин как-то даже снисходительно, нарочно для Ивана Африкановича замедлил ход. Уж кому-кому, а Пармену-то была хорошо известна все эта дорога…
– Ну, вот так, давай, вроде проехали мостик-то, – приговаривал ездовой. – Нам бы только с тобой накладную-то не ухайдакать, накладную-то… А ведь я тебя, Парменко, еще вот каким помню. Ведь ты тогда еще у матки титьку сосал, вот я тебя каким помню. И матку твою помню, звали Пуговкой, до того мала была да кругла, сгонили покойную головушку на колбасу, матку-то. Я, бывало, на ней за сеном ездил в Масленицу, на старые стожья, дорога-то была вся через пень-колоду, дак она, матка-то твоя, как ящерка с возом-то, где ползком, где скоком, до того послушна была в оглоблях. Не то что ты теперешной. Ведь ты, дурак, и не пахивал, и в извозе дальше сельпа не езживал, ты ведь одно вино да начальство возишь, у тебя жизнь-то как у Христа за пазухой. Я ведь тебя еще каким помню? Ну, конешно дело, тебе тоже досталось. Помнишь, как семенной горох возили, а ты из оглобель-то вывернулся! Да как мы тебя, прохвоста, всем миром из канавы на ноги ставили? А ведь я тебя еще вот эконьким помню-то, – бывало, бежишь по мосту весь празднишной, дак копытка-ти у тебя так и брякают, так и брякают, и никакой-то заботушки у тебя тогда не было. А теперь что? Ну, возишь ты вина вдоволь, ну там кормят тебя, поят, а дальше что? Вот сдадут тебя тоже на колбасу, в любой момент могут, а ты что? Да ничего, пойдешь как миленькой. Вот ты говоришь, баба. Баба, она, конешно, баба и есть. Только у меня баба не такая, она и отряховку даст кому хошь. А мне ни-ни с пьяным. Пьяного она меня пальцем не тронет, потому что знает Ивана Африкановича, век прожили. Тут уж, ежели я выпил, мне встречь слова не говори и под руку не попадай, у меня рука кому хошь копоти нагонит. Верно я говорю, Пармен? То-то, это уж точно я говорю, это уж как в аптеке, нагоню копоти. Чево?
Нам недолго погулять,
А только до де…
Я говорю, что Дрынова хто зажмет? Нихто Дрынова не зажмет. Дрынов сам кого хошь зажмет. Куда? Это ты куда, дурак старый, воротишь-то? Ведь ты не на ту дорогу воротишь! Ведь мы с тобой век прожили, а ты, понимаешь, куда воротишь? Это тебе домой дорога-то, что ли? Это тебе дорога не домой, а на вырубку. Я тут сто раз ездил, а тебе… Что? Я тебе полягаюсь, я вот тебе полягаюсь! Ты дорогу лучше меня знаешь? Ты, прохвост, вожжей захотел? Нна! Нна, вот тебе, ежели так! Ступай куда велят, свой прынцып не отстаивай! Чего заоглядывался? Ну? То-то, дурак, иди куда велено!
Нам недолго погулять,
Ых, только до…
Иван Африканович отхлестал мерина и примирительно зевнул:
– Ишь ты, Парменко, как меня разморило-то. Мы с тобой сейчас домой прикатим, товар сдадим, самовар поставим. Распрягу я тебя либо бабе скажу, и пойдешь ты, дурачок, домой, в конюшню. Ведь ты дурак, Парменко? Вот и я говорю, что ты дурачок, хоть ты и умный мерин, а дурачок. Ничего-то в жизни не смыслишь. Ты вон свернуть хотел на другую дорогу, а я тебя восстановил. Восстановил я тебя на верную путь али не восстановил? То-то! А нам недолго погулять… Ты, дурак, чего опять остановился? Который раз останавливаешься. Ты домой не хошь? Отведаешь у меня еще вожжей, ежели! Вон и деревню видно, сдадим мы товар, самовар поставим, нам теперь что, нам теперь всё вчера до обеда. Дурак ты, Парменко, дурак, тебе домой неохота. Вон и деревня рядом, вон и трактор Мишкин. Что? Какая это деревня-то? Вроде не наша деревня. Ну. Ей-богу, не та деревня. Вот и сельпо есть, а в нашей сельпа нет, это уж точно, а тут сельпо. Вон и крылечко высокое. Мы ведь, Парменко, вроде бы тут и товар грузили? Хм. Право слово, тут. Пармен ты, Пармен! Нет ведь у тебя толку-то, ишь куда ты меня завез. Вот ведь куда нас повело. Парме-ен? Ну, теперь мы с тобой домой поедем. Вот, вот заворачивай-ко, батюшко! Ведь я тебе еще каким помню-то? Ведь ты еще маткину титьку губами дергал… Мы с тобой ходко… К утру дома будем, как в аптеке… Теперь мы, Пармеша, прямым ходом. Да, это… Прямым… Дело привычное.