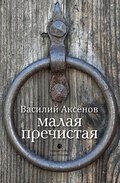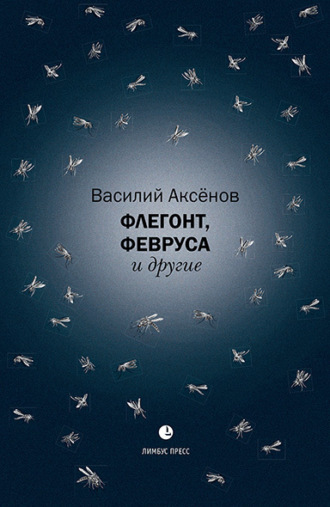
Василий Иванович Аксёнов
Флегонт, Февруса и другие
Ведёт Пётр Николаевич. Ведёт уверенно. Что касается направления, но не походки… шаг вперёд, полшага влево, шаг вперёд, полшага вправо, ну и назад, конечно, отступая… всё понятно: ветра и нет, зато рюкзак тяжёлый непомерно.
Глянул я бегло на Петра Николаевича, он глянул мельком на меня: мол, всё нормально, дорогой товарищ.
Передразнил его я мысленно:
ясен пень, как не нормально…
Смотрим по сторонам. Пётр Николаевич тут бывал и по службе, и как гость, тот явно с меньшим интересом, я здесь впервые – с любопытством.
Старинные крестовики и пятистенники перемежаются с двухквартирными брусовыми и щитовыми домами, построенными в бытность леспромхоза. Жилые чередуются с пустыми. Но и в пустых домах стёкла в окнах не выбиты, двери с петель не сняты, шифер с крыш не сдёрнут – не разграблены. Только тропинки к их воротам заросли травой-бурьяном. Заросли и палисадники. И огороды. Горько. Хоть и привыкли мы к такой картине – всё же сжимает сердце от тоски. Смириться лишь – не мы процессом управляем. Как говорят, будто – глобальный. Может, и так, возможно, и глобальный. Я, кроме России, нигде не бывал, а Петру Николаевичу, над какой заграницей он и пролетал, сверху разглядеть было непросто. Да и стреляли-то по ним – не до осмотров.
Возле жилых домов стоят мотоциклы разных моделей, с колясками и без колясок, мотоблоки, муравьи, трактора – либо китайский, либо «Беларус», где-то китайский вместе с «Беларусом» – и машины легковые, в основном – бэушные японки.
Ну и куда, вопрос, на них тут ездить? По деревне только. Да до речки. От Колдуньи до «соседнего» населённого пункта вряд ли меньше полусотни километров. Напрямую. И глухой тайгой, по бездорожью. Да по бору чистому и ровному – до ближайшей старицы, протоки или озера.
Куда-то ж ездят. Не сидят же в них, в машинах легковых, по праздникам и не любуются на них только в окно.
Но как сюда, тоже вопрос, доставили всю эту технику? Из Енисейска? Или Катайги?.. Как-то доставили – факт налицо. Не с неба же она сюда благополучно им свалилась. Один ответ на это – зимником. Зимником катаются, пожалуй, и до Маковского. И в другую сторону – до Айдары. А от Маковского-то, и тоже зимником, до Енисейска, а уж оттуда – хоть в Москву. На юг, на запад или на восток. На север – тоже только зимником, вдоль Енисея. И по Оби – там тоже можно.
Так обустроились тут люди, как они скажут, обнатурились, так вот живут: Бог высоко, но Он есть, начальство далеко, но его как будто нет. Не унывают: рот до ушей, кого б ни встретил, – ну, то есть нравится им тут. Как будто знают, что в чужих краях не ищут счастья. И знают, может.
Туристов мало, слава богу. Гораздо меньше, чем у нас. Ни одного пока мы не увидели.
Возле нежилых домов – кое-где – оставлены бывшими владельцами теперь уже вросшие в землю бороны, конные сенокосилки или грабли, сани, конные и тракторные, и телеги. И никто их не прихватывает, не сжигает и на металлолом не сдаёт. И не потому, предполагается невольно, что нет поблизости пунктов приёма, а потому, что нравы тут такие и устои: не тобой оставлено, не тобой и возьмётся.
Катится нам навстречу белобрысый мальчишка лет десяти или двенадцати, босой, в чёрных трусах и белой майке навыпуск, способом, который у нас в Ялани называется ездой под рамой, на взрослом старинном синем велосипеде «ЗиФ», каким-то чудом сохранившемся до этого времени, по мокрой от недавно прошедшего дождя песчаной дороге и поёт пронзительно:
«Эх, как бы дожить бы До свадьбы-женитьбы И обнять любимую свою!..»
Увивается за ним рой слепней – тепло стоит, ещё не вымерзли.
Ну, думаю.
Поравнявшись с нами, петь перестал, остановился. Встал ногами на землю, носом шмыгнул, пожелал нам, улыбаясь, доброго здоровья и, оседлав прежним образом велосипед, покатил дальше – туда, откуда следуем мы, – к речке.
Удилище черёмуховое кривое привязано к раме, на руле болтается эмалированный бидончик трёхлитровый – рыбачить собрался. Леска тонкая на удочке, как паутина, – ершей, ельцов да пескарей только ловить. Живцы, наверное, понадобились.
Ни хвоста, ни чешуи тебе, добытчик.
На поленнице, возле крытого коричневым листовым профилем дома, под развесистой берёзой сидит рыжий кот с презрительной, как у африканского узкорота, мордой. Над ним, на нижней ветке берёзы, возле прибитого к стволу скворечника, – ворона. Смотрит ворона на кота надменно сверху вниз. Кот косится на ворону. Мы прошли – на нас внимания они не обратили, на проезжих. Ну и мы о них забыли скоро.
Идём. Нагруженные.
Предвкушаем.
– Вон и дом тестя… кедр в палисаднике, – говорит, перед собой вперёд ткнув подбородком, Пётр Николаевич.
– У, – говорю. – Там, где рябина?
– Там и рябина, рядом с кедриком. Считай, дошли.
– Ну, слава богу.
– Ещё и этот… желомудник.
– Что-что?
– Кусты ещё там… жимолость по-нашему.
– Так и у нас.
– Как?
– Мудушки.
– У нас про ягоду, не про кусты.
– А – желомудник – я не слышал.
– От речки чуть не километр, если не больше… И я, – говорит Пётр Николаевич, – до этого не слышал. От Шуры знаю.
Идём.
И вот что следует отметить.
На подходе к дому тестя, метров за тридцать до него, мотать из стороны в сторону Петра Николаевича, как по команде, перестало, речь из плавной сделалась отрывистой, и в глазах, и даже в том, который глаукомой повреждён, любви ко мне и к миру поубавилось. Автопилот включает, знаю. У Шуры, у жены его, характер мягкий и уживчивый, покладистая, но в конкретных случаях становится неумолимой, бессердечной и бескомпромиссной.
Так вот он, Пётр Николаевич, возвращаясь от нечаянной компании с теми, с кем летал когда-то, или с одноклассниками, приближаясь к своему дому, включает автопилот, и посадка происходит в штатном режиме, с небольшими осложнениями.
Шура, как опытный диспетчер, сразу всё вычислит, конечно, но по голове благополучно приземлившегося сковородкой не побьёт, только объявит строгий выговор с занесением в личное дело и, покормив, уложит спать. Друг мой не буйствует – ни выпивший, ни трезвый, – и ей с ним просто совладать.
Много часов подобного налёту. За столько лет.
И я уверился давно – автопилот работает, аварий не случалось.
Вот и сейчас.
4
Приблизились мы к бордово-коричневому после дождя, добротному листвяжному пятистеннику, чуть скосившемуся в палисадник, – словно что-то обронил туда он и теперь, подслеповато вглядываясь, ищет. Под старым, уже замшелым шифером, с двумя белёными кирпичными трубами, с высокой подволокой и глубокой, судя по отдушинам, подклетью. С крашенными в зелёный цвет наличниками и ставнями. Ставни отпахнуты, прикреплены к стене крючками – чтобы их ветром злосно не мотало и имя́ стёкла в окнах не повыхлестало – то вдруг наддавит. Железные коленчатые кованые бауты, на которые запираются ставни. Ставни распахнуты, и бауты висят.
Заплот бревенчатый, пихтовый. Двустворчатые ворота с надвратицей, поросшей мхом. Дом выглядит надвратицы моложе. Возможно, так оно и есть.
Вплоть к правой верее, на которой прибит восьмиконечный медный крест, – высокая, под самую надвратицу, калитка. Через неё в ограду не заглянешь. И щели нет нигде, чтоб туда зыркнуть.
Но в этом мы и не нуждаемся.
Постучавшись и открыв самостоятельно калитку, вступили в крепость.
Весь двор ещё несколько лет назад был под общей крышей. Крышу, как сказал мне после Пётр Николаевич, разобрал на время тесть – чуток подгнила. Да и просушки ради, слеги отсырели – в тени всегда и без проветривания. Жить с открытой оградой понравилось, и восстанавливать общую крышу хозяин передумал.
В ограде – солнце стало проникать – и наросла уже мурава. Кудахчут куры. Утки крякают. Гуси гогочут. Свинья с малыми поросятами. Развалилась в тени под навесом. Ушами хлопает – от мух назойливых, не открывая глаз, отбивается. Бело-розовые поросята в брюхо плотно ей уткнулись – кормятся. Сколько их? Восемь или девять.
Считать нельзя – помрут. Так по примете.
Но сосчитал уже. И сразу-то, гляжу, не померли, так ладно.
Две собаки – эти, надеюсь, не помрут от счёту – на цепи. На нас из будок поглядывают, но, загремев цепью, с лаем не выскакивают – умные.
В центре ограды, поставив передние ноги на лиственничную чурку с вбитой в неё железной бабкой-наковаленкой для правки и отбивания косы, замер, как памятник, величавый бородатый козёл. Коз не видно. Если и есть они, где-то, наверное, гуляют. И где они гуляют, всё равно козлу, похоже: мы ему интереснее, чем его козы.
Коз раньше в наших краях не держали. Теперь стали заводить. Иной раз эту самовольную скотину и на поленнице, и на крыше дома можно обнаружить. Сейчас на крыше дома нет их – мы, подходили, их заметили бы. Словом, животное для нас пока ещё чудно́е, непривычное, воспринимаем их как диких, принятых нами временно на перевоспитание. Овцы наши по поленницам, заборам и крышам не скачут.
Дикие козы у нас есть. По сопкам лазят, воду пьют в Кеми. В Ялань не видел, чтобы заходили.
Встречают нас Артемон Карпович и жена его Улита Савватеевна.
С Артемоном Карповичем мы знакомы, виделись однажды.
Гостил он тогда у дочери и зятя в Енисейске – деньги обменивал по павловской реформе, флягу сотенных и полусотенных привёз, но припоздал, беда, маленько, тока полфляги поменял, и то по блату, по великому. И я там в это время оказался, из Петербурга только что приехал. Из дозволенного у Петра Николаевича ничего не было, была только водка. Артемон Карпович, не побрезгуете? Не побрезговал Артемон Карпович, и государственной, мануфактурной с нами отведал, попросил только, чтобы мы об этом Шуре не докладывали. Пообещали: ни за что, мол.
Кстати, как по его: не брезговать, а морговать. Не поморговал, значит, Артемон Карпович казённой. Выпив три стопки, на божественные темы разговор ловко вывел. Обозвал вскорости меня волком латинским и рылом скоблёным, несмотря на то что я с бородой, не такой, конечно, как у него, почти до пояса, и не такой, как у его козла, едва не до земли, но всё же – подбородок у меня не голый, не скоблёный.
После предположил смело Артемон Карпович, что лепший друг мой Велиар и что сподручниками у меня сплошь одни анчутки. И что он, Артемон Карпович Суханов, правильно держит веру православную, а я со всем своим родом в измену уклонился.
Я, по глупости своей и по незнанию его характера, возражать ему пытался, доводы разные приводил, на что он тут же мне категорически отвесил, что тот, кто спорит, тот и гомна коровьего не стоит. Ладно.
Петра Николаевича тесть не трогал, во всяком случае при мне, пока я с ними находился и не уехал на автобусе в Ялань, словами разными не обзывал – тот, мол, отъявленный бязбожник, на том и пробы ставить негде, и разговаривать с ём не о чем поэтому: летал по небу на вонючем самолёте, а Бога, дескать, он не видел – вот удивил дак удивил. Как будто Бог ему обязан объявиться, рапортовать: а вот и Я, Господь твой, Пётр Николаевич, любуйся, как жив-здоров, в чём не нуждашься ли? Ну, не глупец ли, а?.. Ещё какой, мол.
Это мне Пётр Николаевич, смеясь, рассказывал до этой ещё встречи. Так что заочно был знаком я с Артемоном Карповичем.
Чтобы такое говорил когда-нибудь он, Пётр Николаевич, – о том, что Бога в небе он не видел, – я не припомню. Вряд ли. Разве что в шутку, намекая на то, что Никита Хрущёв, аргументируя свои атеистические взгляды, нёс о Гагарине. Но дело родственное, пусть их, сами разберутся.
После Артемон Карпович выпил ещё три стопки никонской отравы, затем ещё три, пропел громко, но неразборчиво, поникнув головой, какой-то псалом, встал шатко из-за стола, прилёг на диван и уснул, похрапывая шумно.
И когда вернулась со службы его дочь, ей ничего докладывать не надо было. Всё поняла сама и сразу, но укорять отца, когда проснулся тот, не стала – и отошла, и воспитание ей не позволило.
Позже сказал мне Пётр Николаевич: «Он у них там самый главный». Поп не поп ли, мол, не знаю, у них не так, как, дескать, в нашей церкви.
Откуда он, Пётр Николаевич, знает, как в нашей церкви, трудно предположить – не заходил туда ни разу, даже на Пасху или Рождество. Ну, не привык я. То есть – он. И в детстве нас не приучали. Ну, это точно.
Не приучали в детстве и меня. И я, признаюсь, в церкви гость нечастый. Не мне судить поэтому – и не сужу.
– Вот это да! Вот это это! Это дак это!.. Тока намерился идти встречать, на речку тока что пойти собрался. Ох, проворонил, проморгал! – хлопнув себя по бёдрам, говорит Артемон Карпович. – Не рассчитал, думал, попожже вы объявитесь… Кто вас доставил-то так быстро?
– Трофим, – говорит Пётр Николаевич.
– А, Горченёв… ну, этот может – расторопный.
– Дозвонилась, значит, Шура, – говорит Пётр Николаевич, положив на траву спиннинг и снимая с себя кан и рюкзак. Как ни в одном глазу – кристально трезвый.
– Дозвонилась, – говорит Артемон Карпович. – Дозвонилась. Мы б и не знали, что севодни…
У главы села есть рация космическая, так – на няё и дозвонилась.
Ну, хорошо.
Ну, как не хорошо.
Артемон Карпович в бледно-красной, вылинявшей от частых стирок, в белую полоску, пестрядевой рубахе навыпуск, с воротом-стойкой, перетянутой красной опояской – для отпугивания бесов и всякой другой мерзости. Без пеньжака – тепло – поэтому. В широких чамбарах, холщовых штанах, заправленных с нависом в яловые сапоги. Сапоги чем-то крепко смазаны – гусиным жиром, может быть, – сверкают.
Сам он, Артемон Карпович, похож на Панджшерского Льва, только без этого, как там, паколя или пакуля – простоволос. А вот в дяревню ходит тока в тепке, и куда в гости. Ещё и на Карабаса-Барабаса смахиват маленько, того, киношного, которого сыграл актёр Этуш.
Густая, расчёсанная на прямой пробор, подобранная над ушами, чёрная, как смоль, когда-то, теперь с сильной проседью грива, длинная, с ещё большей проседью борода. Гривы касались ножницы – заметно, а бороды – похоже, никогда: чуть не до пояса доходит двумя клиньями. Усы, когда Артемон Карпович широко улыбается, не скрывают его крупных и подгнивших зубов. Непроницаемо чёрные, будто один зрачок, без радужки, глаза искрятся, словно уголья, – не подпалил бы что-нибудь случайно.
Роста Артемон Карпович среднего, сухопар. Подвижный. В могуте ещё старче, в силах, хоть и лет ему за восемьдесят с гаком. И дай бог ему здоровья. Сто лет ему – не предел.
Улита Савватеевна роста небольшого, полная, сбитая – так говорят про таких. Серо-зелёные раскосые глаза. Широколицая, скуластая. С остяцкой примесью. В длинном, чуть не до пят и в голубой цветочек, платье, в двух платках, оба цвятастые. Как купчиха. Лет семидесяти – семидесяти пяти. Тоже крепкая ещё женщина. Назвать её старухой язык не повернётся.
– Собаки – те у нас ничё, их не пужайтесь, смирные собачки, – говорит Артемон Карпович. – А вот ямана уберу, и уж готовился, да не успел… Этот задиристый, бодучий, и на людей исчё паршивец ки́датса. Вражи́на. Не тварь, а не́тварь. А уж какой женонеистовый… и не скажу… пусче ушкана, форы тому даст.
Сказал так и погнал козла еловым окосищем – с ручкой, но без литовки – на пригон. Не так-то просто справиться с ним – упирается, рогами стукнуть норовит.
– Я покажу те, я устрою! Вот обнаглел дак обнаглел! Исчё копырзиться тут вздумал – заупирался… Перед гостями вздумал нас позорить!.. Кого и кормим?! Асмодея.
Всё же загнав, закрыл за ним воротца. Козёл тут же закинул передние ноги на калитку и стал сердито всех оглядывать издалека – к своим рогам примеривая каждого.
– Нет уж, не выскочишь – и не пытайся, – говорит Артемон Карпович. – Никак, безмозглый, не протиснешься. Башка в прогал дурная не пролезет. Рога-то здря такие отрастил, это такую вон помеху… Мешки несите в дом, то тут, вдруг дож-то, и промокнут. Уля, ступай, готовь на стол, – распорядился Артемон Карпович.
– Да, Моня, всё уже готово, – говорит Улита Савватеевна. – Утку да гуся тока из печи не вынимала, чтоб не остыли, то, не в печи-то, оне скоро…
Моня, как объяснил мне после Пётр Николаевич, это ласкательно от Артемон. Уля – Улита, сам я догадался.
Почти что стих: Уля – Улита, Моня – Артемон, – долгую жизнь его читают наизусть, не надоест им. Без сомнений.
– Может, вы в баню наперёд отправитесь, ополоснётесь? – спрашивает Улита Савватеевна. – Или уж вечером – тогда? Я дров подкину, подтоплю.
– Вечером, – в голос отвечаем.
– Дак и устали, притомились, сразу-то в пыл, оно понятно, – соглашается Улита Савватеевна. И улыбается, глаза прищурив.
– Ну и не диво, что устали, – говорит Артемон Карпович. – Не ближний свет сюда доплыть, тут по прямой-то… кочергой не дотянуться.
Занесли мы рюкзаки в сени, в которых крепко пахнет черемшой, прошлогодней квашеной капустой и солониной и почему-то конной упряжью, хоть и не видно той нигде. Там же, в углу, чтобы проход не загораживали, каны, спиннинги и мешок с лодкой оставили.
Распахнул перед нами Артемон Карпович дверь. Отступив чуть в сторону, уважительно склонившись и указывая согнутой в локте рукой в горницу, пригласил нас войти.
Вступили мы в дом. Вслед за нами и хозяева.
Видит Артемон Карпович, что мы не крестимся, по отсутствию привычки, на образа, но молчит, вежливый и гостеприимный. После, возможно, и напомнит. Медовухи выпьет – не утерпит. С тем, что зять не крестится, смирился Артемон Карпович, стерпелся он и с тем, что родная и любимая дочь его, кровинушка, замужем за никонским бязбожником. Слышал я от него там, в Енисейске: «Раз уж жанились, дак уж чё, коли сошлись, куда таперича деваться? С ей поживёт, дак, может, образумится. Муж и жана… в одной упряжке: рванёшься в сторону – удёржит».
А вот меня обжёг он взглядом: мишень наметил. Раз заслужил-то…
На полу – дорожки самотканые – красивые.
В углах тёмные, старинные, и яркие, новописанные, старообрядческие иконы, украшенные браными, расшитыми по концам полотенцами, которые бабушка другого моего друга детства, Володи Чеславлева по прозвищу Охра, называла набожниками, – на трёх киотах. Оклады на иконах, медные и серебряные, в разводах патины – мерцают. Висят лампадки – теплятся. На небольшом столике лежат тяжело старинные книги в кожаных переплётах, с медными и серебряными застёжками. Вокруг стола деревянные скамейки, застеленные полосатыми половиками. На столе пир горой. Чашки и ложки деревянные. Керамические кружки. Вилок нет. Для нас особая посуда – для мирских. Мы это знаем, не в обиде. Из каких кружек пить медовуху, нам всё равно. Из каких чашек да какими ложками есть – нам безразлично, – еретики, бязбожники, никониане.
Помыв в закутке под рукомойником с каким-то самодельным мылом руки, вытерев их расшитым красными петухами полотенцем, пошли к столу.
Артемон Карпович прочитал молитву: «За молитв святых отец наших…» – поклонился и сел за стол благословенно.
Сели и мы, потомки кочевые.
Выпили по кружке свежей, парной, студёной медовухи. Но от второй, тут же предложенной нам Артемоном Карпычем, отказались – не новички, с коварством этого нектара мы хорошо знакомы и давно.
– Ну, тогда вечером.
– Согласны.
Перекусили.
Так, что из-за стола едва выползли. Разговорами нас Артемон Карпович пока не донимал. Дождётся вечера – тогда уж насладится. Так как поговорить в дяревне не с кем.
Два часа дня – время сатанинское. Пора вздремнуть, передохнуть. Заведено от веку, мол. Мы подчинились. Хотя и спать совсем нам сразу не хотелось, сытный обед всё же сморил, и Сатана нам даже не приснился – так крепко спали.
На брошенных на пол возле печи полушубках. Вместо дивана и кровати. Сами об этом попросили. Поуговаривала нас Улита Савватеевна занять приготовленные нарочно для нас пышные постели, поупрашивала, всё же сдалась. Уж как ей ни было при этом проти сердца.
Ясно.
5
Посетили мы с Петром Николаевичем баню.
Необходимо.
Не у себя дома – в гостях. После в постели чистые ложиться – не на заимке ночевать, не на рыбалке – и самому надо быть чистым. Не дети малые – понятно.
И как сказал нам в напутствие Артемон Карпович: «Следует, следует. После такого-то пути. Для тела надобно. И для души».
«Для тела – ладно. Для души-то?..»
«А то засалится, как воротник, – не отстирашь потом яё и не отмоешь».
Ну, как сказал, так и сказал. Мы согласились.
И как сказала нам Улита Савватеевна: «С устатку нужно и отмякнуть. Не пять минут сидели в лодке, присели-встали – заскорузли».
Оно и правда.
Пошли отмякнуть, заскорузлые.
С большей, чем я, охотой Пётр Николаевич – парильщик злостный. А я уж так, отметиться. Пыль лишь дорожную, как говорится, смыть, с меня и будет.
Банька по-белому, как оказалось, а не по-чёрному, как представлял я, – у староверов-то: коли уж всё как у отцов-столпов, по их завету, число в число и буква в букву, ни шагу в сторону, ни шагу назад, должно бы быть и в этом соответственно. И на тебе. И евон чё.
И тут, получается, двойные стандарты. Куда без них? Значит, и они, истинно верующие, без лукавства не живут. Не получается. Ну, ладно. Бог им судья.
Сие да будет сказано не в суд и не во осуждение, однако ж nota nostra manet, как пишет один старинный комментатор.
Бог им судья. Как и нам, грешным (ангелы, присяжные заседатели, всё о нас – и каждый вздох, и слово каждое – тщательно, в согласие или вопреки правде и разным наговорам бесов-обвинителей, взвесят на своих весах, и приговор нам всем будет объявлен; а подлежит обжалованию этот приговор, не подлежит ли – решит Судья, учтя какую-нибудь мелочь – кошку, собаку ли бездомную ты приютил когда-то или сдержал себя – не пнул их).
И свет, в конце концов, на бане клином не сошёлся, по-белому она или по-чёрному. Суть-то одна: сорок хворей вылечить одновременно и грехи в ней, в бане этой, смыть. Извека.
Вот и у них, у староверов.
Княгиню Ольгу тоже вспомнить… Лучших мужей древлянских разом в бане вылечила.
Так я подумал, направляясь к бане.
Ладная банька. Игрушечка. Как и все остальные постройки в хозяйстве. Образцово. Не из какого-то мендажника, из ровного, средней толщины и с крепкой, кремлёвой, как говорят здесь, не трухлявой (по спилу видно) сердцевиной осинника, не на скорую руку, мастерски срубленной в лапу, под крутой двускатной крышей, а та – под шифером зелёным, с одним оконцем небольшим, стеклопакетом.
Как кость, со временем становится осина. Когда не мочит-то её, под кровлей доброй, потом не сушит её – бесперечь.
Так про осину говорят.
И у меня в Ялани баня из осинника. И подтверждаю я: как кость. Никаким топором её не возьмёшь – любой отскакиват, как от жалеза.
С камнями в топке, мелкими, с кулак, – вокруг пески сплошные, камни где-то раздобыли, – пару поддать, плеснув на них воды, а то и квасу. Кому как нравится. Слышал, и пивом поддают. При мне такого не случалось.
Может, как техника, и камни с неба к ним попадали, кто знает? С Колдуньи станет…
С предбанником просторным, стены которого увешаны под потолком душистыми вениками – берёзовыми, пихтовыми, можжевеловыми и даже конопляными – на выбор.
Мне-то не выбирать. Без надобности. Висят красиво – оценил. Будь я художником, нарисовал бы; в стихах прославил бы, будь я поэтом. Натюрморт с вениками, например, как натюрморт с чесноком:
Стены увешаны связками…
Сходили благополучно. Без приключений.
Не обожглись, не угорели. С полка – в банях чего ведь только с мужиками не случается – на пол, намыленные, не соскальзывали. Хоть и коварной – для собственного потребления сготовленной, а не для алчущих волков никонианских; четыре рамки на ведро, и корпусных, не магазинных, исчё играюсчей, парно́й медовухи, на чём настоял категорически Артемон Карпович, и мы не сильно-то отказывались – выпили до этого, зайдя в стоящий на курьих ножках (от сырости и от мышей) амбар, по пол-литровой кружке: на ноги действует она сильнее, чем на голову. Известно.
«Думать вот не мешат она нисколько, даже, наоборот, тока подначиват, ну а ходить-то – исчё как, – сидя ещё за столом, размышлял Артемон Карпович о настоясчей, а не медовой браге, медовухе (без дрожжей она готовится, в отличие от браги, и без хмеля). – Оне, ходули-то твои, как не твои становятся, как нитяные или ватные; выпил яё, сиди, бяседуй… или приляг, поспи, а зря не шастай, людей и землю не смеши».
«Ну. Ясен пень», – с выводом тестя согласился Пётр Николаевич.
И я кивнул: мол, это так, и ни убавить, дескать, ни прибавить.
И он, Артемон Карпович, сказал – печать всему будто поставил:
«Ну дак а как! А так и есть. Оно не тока что, давно проверено».
И мы опять с ним согласились.
Ну а к тому же:
он, Пётр Николаевич, надев свою лётчицкую куртку, сразу после посещения амбара и перед тем как направиться в баню, пока мы с Артемоном Карповичем продолжали рассуждать о достоинствах только что отведанного напитка, настоясчего и сготовленного не для нас, никониан, а для собственного потребления, сходил зачем-то в огород. И что его в них, в огородах, привлекает? Что-то подсказывает мне…
Но не об этом.
Без Артемона Карповича.
Идти с нами отказался: он ещё утром, дескать, сполоснулся. Мы это слышали уже.
– Может, составите компанию? – всё же в который раз, из вежливости и уважения перед возрастом и степенью родства, спросил тестя вернувшийся из огорода Пётр Николаевич. – А то напарник мой боится веника…
– При чём тут веник? – сказал я, в упор приглядываясь к другу.
– Да ты не слушай, я шучу, – сказал Пётр Николаевич. – Знаю, что париться не любишь, – и мне зачем-то подмигнул здоровым глазом.
– Не успел исчё и замараться, – сказал Артемон Карпович, зубы щербатые в улыбке обнажив. – А так-то чё бы, и канешна. И тесно будет там втроём, не развернуться. Как курицам на шестке – усесться тока и не шавелиться, чтобы друг друга не спяхнуть. А мыться – как не шавелиться?.. Вы уж там как-нибудь одне, вдвоём вам будет послободней.
Хозяин – барин.
Мы пошли.
– Мыло, вехотки, тазики найдёте, – вслед нам сказал Артемон Карпович. – Всё в одном месте – на полкé. Баня – не раермаг, в ей не заблудишься.
Раермаг, как после друг мне объяснил, – это районный магазин универсальный.
– Найдём, – сказал Пётр Николаевич.
– Как не найдёте. На виду… И пемза есть, – сказал Артемон Карпович.
– Найдём и пемзу.
– Пятки-то потереть…
– Потрём и пятки.
– Ступайте. С Богом.
Я не парюсь. Не пристрастен. Сроду. Жар не люблю, не выношу. Поэтому предпочитаю Югу Север. Ни летним днём на улице и ни в любое время года в бане, даже зимой. Оказавшись в зной на солнце, в место тенистое стремлюсь попасть, а в натопленной до звону бане – скорее выскочить в предбанник.
После перенесённого энцефалита жара и вовсе мне заказана.
Вот и на этот раз – помылся быстро, сполоснулся, сижу себе расслабленно в предбаннике, с открытой на улицу дверью, вдыхаю свежесть предвечернюю да слушаю рассеянно, как мошка́, сбившись в клуб, мак толчёт под карнизом – едва и слышно.
Хорошо мне. На сердце тихо. И на душе радостно. О рыбалке предстоящей думаю. Щуку в мечтах трофейную тащу – не сорвалась бы… одну тащу, другую, третью. И от азарта чуть не затрясло. Со мной – обычно.
Так и инфаркт могу заполучить – не шутки.
За другой дверью – дверью в пекло, в геенну ли огненную – Пётр Николаевич то охает, то хрюкает, то всхрапывает жеребцом. Вроде один он там, а будто черти-банники его, расслабленного, скопом ублажают – шумно.
Ну не больной ли, а?..
В каком-то смысле.
Куртка его с потайными карманами висит здесь, в предбаннике. В баню он зашёл голым, как новорождённый. При мне. Вряд ли с собой пронёс. Хотя кто знает…
Дождался спокойно, без мучения жаром и паром, пока Пётр Николаевич вдоволь утешится – сначала берёзовым себя всласть накажет, потом пихтовым и, наконец, можжевеловым или конопляным веником похлещет своё тело, утомившееся за время поездки на танке от Ялани до Маковского и плавания от Маковского до Колдуньи.
Вышел наконец. В пар укутан, как в облако. Быстро облако рассеялось, и оголился Пётр Николаевич. Украшен, вижу, листьями и хвоей – густо налипли. Возле двери на лавочке пристроился. Молчит.
– Прогрел, – спрашиваю, – свои старые кости?
– Прогрел, – говорит, языком еле двигает – уморился.
– И охота так себя насиловать?
Отдышался чуть. И говорит:
– Как не охота?.. Это ж блаженство, не насилие.
– Ну, я не знаю…
– Нечего и знать. Кому насос, – говорит Пётр Николаевич, – кому пылесос, а кому стерляжий хрящик или корочка арбузная.
– У-у, – говорю.
Вроде как бредит – так упарился.
– Да-а, – говорю, – чего-чего, а этого не понимаю.
– Ну, – говорит Пётр Николаевич, – жизнь проживёшь, не всё поймёшь… И оно надо ли – всё понимать? Голова одна, пощадить её надо. Голову испортишь, чем есть будешь?
Оно и вправду.
Посидели в прохладе, помолчали каждый о своём, клюквенно-брусничный морс, оставленный для нас в предбаннике Улитой Савватеевной – чтоб остудиться с пылу-жару… ну и здоровье укреплят – через венчик из зелёной глазурованной крынки попили, остудились и здоровье укрепили.
Сразу и чувствуешь: и заскорузлости как не бывало. Отмякли. Я так, чуть-чуть, но друг мой знатно.
Сходил опять в пекло, смыл Пётр Николаевич, прежде чем одеться, налипшие на его тело листья и хвою.
«Не в постель же с этим мусором…»
Ну да.
Вышли из бани. Стоим среди ограды. На мураве. Роса не пала.
Тепло. Будто в разгаре лето, не к исходу. Вряд ли к утру похолодает. Заморозок не предвидится. По всем приметам. Ну и ладно. Он ни к чему нам, этот заморозок. В лодке от холода стучать зубами. Нам это надо? Нет…
Если ещё до речки завтра доберёмся: подозрительно добреет Пётр Николаевич, мутно слезится его глаукома. Так говорит он о себе:
«В потёмках я, как курица, ничё не вижу».
Начнёт смеркаться лишь, и он за руль уже не сядет, если поедет – только пассажиром.
Тянет лёгкий ветерок, с полудня – шелонник.
Вечереет.
Дружно кузнечики заверещали – пора пришла, не задержались. Несколько звёзд, будто бы горизонт проткнув, пробилось. Видя одна другую – перемигиваются. Луна взошла – недавно вынырнула из-за леса, как будто вытолкнул её кто, выдавил. Висит над речкой. Убывающая. Ещё луна, уже ли месяц. И небо гаснет. На западе, куда течёт неспешно тихая Кеть, оно уже не алое, не золотое, а оранжевое. На востоке – тёмно-сизое. Прямо над нами – изумрудное. Инверсионный след от самолёта – с запада на восток – плавно его сдувает к северу. И расширяется он. На глазах. Разорвёт, растянет скоро его ветром поднебесным на клочки, и те исчезнут с небосклона незаметно.
– Пассажирский, – говорит Пётр Николаевич. – По звуку. «Боинг».
Ему я верю.
– У, – говорю, – в Японию…
– Не факт. Там и Хабаровск, и Владивосток.
– Туда куда-то.
– Сахалин.
– И Магадан.
– И Петропавловск…
Географию – не только мира, но и в первую очередь Родины – знаем. И я, и Пётр Николаевич. Тот особенно, много где, в разных её краях и областях, за свою жизнь побывали. И уроки в школе даром для нас не прошли, учили нас хорошо, и учителя наши были замечательные. И любовь к Родине обязывает. И Родина великая, и любовь к ней большая.