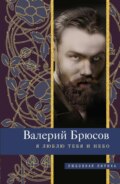Валерий Брюсов
Огненный ангел (сборник)
XV
19 октября
У меня голова кружится от тех открытий, которые я сделала. В первый раз в жизни я боюсь окончательных выводов. Мне страшно мыслить.
Сегодня я проснулась поздно и медлила вставать. Сознаюсь, мне страшно было встретиться с Лидочкой. Лидочка знала, что я вернулась домой поздно ночью, и могла думать, что ночь я провела у Модеста.
Вот почему мне стало очень не по себе, когда в столовой, где я пила кофе, ко мне подошла Лидочка.
– Наташа, мне надо говорить с тобой.
– После, моя девочка, я утомлена очень, у меня голова болит.
– Нет, нет, теперь.
Допивая кофе, я рассматривала Лидочку. Лицо ее было бледно, без следов слез, выражение глаз какое-то сухое и решительное.
Мы перешли в маленькую гостиную, и Лидочка здесь спросила меня:
– Знаешь, кто здесь был вчера?
– Где здесь?
– У нас.
– Кто же?
– Модест Никандрович.
– Что ж такого. Он не застал меня дома. Приедет другой раз.
Мне пришло в голову, не хочет ли Лидочка дать мне понять, что Модест, не застав меня дома, так сказать, уличил меня в неверности себе. Но Лидочка, с расчетом на свое торжество, продолжала, прямо глядя мне в лицо:
– Он был не у тебя. Он был у нас в доме тайно.
– Ты говоришь глупости. У кого же он был?
– У Глаши.
Это было абсурдно. Я стала расспрашивать. Лидочка рассказала, что она давно подметила какие-то странные отношения между Модестом и Глашей. Вчера, когда меня не было дома, Лидочка по разным признакам догадалась, что Глаша в своей комнате не одна. Лидочка стала следить и около полуночи видела, как Глаша черным ходом выпускала Модеста. Оба они что-то говорили очень оживленно, но вполголоса, и, уходя, Модест поцеловал Глашу в губы.
– Видишь, – с усилием сказала Лидочка, – ты его любишь… а он… обманывает тебя… с твоей горничной.
Рассказ Лидочки взволновал меня сильно, так что сердце начало у меня в груди колотиться, как соскочившее с пружины. Кое-как успокоив Лидочку, я ее отослала и позвала к себе Глашу.
С Глашей говорить пришлось недолго. Она после первых вопросов созналась и, по какому-то атавистическому влечению, повалилась мне в ноги.
Да, она любовница Модеста. Он ее уверил, что любит ее, а за мной ухаживает из чести (как не стыдно ему было повторять молчалинские слова!). Он обещал взять ее жить к себе и делал ей дорогие подарки. Возил ее кататься за город и поил шампанским, и потом «пользовался ее слабостью и доверчивостью». А я ничего не знала и не замечала!
Но вот что самое важное. Модест был у Глаши в ночь на 15 сентября, т. е. в ночь убийства. Правда, она сама проводила Модеста и закрыла за ним дверь еще раньше полночи и, возвращаясь к себе, слышала шаги Виктора Валерьяновича, который ходил взад и вперед по кабинету. Следовательно, убийство совершилось после того, как Модест вышел из нашей квартиры. Но разве не мог он переждать несколько времени на лестнице и вернуться с помощью заранее подобранного ключа? Эта мысль сразу явилась мне и засела у меня в мозгу, словно отравленная стрела.
«Современный человек должен уметь все: писать стихи и управлять электрической машиной, играть на сцене и убивать», – припомнились мне слова Модеста, записанные в этом дневнике.
Что до Глаши, то ей, кажется, такие подозрения не приходили в голову. Но, по ее словам, Модест был очень напуган, узнав об убийстве, тотчас вызвал ее и строго запретил ей говорить кому бы то ни было о том, что был у нее накануне… Глаша исполнила его требование, но совесть ее мучит и ей хочется пойти все «открыть» следователю.
Разумеется, Глаша рассказывала мне все это длинно и сбивчиво, прерывая слова всхлипываниями и рыданиями. Я поняла теперь, почему Глаша все время, со дня убийства, ходит расстроенной и подавленной. Чтобы хранить большую тайну, надо иметь душу воспитанную: простым существам это не под силу.
Что я могла ответить Глаше? Я ей сказала, что доносить на Модеста, конечно, не надо. Что он поступил дурно, соблазнив бедную девушку, но к убийству, во всяком случае, не причастен, и было бы зло впутывать его в это дело. В заключение я обещала Глаше, что поговорю об ней с Модестом и заставлю его позаботиться об ней как должно. С Глашей мы расстались друзьями.
О Модесте мне еще надо будет думать, и много думать. Но чего же теперь стоят все его слова о верности и об изменах? Как негодовал он на то, что я ему «изменяю». Ах, люди!
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей!
XVI
21 октября
Я получила ужасное письмо от Володи. Было в его словах столько отчаянья, что я поехала к нему тотчас. Но последнее время все мои свидания кончаются плохо.
Неудачи начали меня преследовать еще на улице.
Я, разумеется, не могла взять нашей лошади и вышла пешком. Через несколько шагов догнал меня какой-то человечек и стал, кланяясь, что-то говорить.
– Я вас не знаю, – сказала я, – что вам надо?
– Помилуйте-с, – возразил человечек, – я дяденька горничной вашей, Глаши, Сергей Хмылев, изволили припомнить?
Узнав, с кем я имею дело, я сказала твердо:
– Я вас просила меня оставить. Если вы не отстанете, я позову городового.
– К чему тут полиция, – возразил Хмылев, – это дело деликатное, его надо без посторонних свидетелей проводить.
Я чувствовала, что в руках этого человека конец нити из запутанного клубка событий. Многое ли ему известно, я не знала, но была убеждена, что что-то известно. Я медленно шла по тротуару, а Хмылев семенил за мной и говорил:
– Напрасно вы нами презираете, Наталья Глебовна. Мы люди маленькие, но на маленьких людях мир стоит. Что я у вас прошу: позволения явиться и представить некоторые документики и соображения, – всего только. Вы то и другое рассмотрите и решите, стоит ли оно, чтобы заплатить следуемую нам сумму.
– Один раз я уже отказала вам наотрез, – произнесла я отрывочно. – Почему же вы не представили ваших документов в другое место? Видно, они не многого стоят!
– Эх, барыня! Представить документики не долго. И будет то, может быть, кому-нибудь и очень неприятно. Но ведь мне-то никакой из того прибыли не будет, или самая малая… А что я с вас прошу? При вашем капитале двадцать тысяч для вас гроши-с, не заметите, если отдадите…
Я сказала медленно:
– Хорошо, я подумаю. Приходите через неделю.
– Нет-с, – возразил Хмылев, – через неделю поздно-с будет. Дольше трех дней ждать никакой возможности не имею.
– Как угодно, – сказала я.
Тотчас я села в пролетку ближайшего извозчика и приказала ехать, не слушая, что мне еще говорил Хмылев. Но в душе я досадовала сама на себя и не знала, хорошо ли я поступила, отказав Хмылеву. Может быть, следовало рассмотреть его «документики». Я, впрочем, надеялась, что он еще раз явится ко мне.
Вдруг на повороте из Настасьинского переулка какой-то человек прыгнул с тротуара, замахал руками и остановил моего извозчика. Я узнала своего рыжего Дон-Жуана.
– Донна Анна! Донна Анна! – восклицал он. – Я брошусь под колеса, если вы не отзоветесь. Я помешался с того дня, как встретил вас. Я не могу без вас жить.
Редкие прохожие останавливались и смотрели на скандальную сцену.
– Etez-vous fou, monsieur, je ne vous connais pas[294], – сказала я почему-то по-французски.
Извозчик хлестнул лошадь. Незнакомец минуты две еще бежал за моей пролеткой, потом отстал.
Настроение мое окончательно испортилось. То была уже не досада, а какая-то злоба на себя и на весь мир…
В тот же день
Приезжала Вера, прервала меня, сидела час, говорила глупости. Продолжаю.
Володю я нашла в состоянии крайнего возбуждения. Он исхудал, словно после жестокой болезни. С горящими зрачками он имел вид маленького пророка.
В чем дело? Ах, он узнал все, и окончательно, о моих отношениях к Модесту; ему даже передали мое письмо к Модесту, которое тот ухитрился где-то потерять.
На этот раз сведения Володи оказались столь точными, что мне осталось только удивляться, кто мог ему сообщить их. Одно я могу предположить, это – что в доносе участвовал сам Модест. Чтобы избавиться от соперника, он известил его о самом себе и сам подослал ему одно из моих писем (не могу я поверить, что Модест «потерял» его!). Такой дьявольский план достоин черной души Модеста.
Во всяком случае, отпираться было невозможно. Я сказала Володе прямо, что он мне нравится, но что мне его маленькой души мало. Что слишком многого во мне он не может понять. Что во многом он не может быть моим сотоварищем. Он нежен, робок, правдив, добродетелен. Это все мне нравится. Но, кроме того, я люблю мужскую силу, люблю страсть, люблю исхищренность и изысканность чувств. Если он хочет ставить точки над i, я – развратна. Такой меня создал бог или жизнь, и я хочу оставаться сама собой. Мне как спутник, как друг, как любовник нужен человек, который был бы способен меня понимать всю, отвечать на все запросы моей души. Если нет такого одного, мне нужно двоих, троих, пятерых, почем я знаю сколько! Пусть он, Владимир, усложняет и возвышает свою душу, пусть он дорастает до меня, пусть он одолеет меня в поединке любви – и я буду рада оказаться побежденной. Но поддаваться или притворяться побежденной я не хочу.
Приблизительно так я говорила Володе. Он тихо рыдал. Мне было его очень жалко и хотелось поцеловать в его темную голову, в милый, любимый мною затылок. Но я себя преодолела, решив высказать всю правду.
– Итак, вы играли мною, – сказал между рыданиями Володя, – играли, как дети играют плюшевым медведем…
– Я любила тебя, мальчик!
Едва я это сказала, как с Володей сделался настоящий припадок исступления. Он вскочил и стал кричать мне:
– Лжешь! Весь мир знает, что такое любовь, а вы и вам подобные исказили смысл этого слова! Вы обратили любовь в какую-то игру в бирюльки. Вы постоянно твердите о любви, только и делаете, что рассматриваете свое чувство, но все это у вас в голове, а не в сердце! Для вас любовь или разврат, или математическая задача. А любви как любви, как чувства одного человека к другому, вы не знаете.
– Твои слова, – сказала я холодно, но мягко, – только доказывают мне еще раз, как ты от меня далек. Как же ты требуешь, чтобы я всю себя отдала тебе, когда ты меня даже не понимаешь? А если я столь низменна, как ты говоришь, зачем ты от меня требуешь, чтобы я тебя любила?
Я старалась говорить сдержанно и вообще за все время свидания не позволила себе ни одного резкого или жестокого слова. Но Володей решительно владел какой-то демон, потому что, не слушая моих доводов, он вновь стал кричать на меня. Должно быть, он многое передумал в одиночестве последних дней, и теперь все эти думы беспорядочным потоком вырывались из его души.
– У меня было свое дело, – продолжал Володя. – Я был маленьким колесиком, но в великом механизме, который работал на благо целого народа и всего человечества. Я был счастлив своей работой, и у меня было удовлетворение в сознании, что жизнь моя нужна на что-то. Ты меня вырвала из этого мира, ты меня, как сирена, зачаровала своим голосом и заставила сойти с моего корабля. Что же ты мне дала взамен? Жизнь, которая любовь ставит в центр мира как божество, а потом самую эту любовь подменивает лицемерием, фальшью, притворством! Ты научила меня жить одним чувством, а сама вместо чувства давала мне искусную ложь! Ты постепенно коварством и ласками довела меня до того, что я стал твоим альфонсом. Мне страшно встречаться с прежними друзьями. Я стыжусь своей жизни, своего лица, своих рук!
Володя кричал долго, беснуясь. Я пыталась возражать, он не давал мне вымолвить слова. Я сложила руки и молча смотрела на него. Наконец, в слепой ярости, Володя схватил с этажерки томик Тютчева, бросил его на пол и стал топтать. Мне удалось сказать:
– Научись тому, что первый признак культурного человека – уважение к книге.
– Проклинаю ваши книги, – закричал в ответ Володя. – Все вы книжные, и чувства ваши книжные, и поступки книжные, и говорите так, словно читаете книгу. Не хочу я вас больше! Хочу на волю, к жизни, к делу!
Конечно, в том, что говорил Володя, было немало правды (потому-то я и записываю здесь его слова), но я не могла уступить ему. Надо было раз навсегда отстоять свою свободу. Я сказала Володе все с прежней холодностью:
– Ты молод. У тебя вся жизнь впереди. Вернись к своим друзьям-революционерам. Вероятно, они примут вновь в партию заблудшего товарища.
Поправив шляпу, я пошла к выходу.
Видя, что я ухожу, Володя побледнел смертельно, загородил мне дорогу, стал на колени. Задыхаясь, не договаривая слов, он начал умолять меня не покидать его. Он просил прощения во всем, что говорил, и назвал себя безумцем.
Я готова была заключить мир. Но когда понемногу между нами начали устанавливаться добрые отношения, Володя вдруг поставил такое требование:
– Но ты поклянешься мне, что отныне будешь принадлежать мне одному? Ты тому пошлешь тотчас письмо, что все между вами кончено?
– Ты опять сумасшествуешь, – сказала я.
– Я требую, – повторил Володя, вновь побледнев. Тогда я ответила решительно:
– Своими поступками я хочу распоряжаться сама. Не могу допустить, чтобы кто-либо с меня что-либо требовал. Бери меня такой, какова я, или ты меня не получишь вовсе.
Я вновь направилась к двери. Володя вновь загородил мне дорогу. Весь бледный, он стоял, простерев руки, словно распятый.
– Ты не уйдешь, – проговорил не он, а его губы. Покачав головой, я попыталась отстранить его от двери. Володя упал на пол и охватил мои ноги.
– Если ты уйдешь, я убью себя.
Я с силой растворила дверь и вышла.
Что удивительного, что после такого вечера я сегодня показалась Вере неинтересной. То есть она мне сказала, что я выгляжу нездоровой. Но я знаю, что значит это слово в устах женщины.
XVII
23 октября
Итак, свершилось.
Моя судьба решена, и решена неожиданно.
Всю ночь меня преследовал образ юноши, распятого у двери. Я просыпалась от кошмаров, и мне слышались слова Володи: «Если ты уйдешь, я убью себя». Утром я встала в такой тоске, сносить которую не было сил.
– Да ведь это же любовь! – вдруг сказала я самой себе. – Ты любишь этого мальчика, гибкого, как былинка.
Зачем же ты отказываешься от любви: разве в этом свобода?
Едва я это подумала, как мне показалось, что все решается очень легко. Я тотчас села к столу и без помарок, сразу, написала два письма: Володе и Модесту.
Володю прежде всего я просила простить меня. Я писала ему, что отказалась вчера послать то письмо, которое он требовал, только ради отвлеченного принципа, чтобы сохранить свою свободу. Но что на деле я вполне и окончательно порвала все с «тем другим» (т. е. с Модестом). Я писала еще, что твердо решила в самом скором времени уехать надолго, на несколько лет в Италию и хочу, чтобы он, Володя, ехал со мной…
Модесту письмо я написала гораздо более короткое и сухое, всего несколько фраз. Я напоминала, что Модест дал мне месяц сроку, чтобы ответить на его предложение. Но, говорила я, уже теперь мой ответ мне вполне известен, и я могу ему сказать, что никогда его женой я не буду. В заключение я писала, что, согласно со словами Модеста, считаю, после моего письма, все наши отношения конченными и прошу более не пытаться видеться со мной. Хотела было я прибавить просьбу – возвратить мои письма, которыми Модест, по-видимому, не дорожит, так как они попадают в чужие руки, но это показалось мне слишком банальным.
Сначала я думала послать оба письма одновременно, но какой-то инстинкт предосторожности удержал меня. Я отправила только одно письмо – Модесту.
Тотчас же я получила и ответ. Модест преклонялся перед моей волей, но просил последней милости: приехать к нему проститься. После некоторого колебания я согласилась.
Все, что случилось на этом свидании, было для меня и непредвиденно и чудесно. И чувства, которые я пережила за эти часы, проведенные с Модестом, принадлежат к числу самых сильных, какие я испытывала когда-либо.
Непредвиденное ждало меня тотчас за дверью квартиры Модеста. Он встретил меня не в своем обычном костюме, но в странной восточной хламиде, расшитой золотом. Обстановке комнат тоже был придан восточный, древнехалдейский характер. Картины со стен были сняты.
Я вспомнила слова maman, что Модест сумасшедший, и испугалась.
– Модест, ты не помешался? – спросила я.
– Нет, царица! Но эти священные часы нашего с тобой прощания я хочу провести вне ненавистной и нестерпимой стихии современности. Тебя, как и меня, равно мучит пошлость нашей жизни, и я не хочу, чтобы в наши последние воспоминания врывалось что-нибудь из нее: звонки телефона или свистки автомобиля. Я хочу на несколько часов погрузить тебя и себя в более благородную атмосферу.
Комнаты Модеста оказались преображенными: они были все убраны в древнеассирийском стиле. Модест откуда-то достал множество статуй и барельефов, изображающих ассирийских богов и царей, увесил стены странным, древним оружием, лампочки превратил в факелы, весь воздух напоил какими-то сильными, пряными духами и курениями. Я себя чувствовала не то в музее, не то в храме, мне было странно и не по себе, но действительность как-то отошла от меня, и я почти забыла, зачем я здесь.
Модест долгое время ни словом не напоминал ни о моем, ни о своем письме. Он совершенно серьезным тоном, словно только за этим приглашал меня, рассказывал мне мифы о герое Издубаре и о схождении богини Истар в Ад. На какой-то странной дудке он играл мне простую, но своеобразную мелодию, которую назвал гимном Луне. Потом он шептал мне нежные признания в своей любви, превращая их почти в псалмы, говоря кадансированной прозой, употребляя пышные, чисто восточные выражения.
От аромата курений у меня кружилась голова. Одно время я плохо сознавала, что я делаю и говорю. И о цели своего приезда я почти совсем забыла. Мне было хорошо с Модестом, и я не спешила уезжать.
Мы перешли в спальню. Вместо постели в ней было сооружено высокое ложе, поставленное на изображении четырех крылатых львов. В глубине комнаты на треножнике курились легким дымом какие-то сильно пахнущие снадобья.
– Может быть, ты хочешь меня усыпить и убить? – спросила я.
– Нет, моя царица, – возразил Модест, – я хочу убить воспоминания только. Это жертва бескровная. И еще я хочу молить древних богов, чтобы они послали нам ту полноту страсти и то самозабвение, какое знали люди их времен. Хочу молить, чтобы меня поддержал герой Мардук, а тебе дала силы богиня Эа.
Без малейшей черты шутки или игры Модест бросил на жаровню какие-то зерна и пал ниц. Длинная его одежда распростерлась на полу, и черная его голова коснулась самого пола. Ему так шла эта жреческая поза, что я почти почувствовала себя в древнем Вавилоне, ночью, в башне, отроковицей, ждущей сошествия бога Бэла… Я на время забыла все свои мучительные мысли и самую свою жизнь, помнила только, что я наедине с ним, с мужчиной, с тем, кому я должна принадлежать…
Обычно я во все минуты, даже в самые интимные, сохраняю полное обладание своим сознанием. Но этот раз час, прошедший на ассирийском ложе, в полутемной комнате, в запахе пряных курений, показался мне каким-то слиянием яви и сна, чем-то, стоящим на границе действительности и мечты. Я говорила что-то, слушала какие-то речи, но не сумела бы записать их здесь, пером по бумаге, в грамматически правильных предложениях: то было нечто иное…
Понемногу словно из редеющего тумана стали выступать передо мной слова Модеста:
– Все же я тебя любил, царица, любил всей полнотой чувства, не знающего предела и не хотящего границ. Что бы ни совершала ты, что бы ни совершал я, отвечала ли ты мне на любовь или оскорбляла меня, отваживался ли я на великий подвиг или на низкое преступление, эта любовь оставалась неизменной. И что ни ждет нас в будущем, жизнь или смерть, существование или небытие, в этом мире и в других мирах, я буду любить тебя. Уеду ли я на свой далекий итальянский остров или направлю себе прямо в сердце ассирийский клинок, я буду любить тебя. Буду изнемогать от ненужной жизни, благословляя твое имя, и в минуту смерти позову тебя, потому что, кроме любви к тебе, нет, не было и не будет у меня божества!
Долго я слушала эти ласкательные речи, полузакрыв глаза, убаюкиваясь нежными словами, как милой музыкой, но вдруг села на ложе и, смотря Модесту в лицо, спросила:
– Модест, это ты убил моего мужа, Виктора?
Никогда не видела я, чтобы люди так бледнели, как побледнел Модест при моем вопросе. При слабом свете завуалированных электрических лампочек, изображавших факелы, лицо Модеста показалось мне белее белого цвета. Его глаза остановились на мне с тем выражением ужаса, какое можно видеть лишь на картинках. Должно быть, с полминуты длилось молчание, и в этой комнате, похожей на склеп, стояла такая тишина, что треск пламени на треножнике производил впечатление страшного грохота.
Медленно Модест также сел рядом со мной и произнес тихо:
– Я.
И снова мы молчали сколько-то времени. Потом я опять спросила:
– Зачем ты это сделал?
– Я люблю тебя, – ответил Модест.
– Неправда, – грубо возразила я, – ты все требовал, чтобы я вышла за тебя замуж. Ты хотел тех денег, которые достались мне после мужа!
С сильным подъемом Модест ответил мне:
– Клянусь тебе всеми святынями, которые мы с тобой признаем, клянусь Искусством, клянусь Любовью, клянусь Смертью (эти большие буквы были в его голосе) – это неправда! Я совершил свой поступок, чтобы обладать тобой безраздельно. Если ты знаешь мою душу, ты должна понять, что деньги сами по себе не могут быть для меня соблазном. Да, я – убил. Убил затем, чтобы в своей любви пройти до последнего предела. Убил затем, чтобы сознавать, что из любви к тебе я пожертвовал всем: своим именем, своей жизнью, своей совестью. Я хотел убедиться в своей силе и узнать, достоин ли я обладать тобой. И вот я побежден, увидел, что я бессилен, как все другие, увидел, что тебя я недостоин, и ты отвергла меня – и я покорно принимаю свой приговор. Теперь казни меня – ты имеешь на то право, но не оскорбляй подозрениями, которых я не заслужил.
Модест, произнося эту речь, был прекрасен. С обнаженной грудью и шеей он был похож на ассирийского героя. И вдруг какое-то совершенно новое чувство выросло в моей душе, сразу – в одну минуту, как, говорят, вырастает чудесное деревцо в руке факиров. Вдруг Модест предстал предо мной во весь свой рост, и я наконец поняла, какая таится в нем сила, схватила его за плечи, наклонила свое лицо к его лицу и воскликнула с последней искренностью:
– Нет, Модест, нет! Не называй себя побежденным! Все, что я говорила и писала тебе, – неправда. Я тебя люблю, и я буду твоей – твоей женой, рабой, чем хочешь. И ты будешь жить, и мы будем счастливы!
Модест смотрел на меня, словно не понимая моих слов, потом проговорил угрюмо:
– Итак, ты меня прощаешь… Но знаешь ли ты, что я сам не могу простить себе? Больше мне ничего не должно таить от тебя, и я тебе сознаюсь: мне страшно того, что я совершил. Я думал, что моя душа выдержит испытание, что она – иная, чем у других. Что же! Я мучусь, как самый обыкновенный преступник, чуть ли не угрызениями совести!
Мне бывает страшно оставаться одному ночью в комнате! Вот почему я говорю, что я побежден. И ты должна оставить меня, Талия, потому что я оказался недостоин тебя… Ты была права в своем письме…
Но во мне уже было только одно чувство – безмерный, неодолимый восторг перед этим человеком, который посмел совершить и совершил то, на что современный человек не смеет отважиться. В ту минуту Модест мне казался истинным «ubermensch» [295], и я хотела лишь одного – спасти его. Я ему сказала:
– Полно, Модест! Твои страхи – временное расстройство нервов, которое ты сумеешь одолеть. Иди же до конца, если ты уже совершил решительный шаг. Теперь тебе говорить об отступлении, о бегстве – стыдно. Будь тем, каким я тебя хочу видеть, – и в награду я тебе отдаю себя, всю, вполне, как ты этого всегда хотел.
Я не лгала, я именно так чувствовала в те минуты. Я ободряла Модеста, я напоминала ему его прежние слова, я обращалась к его уму и к его гордости… Понемногу мрачное выражение сошло с лица Модеста, он поддался моему влиянию, он вновь стал самим собой, сильным, решительным…
И вот исчезли два любовника, которые за полчаса перед тем были в этой комнате: на их месте оказались два сообщника. Мы бросили все споры о любви и свободе в любви, которые еще так недавно казались нам важнее всего на свете. Мы стали говорить деловым тоном о том, что должно теперь делать.
Я доказала Модесту, что он напрасно так полагается на свою безопасность. Слишком много людей замешано в это дело. Я ему напомнила о Глаше и рассказала о последней моей встрече с Хмылевым. Рассказала, каким образом сама разгадала страшную тайну. Теперь одного неосторожного слова достаточно, чтобы поселить в ком не следует подозрение…
В конце концов мы порешили, что Модест должен не медля выехать за границу и жить там под чужим именем. Я же должна дождаться своего утверждения в правах наследства и тотчас обратить все свое состояние в наличные деньги. После этого я присоединюсь к Модесту, и на несколько лет мы уедем куда-нибудь далеко, хотя бы в Буэнос-Айрес…
От Модеста я вышла рано: не надо подавать повода к лишним толкам. Вернувшись домой, я разорвала письмо, написанное Володе.
Боже мой! А что, если эти строки попадут кому-нибудь на глаза? Что из того, что я храню свой дневник в тайном ящике. Есть руки, которые проникают всюду.
Эти страницы надо вырезать.