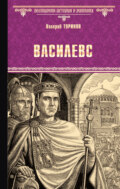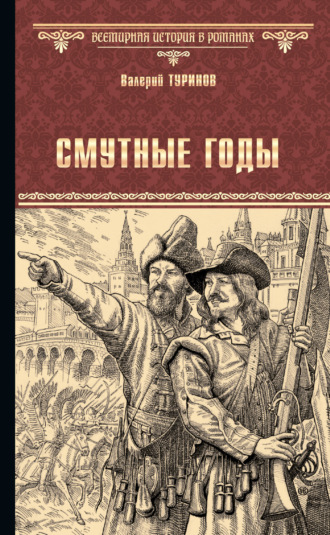
Валерий Туринов
Смутные годы

Валерий Игнатьевич Туринов
© Туринов В.И., 2022
© ООО «Издательство «Вече», 2022
Об авторе
Валерий Игнатьевич Туринов родился и вырос в Сибири, в Кемеровской области. После службы в армии поступил в МИСиС, окончил его в 1969 году по специальности «полупроводниковые приборы» и был распределен на работу в город Ригу. Проработав там три года, поступил в аспиранту МИСиС на кафедру физики полупроводников. После окончания аспирантуры и защиты диссертации в 1977 году получил ученую степень к.т.н. и был распределен на работу научным сотрудником в НПП «Исток», в город Фрязино Московской области. Казалось бы, никакого отношения к истории и к литературе все это не имеет, но каждый автор приходит в литературу своим путем, зачастую очень извилистым.
Начиная со студенчества, работая в геологических экспедициях летом на каникулах, Валерий Игнатьевич объездил Сибирь и Дальний Восток. В экспедициях вел дневники, постепенно оттачивая стиль художественных приемов, а сами поездки пробудили интерес к изучению истории не только Сибири, но и истории государства Российского, а затем – и к прошлому Европы.
Особенный интерес вызывали XVI–XVII вв. – эпоха становления национальных европейских государств и связанные с этим войны. Вот почему осенью, зимой и весной Валерий Игнатьевич, как правило, пропадал в РГБ (Российской государственной библиотеке), собирал по крупицам в источниках судьбы людей, оставивших заметный след в той эпохе, но по какой-то причине малоизвестных сейчас, а то и вообще забытых.
К числу таких исторических личностей относится и француз Понтус де ла Гарди, родом из провинции Лангедок на юге Франции. Он дослужился до звания фельдмаршала в Швеции, прожил яркую, насыщенную событиями жизнь. Этот человек заслуживал того, чтобы создать роман о нем!
Сбором материалов в РГБ дело не ограничилось. Изучая жизнь Понтуса де ла Гарди, Валерий Игнатьевич делал выписки из документов РИБ (Русской исторической библиотеки), из АИ (Актов исторических), ДАИ (Дополнений к Актам историческим), из Дворцовых разрядов, материалов РИО (Русского исторического общества), а также многих литературно-исторических сборников, как, например, «Исторический вестник» за 25 лет.
Пришлось проделать большую работу, чтобы иметь более широкое представление об эпохе, а также о других известных исторических личностях, повлиявших на судьбу Понтуса де ла Гарди, или, говоря словами одного из героев, «сделавших» его человеком.
Эта деятельность, помимо основной работы по профилю образования, отнимала много времени и сил. Поэтому докторскую диссертацию в родном МИСиС Валерий Игнатьевич защитил поздно, в 2004 году, с присуждением ученой степени д.ф.-м.н., имея к тому времени уже свыше сотни научных публикаций и десяток патентов по специальности.
Избранная библиография автора (романы):
«На краю государевой земли»,
«Фельдмаршал»,
«Василевс»,
«Вторжение в Московию»,
«Смутные годы»,
«Преодоление».
К 400‐летию Смуты
Глава 1
Михаил Скопин-Шуйский
Князь Михаил Скопин-Шуйский, собрав на Новгородских землях войско из даточных, боярских детей и казаков, выступил 10 мая 1609 года из Новгорода на Москву. С ним вместе двинулись и полки наёмников под началом шведских генералов Якоба де ла Гарди и Эверта Горна. Этих наёмников генералы собрали из разных стран, на что им дал согласие шведский король Карл IX. Тот пошёл на это, опасаясь усиления Польши, своего племянника, польского короля Сигизмунда III, если тот захватит Московию. Так генералы выполнили тайный наказ своего короля. Они привели наёмников под Выборг, а затем к Новгороду, к Скопину на сход.
Всё шло гладко до Твери. Войска успешно шли вперёд, с боями, но слаженно, как следует союзникам доверчивым. Разлад между ними начался на подступах к Твери. Там первым через Волгу переправился де ла Гарди, оставив свой обоз на её левом берегу. И тут его наёмники столкнулись с польским гарнизоном: Зборовский вышел навстречу им и навязал тяжёлый бой. Гусары смяли всё левое крыло де ла Гарди, где немцы с французами держали оборону, а среди них немало было шведов. Шёл сильный дождь, и мушкетёрам отказали фитильные запалы. Там потерял де ла Гарди четыре полевых орудия и часть знамён. Но правый фланг его, где он сам находился со шведами и финнами, выдержал удар гусар. Затем он даже обратил их в бегство. При этом с поля боя бежал за укрепления, в свой лагерь, и раненый Зборовский.
Вскоре князь Михаил Скопин опять соединился с наёмниками. И вновь они сошлись на поле с гусарами Зборовского. Они побили гусар, иных загнали в их же лагерь и осадили ещё в крепости, в Твери. Объединённые силы русских и шведов направились к Переславлю-Залесскому тремя полками, подступили к городу и выбили оттуда польский гарнизон. Вскоре в Переславле уже был и сам Скопин. А через неделю из русского лагеря вышел с ратными Григорий Валуев. К нему присоединился полк шведских кирасир. И они двинулись на Александровскую слободу. К слободе они подошли на исходе ночи и атаковали полк Тромчевского. Гусары, застигнутые врасплох, выскакивали из избёнок без доспехов и тут же попадали под ружейный огонь. Завязались схватки – не на жизнь, ожесточённые. И гусары, пешими, без строя, сразу же сломались, в беспорядке побежали. Русские и шведы загнали их в реку, и вот тут-то началась безжалостная бойня. По реке метались и храпели кони, вниз летели седоки, всюду раздавались крики, там тонули раненые, но ещё звенели и клинки. С берегов же бухали и бухали мушкеты. Только к полудню, и то разрозненно и кучками, удалось немногим гусарам вырваться оттуда и уйти лесом от погони.
Так очистив слободу, Валуев отправил к Скопину гонца, а сам приступил к строительству острога. Скопин, получив его сообщение, двинулся к Александровской слободе и расположился в ней своим большим полком. Дорога на Москву была открыта. Но он не спешил туда. Не спешил он выступать и против Сапеги, осаждавшего Троице-Сергиев монастырь. Тем более не собирался он идти на Тушино, на поляков под началом князя Рожинского. Для этого у него не было достаточного численного перевеса. Он стоял в слободе, ждал ещё наёмников из Швеции, а также полки Шереметева.
* * *
Крытый возок боярыни Скопиной-Шуйской миновал ворота Александровской слободы и подкатил к палатам, где разместилась ставка большого воеводы царского войска. Дворовые холопы посыпались с коней, метнулись к возку, распахнули у него дверцу и почтительно склонили головы.
Елена Петровна, выходя из возка, слегка оперлась на комнатных девиц, ступила на снег и тут же увидела сына.
Князь Михаил встречал её у крыльца, в окружении своих ближних советников. Среди них сразу бросался в глаза молодой иноземец, светло-рыжий, с тонкими усиками, торчавшими в разные стороны, как у кота, и чисто выбритым продолговатым подбородком, чуть старше её сына. По-видимому, решила она, это и есть де ла Гарди. О нём сын уже писал ей как-то. Иноземец выделялся своей изысканностью и лоском, чего, подумала она, нет у русских воевод… «И Лыков тут! Ах, этот Лыков, с его завидными потугами всюду поспеть!..» Даже к ним на двор он захаживал чаще, чем другие. И вроде бы по-соседски. Среднего роста, бойкий и уж больно вездесущий… «И Яков Барятинский тут же!..» Ну что о нём-то сказать? Нечего. Она не знает его, хотя и видела не раз подле сына. Непонятный человек, странный рядом с князем Михаилом… И тут же она заметила, как сбоку, из-за угла царского терема, выбежали братья её снохи: Иван и Семён Головины. Они торопились… Всё, всё было написано у них на лицах, ну совсем как у отроков, опоздавших из-за проказ на литургию.
Князь Михаил низко поклонился ей: «Здравствуй, матушка!»
Елена Петровна поцеловала его в лоб и, шутя, пожурила:
– Ну, ты уж совсем встречаешь меня как государыню! С меня было бы довольно и одного тебя!
Князь Михаил, оправдываясь, с улыбкой показал на своих товарищей, на воевод: «Они бы не позволили мне, не простили!»
– И вы, стало быть, тоже? – нарочито сердито спросила княгиня Головиных, любуясь ими, ладно скроенными молодыми людьми.
– Как можно, Елена Петровна, оставить князя Михайло одного! – в том же шутливом тоне ответил ей Семён.
– Да ты, вижу, как нитка за иголкой: куда Михайло, туда и ты!
– То государь ведает!
– С вами сведаешь! Вы чуть что – так сразу подавай невместную!
Елена Петровна снисходительно покачала головой, как бы давая понять: «Ну что с вами, молодыми, поделаешь, придётся смириться…»
– Ну, веди, веди меня, а то приморозишь моих девок! – сказала она сыну. – Вас-то ничего уже и не берёт! – окинула она взглядом их лёгкие кафтаны, в каких они выскочили во двор встречать её.
Князь Михаил взял её под руку и поднялся с ней на высокое теремное крыльцо. За ними в терем вошли воеводы.
В большой палате, где когда-то собирал на пиры своих опричных Грозный, уже стояли столы. Подле них бегали дворовые Скопина. Они заканчивали приготовление к встречному угощению по случаю приезда матери большого воеводы, дня Архангела Михаила и дня рождения князя Михайло.
Елена Петровна переоделась у себя, в отведённой для неё комнатке, и вышла в палату в каптуре и смирной вдовьей телогрее[1]. Она прошла во главу стола и села в кресло. Высокая ростом, в длинной телогрее, она держала стан прямо, что подчёркивало всё ещё статную её фигуру. Не было заметно на лице у неё и белил, тем более румян, чем славилась, грешила боярская среда. У неё были такие же, как у сына, большие выразительные глаза и строгие черты лица, за которыми угадывался твёрдый характер. Светлые, дугой, красивые густые брови, прямой нос и губы с изящной чёткой линией делали всё ещё привлекательной её, несмотря на возраст.
Она немного откушала, поговорила с гостями и поднялась из-за стола, когда заметила, что воеводы начали дотошно обсуждать какие-то свои дела и совсем забыли о ней.
– Пора мне и честь знать! Воинские разговоры – не женское занятие! Вы обойдётесь тут уж как-нибудь без меня!..
На следующий день князь Михаил зашёл после заутрени к матери, на женскую половину терема.
Елена Петровна приняла его в маленькой горенке, рядом со спаленкой, где комнатные девки убирали стол после завтрака боярыни.
– Меланья, иди, – велела княгиня старшей комнатной девке. – Я уж тут сама, коли надо будет.
Она поцеловала сына в лоб, усадила подле себя, внимательно, с любовью, но строго оглядела.
– По дому-то, чай, соскучился?
За год, что она не видела сына, он похудел и от этого, казалось, вытянулся ещё выше ростом. На лице у него появились суровые складки, взгляд стал спокойным, глубоким. Исчезла у него и былая юношеская суетливость, тревожившая её, когда он начал вдруг быстро взрослеть.
– Ох и не говори, матушка! – невольно воскликнул князь Михаил. – Как там Александра-то?!
– Всё думает и молится о тебе. В заступницы Богородицу призывает. Ждёт тебя, все глаза выглядела. Каждый божий день спрашивает: «Да когда же приедет, скоро ли?..» А что я отвечу, коли самой то неведомо!
– Скоро, матушка, скоро! Вот откроем на Москву дорогу, так и приеду!
Он встал с лавки и заходил по горенке.
– Государь пишет, на столицу зовёт… Дары великие уже готовы. Ждут нас доподлинно!
– Ох, Михайло, Михайло! – с озабоченным выражением на лице заговорила Елена Петровна. – Слышала я, что вчера твой приятель, иноземец, за столом говорил. Над словами его поразмыслил бы. Не гулять приехала я сюда, хотя и на ангела твоего. И то верно – истомилась по тебе, моему единственному! Но могла бы ещё подождать. Да не это тревожит меня… Слухи недобрые по Москве идут: венец, мол, тебе предложили воровские людишки, что поссорить с Василием хотят! И у Шуйских о тебе очень худо распинаются!.. На Москве люди злы, завистливы! А пуще всех опасайся Дмитрия! Корень лютый от Скуратова на дворе у него поселился! Сам Василий не так уж прост! Сладки речи ведёт, да уж горько пить из рук царских его!..
– Что ты, матушка! – поразился услышанному Скопин. – Он мне верит во всём! Я служу ему честью! Воровству и обману не учила ты меня! С ранних лет мне отца заменила! И твой сын походить на него старался!
– Да, ты верно говоришь! – с горечью вырвалось у Елены Петровны, и её губы дрогнули, беспомощно и жалко.
Только теперь она поняла, что, научив его быть честным, правдивым, стоять на слове, сделала беззащитным перед людским коварством.
– Матушка, если царя ослушаться посмею – честь его задену!
– Напиши ему, что идёшь на Смоленск аль на Тушино! Как товарищ иноземный твой советует! С Сигизмундом безопасней воевать, чем в Кремле, во дворце, пировать!..
– Не о том говоришь, матушка! – обескураженно протянул князь Михаил, видя, что она не слушает его. – Дядю уважаю я и хочу поведать мысли важные ему!
Елена Петровна поникла головой… Поймёт ли он её страхи?.. Поймёт, но всё равно поступит так, как велит честь. И в этом она узнала своего мужа, Василия Фёдоровича, и, в общем-то, не удивилась тому, что услышала. Подспудно она ожидала это. И может быть, благодаря этой черте характера мужа, мелькнуло у неё, их семейство уцелело во время большой опалы Годунова, ещё в бытность того правителем. В тот год она была беременна, носила сына, и неизвестно, был бы сейчас Михайло и как бы повернулась их судьба, если бы Василий Фёдорович попал в немилость к Годунову, не был бы известен как человек чести. Она же знала, что не страх за неё, беременную, заставил мужа не поддержать старшую ветвь Шуйских, пытавшихся свалить Годуновых путём развода царя Фёдора с Ириной Годуновой. Погром Годуновым семейства Шуйских был ужасен: прокатились аресты, казни, ссылки. Пострадало много, очень много людей: митрополита Дионисия, примирителя Годуновых и Шуйских, затем решившегося развести царя с царицей, отправили в Хутынский монастырь и заточили там. Василия Фёдоровича лишили наместничества в Каргополе, но не тронули, а лишь отправили в Псков, на воеводство. Оттуда он ушёл воеводой в государевом полку против шведов под Ругодив. Когда же он вернулся из похода, то его больше никуда не посылали на службу. Он начал быстро хиреть и вскоре умер. Не таким был Василий Фёдорович человеком, чтобы сидеть на своём дворе… Вот и Михайло весь в него, и боярство выслужил даже раньше, чем отец… К его прадеду, вспомнила она, князю Ивану, сыну Василия Бледного, прилипло прозвище «Скопа» – хищной птицы… «Вон оно откуда пошло-то!» – подумала она, когда Василий Фёдорович как-то раз вернулся с охоты из своей старинной вотчины в Рязанской земле и привёз необычный трофей: орлана, с громадным размахом тёмно-бурых крыльев и белым брюшком. За ним он долго и безуспешно гонялся, следил, как тот высматривает что-то на водной глади, парит над Вердой, тихой песчаной речкой… Потом он зависает в «трясучке» и… вдруг падает из поднебесья, бреющим полётом проходит над водой, выхватывает когтями из воды подлещика…
И вот однажды, в такой момент, его настигла стрела…
Она гордилась своим сыном. Тот ещё с малых лет проявил такие таланты в грамоте, что дворовый дьяк Тимофей, обучавший его, поражался быстроте и живости его ума и только ахал и хвалил.
Вот и вчера, когда они затеяли при ней разговор о рейтарах, осадных пищалях, конном бое и ещё о чём-то ратном, воеводы, намного старше его, внимательно слушали её сына. Заметила она, что у него появилось много новых книг, заморских, и догадалась, что их привёз ему тот иноземный друг. Все книги были воинские, с картинками: на них сражались люди в ладных доспехах, чудно нарисованные. Таких книг она не видела ни у своего отца, боярина Петра Ивановича Татева, ни в иных московских семьях. Там, где были обучены грамоте, книги водились лишь богоугодные. А чаще всего бояре ставили под грамотами крестики.
И в то же время она боялась за сына, боялась, что он рано взлетел так высоко… «Неопытен, наивен он с людьми!..»
– Поступай как знаешь, – с усилием промолвила она, почувствовав, что он окончательно уходит от неё.
Этот разговор не принёс им обоим ничего, кроме расстройства. И она уехала назад в Москву.
Встреча с матерью выбила князя Михаила из равновесия, взволновала, и в памяти всплыло недавнее прошлое.
* * *
На берегу медлительной и крохотной речушке Вексы, что затерялась в сумрачных лесах под Вологдой, стояла пустынь, основанная монахами полтора века назад, ещё во времена великого московского князя Василия Тёмного. Глухое, уединённое место, окружённое густыми лесами и топкими болотами.
Хозяйственные и жилые постройки монастыря, обнесённые острогом, довершала башенка над воротами, чтобы досматривать приезжих. К реке выходили ещё одни ворота, поменьше. Они выводили и за обитель, на небогатые монастырские угодья вот здесь, у Молотильского озера, где стояла обитель, в двух десятках вёрст от Вологды.
С отрядом верховых стрельцов князь Михаил миновал засеку и подскакал к острогу. Сотник забарабанил бердышом в ворота, но отсыревшие толстые брусья, по-бычьи гукнув, проглотили удары.
– Никола, давай, давай! – заторопил князь Михаил его. – Не ночевать же здесь!
На помощь сотнику пришли стрельцы: ворота вскрякнули как будто и заходили ходуном. И тут же кто-то зашевелился в башенке, и оттуда тонким голоском спросили: «Кто там?!»
– От государя Димитрия! – крикнул князь Михаил. – К его матери, царице Марии!
За воротами послышались панические голоса, топот ног, там завозились с запорами и наконец, раскрыв ворота, впустили всадников.
В обители, у настоятельской, князя Михаила уже поджидала игуменья. Он объяснил ей цель своего визита и попросил немедля проводить его к великой старице.
Комнатка Марии Нагой, в иночестве Марфы, последней, шестой по счёту жены Ивана Грозного, куда его проводила игуменья, была скромно, но со вкусом убрана и отличалась от обычной кельи рядовой монахини. У двери возвышался поставец, на нём тускло блестел изящный серебряный кубок, стояли два стакана, фарфоровый кувшин и тарелки. На другом столике, подле крохотного оконца, лежало зеркало и стояли резные шкатулки из слоновой кости с женскими поделками. К кровати с низким изголовьем приткнулась маленькая скамеечка, обтянутая тёмно-красным бархатом.
Князь Михаил низко поклонился Марфе, коснувшись правой рукой пола.
– От царя Димитрия, государя всея Руси, к тебе, великой старице, послан я, его мечник!
– Кто же ты будешь такой? – спросила Марфа, когда он представился. – Из каких Шуйских?
Князя Михаила Марфа не знала и не могла знать. Когда её отправили в ссылку, ему было всего-навсего три годика.
– А-а, так ты сын Василия Фёдоровича! – протянула она, когда он сказал, кто он такой.
Она оживилась, рассматривая громадного ростом юношу с большими умными глазами и прямым крупным носом честолюбца.
– Вот времечко-то идёт! – доброжелательно улыбнулась она ему. – Помню твою мать, Алёну. Она ещё долго сидела в девках. А матушка её, Катерина Никитична, ходила одно время у меня в комнатных боярынях… Татева, да, Татева дочка, Петра Ивановича! – обрадовалась она, что вспомнила давно забытых людей.
Князь Михаил промолчал, ожидая, пока великая старица выговорится.
– Садись, что стоишь-то! – пригласила она его и показала на лавочку возле двери.
Он сел, неуклюже согнув длинные ноги, и сразу почувствовал себя неловко на низенькой лавочке, как будто оказался на корточках перед царицей.
Марии Нагой было всего сорок восемь лет, но выглядела она старуха старухой. И виной тому были последние четырнадцать лет опальной жизни здесь, в заточении обители, под скудным северным солнцем. Отёчное, нездоровой белизны лицо, большие выцветшие глаза, просторный старицкий наряд, и тело – полное и рыхлое: вид демонический и неземной…
– Ты справляться-то будешь, хочу я ехать или нет? – строго спросила она его.
– Велено узнать… – ответил он, сконфузившись.
Князь Михаил ещё не научился врать вот так, глядя прямо в лицо собеседнику. И это не ускользнуло от старицы. Она молча улыбнулась, заметив смущение на приятном и открытом лице юноши. Вспомнила она и тайный недавний визит своего сродственника Сёмки Шапкина. Приехав, тот назвался постельничим царевича.
Сёмка-то не краснел, как вот этот, сразу грозиться начал: коли-де не признаешь царевича своим сыном, то и быть тут удавленной!..
«Да кого уж мне бояться-то?! – горестно подумала тогда она. – Всё равно бы поехала!»
На самом же деле Димитрий строго наказал князю Михаилу: во что бы то ни стало привезти её в Москву. И князь Михаил беспокоился, не зная, чем была вызвана такая категоричность государя по отношению к матери.
Марфу же раньше времени состарила ненависть, которая сидела у неё внутри и грызла её изо дня в день, долгие годы. Сначала она думала, что преодолеет это… «Справлюсь, справлюсь!..» А как она молилась!.. Молилась не только на заутреню, перед едой и питьем, соблюдая каждый день павечерницу и полунощницу, с молчанием и поклонами, как то предписывал монашеский устав, чем раньше иногда пренебрегала. Но молилась она с поклонами и кроткостоянием по десятку раз на дню и сверх того, чтобы только отпустила её эта напасть… Время же шло, а боль не утихала, и хотя шрам от ожога на лице исчез, на сердце же остался…
А полтора года назад за ней в пустынь приехали вот так же, как сейчас. Не поленился, приехал свояк Бориса, Семён Годунов, его троюродный брат. Страшный человек! Это в подвалах его Пыточного двора навсегда исчезали люди. Тогда её не спрашивали, хочет ли она ехать. Подручные Семёна укутали её в монашескую рясу и завязали так, что она не могла ни пошевелиться, ни приоткрыть лицо. Так и привезли её, тайно, в глухой повозке, на царский двор. Привезли ночью и развязали только тогда, когда ввели в какую-то маленькую комнатку, где горели всего две свечки.
Было полутемно, и она не могла разглядеть всех находящихся в комнатке людей. Бориса же и Семёна, с его подмастерьями, разглядела сразу. В тени от свечки скрывался ещё какой-то человек, сидя на стульчике. Присмотревшись, она узнала Марию и невольно вздрогнула.
Она хорошо знала старшую дочь Скуратова, знала, на что та способна, так же как и её сестра Екатерина. Обе они были её ровесницы и в бытность ещё девками часто встречались на женской половине двора её родного дяди Афанасия Нагого, ближнего советчика Грозного царя и сотоварища по опричнине Малюты Скуратова.
«Неужели всё это было!» – мелькнуло с тоской у неё о прошедшей юности…
Борис поднялся со стула и подошёл к ней.
Она не видела его более двенадцати лет и сейчас, увидев глаза в глаза, поразилась, как он сильно сдал. Лицо у него стало угловатым, с болезненным желтоватым оттенком и выражением усталости, глаза глубоко запали, под ними залегли коричневые, мешками, круги.
«Совсем как у бабы на сносях!» – появилась у неё злорадная мысль.
И оттого, что ему, её недругу, очень тяжко, ей стало немного легче. Что-то отпустило её, что долгие годы держало в напряжении. Но желание вцепиться в его длинную седую бороду и выцарапать ему глаза не оставляло… «Выцарапать!.. Выцарапать! За что сгноил!..» О-о! Если бы она могла, если бы была в силах сделать это!..
Годунов уловил у неё в глазах тайный мстительный блеск, отошёл от неё, затем снова подошёл вплотную.
– Знаешь ли, почему я послал за тобой? – спросил он, равнодушно глядя на неё.
Марфа давно не слышала его голос и сейчас, услышав, вздрогнула. На мгновение ей показалось, что перед ней стоит Иван. Такой, каким его знала лишь она в ту пору, когда только-только стала его женой. Тогда он был уже замкнутым, молчаливым и подозрительным. Поэтому и свадьба проходила не по-царски, без былой широты и роскоши. В царском поезде и за столом были только родственники, узкий круг дворовых. Бориска же был на свадьбе её дружкой, вместе с её двоюродным дядей Михаилом Нагим. Он был молод, статен, красноречив. И она невольно, украдкой, взглядывала на него. Таким и запомнила. А теперь, постарев, он стал похож на Грозного. И его голос зазвенел теми же нотками: резкими и желчными. Только в глазах не было заметно тех провалов в памяти, какими страдал Иван. Она же до сих пор помнит нездоровое утробное дыхание мужа, как будто внутри у него что-то разлагалось…
Сейчас она знала, зачем её сюда привёз Сёмка, верный пёс Бориски, мастер тайных и пыточных дел: доброхоты донесли до неё слухи одной из первых.
– Да, – промолвила она.
– А коли знаешь, то и ответ держать: по совести, по чести, по вере православной!
По тону его голоса она почувствовала, что он раздражён тем, что слухи о появлении в Польше царевича Димитрия дошли и до глухих мест. Но даже сейчас, стоя перед ним, она всё ещё не решила, что ответить ему… Она попросту, по-человечески, боялась его. А теперь тем более, когда увидела в нём черты Ивана. Боялась и ненавидела. И в ней боролись эти два чувства до последней минуты. И она, не зная, что сказать, стояла и молчала.
В комнате на минуту наступила тишина.
Первой не выдержала, зашевелилась и встала со стульчика Мария Годунова.
Марфа встретилась с ней взглядом, и это решило всё. В одно мгновение у неё внутри взметнулся протест против Скуратовой! Ненависть к её счастливому уделу! К тому, что та сидит здесь, в Москве, на царстве, а она заживо гниет, умирает медленно день за днём в далёкой заброшенной пустыни! Эта сучка живёт и наслаждается в тереме, где когда-то жила она! И будет жить после неё!.. Это её, невзрачную девку, Бориска подобрал только из-за её отца! Это она уничтожила в заточении её красоту, силу, здоровье!.. Вот этого она не могла вынести…
– Услышал Бог мои молитвы! – с ненавистью выпалила она. – Спас и привёл – отомстить за меня! За дела твои с Бориской воровские!
Годунова тяжело колыхнула крупным телом и бросилась к ней: взметнулись длинные рукава её телогреи, словно у хищной птицы крылья… И эта птица подскочила к ней, схватила её за рясу и дёрнула так резко, что она невольно пошатнулась.
Стоявшая рядом свечка погасла. В комнатке стало ещё темнее, и по стенам замельтешили призрачные тени.
– Ах ты, б…! – срезонировал, ударил по ушам в тесной комнатке низкий голос Годуновой.
И она готова была вот-вот вцепиться ей в горло. Но Борис оттащил её в сторону, да не удержал. Она вырвалась из его рук, схватила со стола свечку и снова ринулась на Марфу.
– Я покажу тебе, стерва, как перечить мне! – побледнев от бешенства, ткнула она ей в лицо свечку. – Спалю красоту, воровка!..
Пламя полыхнуло по щеке Марфы. Она охнула и невольно отшатнулась от Годуновой. Свечка погасла. В кромешной темноте кто-то испуганно вскрикнул. И в комнатке заметались люди, натыкаясь друг на друга.
Тут же открылась дверь, и холопы внесли свечки.
Марфа прислонилась к стене и застыла, прижимая к щеке руку и не чувствуя боли. Сильнее её горело ненавистью сердце. За всю жизнь никто никогда не унижал её так. И в эту минуту она была готова безжалостно растоптать, уничтожить их всех до одного. И уже была не в состоянии что-либо соображать.
– Сгори-ишь в геенне огненной, сгори-ишь! – задёргалась она, как в припадке, и стала биться головой о стенку и завывать: «А-а-а!.. А-а-а!..»
Мария что-то вскрикнула и попыталась снова прорваться к ней. Но на помощь Борису теперь подоспел его свояк.
Марфа не помнит, как её вывели из комнатки, снова укутали в монашескую рясу, связали и посадили в крытую повозку.
На дворе была всё та же ночь. Повозка прогрохотала по деревянным мосткам, выкатилась из Кремля и понеслась, переваливаясь с боку на бок, по грязным улицам спящей столицы куда-то в неизвестность.
Её развязали, когда отъехали достаточно далеко от Москвы. Теперь её везли в другое место. И этим местом оказалась вот эта далёкая пустынь на Вексе, отрезанная от обжитых людных мест непроходимыми лесами и болотами…
Сейчас она не знала, кого увидит в Москве, зато точно знала, что это будет не её сын. Она не только билась в горе над ним, лежавшим мёртвым посреди двора, но и сама убирала его в гробу, затем провожала в последний путь. То было давно, не забылось, правда, не так болело. Теперь её не тянуло, как прежде, в мир людской суеты. Но ей не давала покоя мысль о том, как странно сбылось её проклятие, будто кто-то, воистину, услышал её. И это так поразило её, что не поехать в Москву, не увидеть того, кто назвался её сыном, она не могла, не могла не взглянуть на него, чтобы понять, что же это такое: действительно ли ей помог Господь Бог? Кто послан ей, кем он будет для неё?..
Инокини и прислуживающие ей дворовые девки собрали её скудные житейские вещи и погрузили в повозку. И она покинула тихую обитель, чтобы уже никогда не вернуться в неё.
В сопровождении стремянных стрельцов колымага великой старицы двинулась на Ярославль, где Скопина поджидал с большой свитой дворян боярин князь Василий Мосальский – дворецкий самозванца, Отрепьева Гришки.
* * *
Князь Михаил стряхнул с себя воспоминания и вновь вернулся в день сегодняшний, к неотложным делам войска.
Наконец-то в середине ноября к Александровской слободе с понизовыми людьми подошёл Фёдор Шереметев, а из Нарвы и Выборга ещё наёмники, четырехтысячный отряд.
Князь Михаил сразу же собрал у себя всех воевод. И дьяк Тимофей, его комнатный дьяк, объявил государеву роспись по полкам: «А как быть походу нашему боярину князю Михайло Васильевичу против воров, то быть по росписи по полкам: в большом полку боярин князь Михайло Васильевич Скопин-Шуйский да боярин Борис Михайлович Лыков, в передовом полку боярин Иван Семёнович Куракин да воевода Семён Васильевич Головин, в сторожевом полку боярин Фёдор Иванович Шереметев да воевода князь Яков Петрович Барятинский…»
Дьяк дочитал роспись и свернул грамоту.
– И быть всем по государевой росписи, как пойдём большим промыслом на воров, – сказал князь Михаил воеводам. – А по малым походам и посылкам, – добавил он, – росписи не быть, а быть где кому годно придётся! И на сей счёт имеется указ государя…
Воеводы настороженно притихли, ожидая неприятностей.
– А посему под Суздаль, на Лисовского, пойдут полком боярин… Борис Михайлович Лыков да князь Яков Петрович Барятинский, – закончил князь Михаил весьма неуверенно, почувствовав эту настороженность по тому, как в палате стало ещё тише.
Барятинский криво усмехнулся в густую бороду:
– То негоже, Михайло Васильевич. Не бывать мне в товарищах с Лыковым! Не хаживал, и меньше князя Бориса быть немочно!.. Никому в чести убыток не нужен… И если не отменишь сей наказ, бить мне челом государю на князя Бориса!
– Не делом бьёшь! – остановил его князь Михаил. – Не надо, Яков Петрович! Не оскорбляй чести Бориса Михайловича!
На красивом, с тонкими чертами лице Лыкова появились багровые пятна. Голубые глаза и гладкая белая кожа ярко высветили их. И князь Борис с трудом выдавил из себя:
– Барятинские с нами, Лыковыми, бывали бессловно в меньших товарищах… И с теми, которые с нами живут, в пятых и в шестых, везде в товарищах…