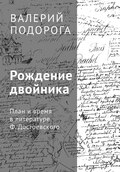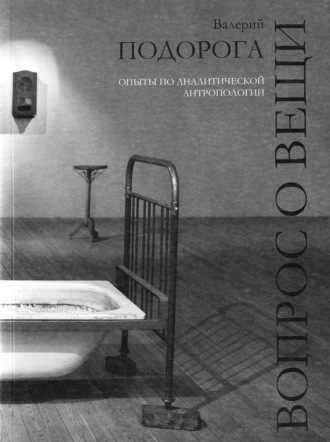
Валерий Подорога
Вопрос о вещи. Опыты по аналитической антропологии
25. Атмосфера всего…
Если вы определяете ауру как то, что прилагается к произведению искусства во времени (смещение эстетической нормы), то эта аура не имеет никакого отношения к тому, что мы называем аурой, которая сопровождает момент восприятия. Аура – другое имя для созерцания, т. е. для чувственного, крайне медленного восприятия произведения искусства. А медленность – богатая оттенками и нюансами связь, которая устанавливается между нами и авторским проектом Произведения. Аура произведения является переходным пространством, насыщенным и подвижным, вибрирующим, всегда «беспокойным», с помощью которого мы овладеваем миметическим контуром произведения. Проекция телесных смещений, сдвигов, пробежек, убыстрений и замедлений поддерживает опыт созерцания, делает его захватывающим приключением. И это неустранимо даже в том случае, когда произведение запрещает использовать миметическое переживание, обращение к автору, и требует от реципиента коллективного переживания, интерактивного. Требует отрицания миметического в пользу «чистой идеи» или концепта. Нет «прямого» контакта с произведением – это всегда процесс динамического «подлаживания» под него, если мы его действительно хотим вос-принять/понять (независимо от того, что оно нам пытается «навязать»…). Нам необходимо переходное пространство – нам нужна его аура (как своего рода барокамера), благодаря которой мы вовлекаемся в процесс восприятия, и чьё отсутствие сигнализирует нам о произведенческой недостаточности. Аура произведенческая, о которой в данном случае идёт речь, хорошо известна, она повторяет себя в том, что ей равнозначно: это атмосфера, общий тон и отдельная тональность, строй и настроенность (Gestimmelheit)53.
Атмосфера – сложная многосоставная эмоция: то, что мы вдыхаем, и чем дышим, то, во что мы входим, на что опираемся, что чувствуем и переживаем (мы говорим: атмосфера страха, радости, горя и несчастья, атмосфера ожидания и т. п.). Атмосфера – это и ритм «живых» движений, который может быть передан различными художественными средствами – живописными, пластическими, поэтически-вербальными, тональными; она может быть и «воздушной», т. е. сближать нас с природными явлениями: туманами, дымами, облаками, «дождевой пеленой», «сверканием снега» и Северным сиянием. Но также и с религиозной практикой: иконописанием с его ореолами и нимбами, мученическими образами святых и грешников, золотыми и голубыми фонами, или с храмовой атмосферой и «чистейшими запахами» древних мощей.
26
Насколько отличается по характеру атмосферы литература Кафки, Платонова, Беккета или Пруста, нечего и говорить. Важное условие: без атмосферы (как движения до движения) не может быть движений, целенаправленных и случайных. Вдыхание – это движение, пульсация плоти. Если произведение имеет атмосферу, то оно дышит, воспринимается, светится, обретает витальность, – всё в нём живёт только благодаря атмосфере, становится свободно дышащим и, конечно, задыхающимся организмом. Ф. Кафка отличал шум от чистоты внутреннего гула, почти космического переживания согласия мира, лежащего в основе литературного письма: он отличал чистое движение от нечистого так же, как внутренний мимесис (более подлинный) от внешнего (репрезентативного и ложного). И он также понимал, что пишет из страха и страхом, и что атмосфера его так называемых романов, которую он и не пытается изменить, чрезвычайно близка удушающей, не просто угрожающей, а настолько нелепой и невероятной по событийной цепочке, что страх, по мере прохода сцен, не перестаёт сгущаться, вызывая у читателя понятное, всё нарастающее беспокойство. Г. Башляр говорил о первоначальной сопричастности нашего аппарата вчувствования материи четырёх главных стихий: воды, ветра, огня и земли, связывая с ними условия «заимствования» определённого вида движения, создающего единые условия для движения всех плоскостей, или, если угодно, всех граней произведения. Атмосфера страха, происходящего, по всей видимости, из замедления движения (часто насильственного). Все превращения у Кафки – примеры замедления и почти полной остановки, тишина вокруг одиночных тревожащих шумов и стуков54.
Благодаря прекрасном образу Ортеги-и-Гассета мы теперь знаем, как «дышит» произведение Пруста «В поисках утраченного времени»: «…Пруст приносит в литературу то, что можно назвать воздушной средой. Пейзаж и люди, внешний и внутренний – всё пребывает в состоянии мерцающей неустойчивости. Я бы сказал, что мир у Пруста устроен так, чтобы его вдыхали, ибо в нём всё воздушно. В его книгах никто ничего не делает, там ничего не происходит, нам является только череда состояний. Да и как может быть иначе – ведь для того, чтобы что-то делать, надо быть чем-то определённым. Действия животного осуществляются целенаправленно, его поведение можно изобразить в виде прямой линии, ломающейся тогда, когда она наталкивается на какое-то препятствие, и неизменно возрождающейся, свидетельствуя о наличии борющегося с препятствиями субъекта. Это ломаная линия, воплощающая в данном случае действия животного – человека или зверя, полна скрытого динамизма. Но прустовские персонажи живут растительной жизнью. Ведь для растений жить – это пребывать и бездействовать. Погружённое в воздушную среду растение не способно противостоять ей, его существование не приемлет никакой борьбы. Так же и персонажи Пруста: как растения они инертно покоряются атмосферным предназначениям, ботанически смиренно сводя жизнь к выработке хлорофилла, всегда анонимному, идентичному химическому диалогу, в котором растения повинуются приказам среды. В этих книгах ветры, физический и моральный климат гораздо более, нежели конкретные личности, являются передатчиками витальных побуждений. Биография каждого героя покоряется воле неких духовных тропических вихрей, поочерёдно взвивающихся над ними и обостряющих чувствительность. Всё зависит от того, откуда рождается живительный порыв. И как существуют ветры северные и ветры южные, персонажи Пруста меняются в зависимости от того, дует ли шквал жизни со стороны Мезеглиз или со стороны Германтов. Потому-то и не удивляет частое упоминание cotes55, что для автора мироздание есть метеорологическая реальность, но тогда всё дело в направлении ветра»56. Действительно, всё дело только в направлении ветра, в тех дыхательных аспектах существования главного героя (и рассказчика в одном лице). Для Пруста атмосферы разнятся: одним своим персонажам он вообще отказывает в дыхании (они не имеют лёгких) и скорее видит в них подводных, удивительных чудовищ, которые не нуждаются в воздухе; им достаточно лишь казаться невозмутимо величественными, чудесными, неповторимыми, подавляющими своими «нечеловеческими» качествами всякую человечность. За их превращениями внимательно следит рассказчик – то они кажутся ему редкими рыбами, то удивительными птицами, а то и необычными насекомыми; выразительность их удивительных облачений зависит от световых вспышек и яркости цветовых пятен и, наконец, от особенностей запаха, которым они привлекают друг друга. Правда, темп их превращений весьма относителен, как, впрочем, и режим авторского письма, часто прибегающего к повторам, задержке, даже к остановке повествования дополнительными уточнениями, требующими новых скобок и угрожающих искажением проекций. Ж. Женнет изучает то, что он называет прустовским палимсестом, эти двойные экспозиции в повествовательной технике Пруста повторяют как будто опыт, присущий восприятию ауратического произведения57.
27
Дж. Тёрнер в последние годы был больше похож на естествоиспытателя: как известно, он действительно изучал разного рода атмосферные явления. Но главное, и это касается последнего периода его творчества, самого загадочного, он начал экспериментировать с разнообразными световыми эффектами. Цель: передать живописными средствами непосредственное ощущение от воздействия атмосферы (воздушной) на человека. Что же он так пристально изучает? Прежде всего туманы, пар, воздушные вихри, действие солнечных лучей в плотном дождевом мареве. Тёрнер размышлял над цветовой гаммой атмосферных осадков. Его поздние образы бесформенны не потому, что плохо написаны, а потому, что пытаются передать совсем другое – моменты дыхательной практики. Превратить зрительный эффект в дыхательный, дистальное чувство – в предистальное. Владеть дыханием – это субъективно расти. Тёрнер – геомантик, он изучает дыхание Земли. Кстати, Лондон – величайший архив туманностей, хранитель тёплого пара Гольфстрима. Нельзя сказать, что опыт Тёрнера внёс что-то новое в романтическое обожествление Природы, ведь тема эфира (воздушного) и дыхания никогда не исчезала из романтической поэзии (Ф. Гёль дерлин, например). Такие опыты можно встретить в древнекитайской живописи: между гор, мягко окутывая их, висят облака, их воздушность без ветра и бурь. Нет ни низа, ни верха. Никакой тяжести. Образ уравнен с предметом, он – паровое облако, парит, – так одухотворяется пейзаж. Включение Тёрнером в живописное полотно дыхательного регистра: видеть дыханием. Эффект достигается от того, что вы не созерцатель чего-то внешнего (традиционных рельефов и схем), вы – не вне, а внутри атмосферного явления. Не потому ли кажется, что от картин Тёрнера исходит движение, которое мы иногда встречаем, когда ранним утром над сырым полем, клубясь и вращаясь в малых вихрях, туман медленно поднимается навстречу солнцу. Это не импрессионистская прозрачная мантия, набрасываемая на вещи, смешивающая разные слои воздушных фонов, не теряя из виду – что важно! – предмет изображения58.
28. Body imaginery. Театр М. Чехова
Атмосфера – это, в сущности, внутренняя среда спектакля: в неё вступают, и в ней производят жесты, речи, действия или поступки; вне её движение невозможно; только она переводит эмоциональную неопределённость в сгущённую эмоцию, даёт толчок целой серии движений, предстающих в пластически зримом, телесно ощутимом образе59. Другими словами, это движение до всякого движения, или примиряющего в себе любые другие движения. Почему так важен опыт великого артиста? Прежде всего потому, что процесс чтения явно определяется условиями театрализации, иначе говоря, подражанием действию – это способность ввести в воображаемое собственное тело, своего рода пластическая транспозиция образа тела в предполагаемое действие.
Вот почему Чехов размышляет о теле воображаемом, body imaginery, как оно может быть создано, каким образом найти его смещённый центр, как совместить его с атмосферой, поскольку атмосфера перекрывает всю совокупность здесь и сейчас совершаемых жестов и движений, ведь именно она рождает их, чтобы они смогли её выразить и передать, заставить ощутить себя. Чтение сохраняет момент театрализации, и читатель выступает в роли актёра, причём с той же мерой искусности и чувственности, способного не просто к имитации видимого положения, а к переживанию всей атмосферы повествования60. Значимость атмосферы для повествования велика. Одно из упражнений в подготовке актёра как раз было определено задачей передать, не представить или изобразить, а именно передать движение. Так движение становится значимым, но не теряет своего спонтанного характера. Движение должно передать атмосферу, т. е. воссоздать среду, в которой возможно лишь такое движение. Не следует, конечно, забывать, что наиболее трудная проблема в спектакле – это именно создание атмосферы, переход в иное состояние, время-пространство. Ведь только после того, как мы начинаем чувствовать это новое движение, проникаемся им, воспринимается и само зрелище61.
29. О(т)чуждение, Verfremdung. Театр Б. Брехта
Но а как же театр Ф. Кафки, А. Арто, В. Мейерхольда, С. Беккета, Д. Хармса и А. Введенского? Ведь если сравнить их с опытом М. Чехова, то они окажутся другим театром, порвавшим с принципом художественной атмосферы?
Искать определение атмосфере можно в разных источниках и приблизительно с равным успехом. Атмосфера толкуется с самых разных позиций и тех условий, которые задаёт сам исследователь. Так что трудно выявить какую-то определённую концепцию «атмосферности», которая будто даже обещана нам. Атмосфера – это и термин, означающий настрой зрителя на определённое высказывание, относящееся, например, к литературному, живописному или театральному языку. Это и метафора некоторых эмоциональных состояний (страх, ненависть, любовь и т. п.), т. е. в таком случае делается упор на чистую физиологию, переживание чего-то как возможности расширения дыхания, освобождения, т. е. как некоего рода свободы. «Легко, дышится», «дыхание степи (гор, моря)», или клич Киркегора: «Возможного, иначе задохнусь!» Но это и способ существования в произведении диалогической формы, – отношения к Другому. Можно даже принять термин «диалогическое сияние», кстати, вполне бахтианский. Определение атмосферы получает уточнение: «На этой диалогической (социальной) почве – взаимной необходимости – и зарождается атмосфера общения, его совокупная тональность. Диалогически развитой индивид излучает общественность – органическую остановку, ориентацию на Другого – даже и в моменты физического отсутствия его»62. Со всеми этими подходами можно согласиться. Но смешивать разные «атмосферности» не следует, ибо они резко отличаются по технике объективации (если угодно, «опредмечивания») атмосферности как таковой. Главное всё-таки не расширять понятие «атмосферы», а попытаться сужать его, вводить такие ограничения, которые позволили более чётко определить, что такое атмосфера, и насколько она необходима для восприятия.
Брехт строит театр иначе, чем Чехов. Прежде всего он отказывается от создания именно атмосферы, которая предполагает некую подготовку к принятию чужого ритма, «приручения» к нему, утверждая заранее миметическую основу будущего спектакля. Вот что он заявляет в качестве эстетического принципа: «Если в эпическом театре объектом представления становится определённая атмосфера, потому что она объясняет те или иные действия персонажей, то эта атмосфера должна подвергнуться “очуждению”»63. Эффект очуждения, Verfremdung, вводится не произвольно, а как некий социальный жест, его цель – уничтожить традиционные «гипнотические поля» аристотелевской поэтики, которые по-прежнему доминируют в так называемом эпическом театре64. Этот жест очуждения и должен разрушить нашу зачарованность атмосферой, разорвать связь между зрителем, привыкшим наблюдать за происходящим из укромной ниши, причём с тем непременным условием (от этого зависит «удовольствие»), чтобы оно никак его не затрагивало, чтобы его свобода созерцать была абсолютной. Вводится запрет на перевоплощение и любую некритическую идентификацию с героями повествования (пьесы). Актёр должен показывать, а не вживаться в роль; искусство его лицедейства здесь проявляется столь же открыто, как и в комедии дель арто. Как элемент точного и выверенного показа действует актёрский жест. Актёр раздваивается на того, кто показывает роль, и того, кто наблюдает за ней со стороны. Поэтому нет проходных жестов, т. е. нет необходимости в мимической игре, в двусмысленной риторике и ложных жестикуляциях. Всякий жест, как бы мало для него времени не было и как бы его линия не была ограничена в пространстве, должен иметь значение. Общий вывод: каждое движение актёра должно быть значимо. Речь, конечно, идёт здесь не только о Брехте, но и о всей современной практике авангардного театрального искусства, решительно порывающего с традиционной формой мимесиса (аристотелевским требованием «вживания»). Вопрос лишь в том, чтобы научиться различать индивидуальные поэтики, или виды миметических практик, которым следует та или иная литературная традиция.
Итак, всякий показ прерывается остановкой общего движения, перевод его в отношение к самому показу, как со стороны зрителя, так и актёра. Эффект шока остранения здесь явлен в полной мере (В. Шкловский, А. Белый).
30. Chosism. Письмо Алена Роб-Грийе
Из всех тех, кто овладел пределом/порогом между наблюдением и описанием и по-прежнему заслуживает внимания, – это Ален Роб-Грийе. Мир его романов выстраивается почти так же, как в экзистенциальной феноменологии Сартра и Мерло-Понти, но с несколько иным направлением завершающего литературного эксперимента. Сначала присутствие (presence): «…мир не является ни значащим, ни абсурдным, он просто есть»65. И вот мы оказываемся в сказочном заколдованном лесу, полном неведомых нам вещей и событий, всё впервые, ничто ещё не случилось и ничто не было испытано. Именно феномен первоначальной связи с миром, присутствие, придаёт магический ореол вещам, по сути дела превращая в вещи нечто неопределённое – некие «элементы», «качества», «части» или «кусочки» материи. Ален Роб-Грийе создаёт эффект монотонно-тягучего, скучного повествования, не поддерживая в читателе хоть какой-нибудь интерес к нему. Разве могло быть иначе, если смотреть на мир безразличным, «нейтральным», «невидящим взглядом»?66 Литература «нового романа» притворяется безучастной и беспристрастной. Наложен запрет на вмешательство: что бы не происходило, повествовательная машина не останавливается, «не ломается», и продолжает работать на всё тех же оборотах. Задача: отразить с максимальной полнотой тот именно образ реальности, который как будто совершенно независим от нас и нашего наблюдения за ним. Прямо-таки научный эксперимент: как описать часть реального (возможного) опыта, и причём так, чтобы наблюдаемое не было искажено процессом наблюдения? Как вытеснить/извлечь себя из того, что наблюдаешь, как не быть частью наблюдаемого? Неразрешимые и труднейшие вопросы.
И тем не менее Роб-Грийе предлагает решение. В частности, он вводит различие между вещью, chose, и объектами, objets, которое является следствием двух возможных условий наблюдения: одно – преследующее, «внимательное», «точно направленное», другое – рассеянное, скользящее, интуитивное и «заинтересованное». Прежний универсальный взгляд, бытовавший в классической европейской литературе XIX века, который легко проникал во все глубины и широты, и мог возноситься над всеми другими позициями и над самим собой, прекращает своё существование. И этот взгляд действительно делал мир чем-то близким, «дорогим» и «понятным» человеку: «…почему объекты у Бальзака внушали нам такое доверие: они принадлежали миру, в котором человек был хозяином; эти объекты являлись благами, собственностью – ими можно было только обладать, хранить их или приобретать. Между этими вещами и их владельцами существовало постоянное тождество: простой жилет уже говорил о характере и в то же время о социальном положении. Человек был причиной всех вещей, ключом к мирозданию и его естественным хозяином, согласно высшему праву»67. Итак, произошёл слом старых идеологий видения, мир оказался частичным, отчуждённым, покинутым, лишённым смысла и ценностей. Вместо вещей теперь учреждается своеобразный, и во многом литературный, культ объекта, видеть мир не как, а что, видеть его состоящим из объектов, у которых нет ни глубины, ни ауры, ни «сияния», ни того, что делает их «близкими», видеть их в отношении к другим объектам, но не к наблюдателю, видеть так, как они есть, лишённые когда-то очеловечивающей их атмосферы.
Такая литература не перечитываема, она в принципе и нечитаемая. Если кто и берётся читать, то он должен принять условия эксперимента: всё погружается в неимоверную скуку. Другими словами, скука здесь не чисто произвольное отношение к читаемому («всё это скучно и неинтересно!»), а то, из чего выстраивается само чтение, чтение без событий, без дыхания и атмосферы.
III
Вещь другого
31. Внушённая смерть
Сначала вещь противостоит человеческому присутствию в качестве магической и опасной Природы. «Первая вещь» ужасна – это отрицательная категория древнего сознания. Отсюда и начинается понимание вещи как особого бытия, отличающегося полнотой качеств, которой недостаёт человеческому бытию. Первые вещи наделены особыми магическими свойствами, от которых зависит всё, что происходит в первобытном обществе. Это вещи действительно автономные, они сами по себе, и ими можно пользоваться только в соответствии с такими духовными сущностями, как мана, оренда, вакуи, кула. Что есть та же мана? Она проявляет себя «как привнесённое извне качество вещи, независимое от их остальных свойств, или, иными словами, как нечто накладываемое поверх вещи. Эта добавка – невидимая, чудесная, материальная, одним словом, дух, в котором заключена всякая способность к действию и движению, и жизнь вообще. Она не может быть объектом опытного знания, поскольку на самом деле растворяет в себе весь опыт; обряд наделяет ею вещи, и она обладает той же природой, что и обряд»68. Дух вещи и есть та первоначальная аура, в которой вещь нуждается, чтобы существовать и быть необходимой. У раннего человека, кантианца по своей природе, есть вещь-для и есть вещь-в-себе: как бы две стороны одной медали, что-то от двуликого Януса. Одну и ту же вещь можно использовать в качестве орудия в практической деятельности (охота и пр.), но и как нечто магическое, принадлежащее и другом миру, миру властвующих духов и призраков.