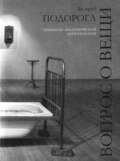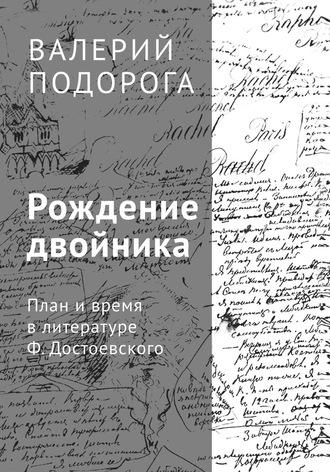
Валерий Подорога
Рождение двойника. План и время в литературе Ф. Достоевского
Важна не классификация использовавшихся Достоевским лексем движения (наречий, прилагательных, глагольных форм), а определение их места и значения в структуре фразы. Без внимания осталось: соотношение движения, действия и поступка, образующее скрытую матрицу временности, на основе которой развертывается вся работа по планированию.
Первые различия. Действие не есть движение, как движение не сводимо к поступку. Действие не изменяет мир, оно множественно и лишь накапливает возможное изменение, но поступок – всегда событие, изменяющее мир. Можно сказать и более определенно: действие – это совокупность отдельных моментов движения, характерных для данной сцены и всего хода повествования. Каждое действие имеет активную причину (но цель его скрыта); оно в силах прервать общее движение, перенаправить его или остановить. Из одного действия не выводится обязательно другое, они могут мешать друг другу. Следует различать действие, вызванное другими действиями, чья мотивация неясна или недоступна пониманию, от действия мотивированного, т. е. от поступка. Так, герои Достоевского, даже самые значительные по их роли в повествовании, не совершают никаких поступков, а если и совершают, то их поступок ничего не меняет и сразу же выводит героя из игры. Удар топором – не поступок, а действие; поступком оно может стать или не стать (последующее поведение Раскольникова свидетельствует о неспособности его превратить собственное преступление в поступок). В пределе (за чертой ситуации) поступок для Достоевского – это своеволие. Даже Кириллов не совершает действие, переходящее в поступок, поскольку постепенно, по мере готовности совершить самоубийство, теряет веру в идею и личную ответственность, а его суицидальный акт лишается всякого смысла.
Несколько обобщая, можно сказать, что движение нужно понимать достаточно широко (но это не значит – без ограничений), оно разное в зависимости от уровня применения в повествовании техники мима, развитость миметических отношений; действие же – предельно узко, оно сводимо к происшествиям, «фельетонам» и «анекдотам», но и к жестам, позам, отдельным поступкам; а вот поступок – это завершающее действие, равное событию, объясняющее подчас смысл развертывающейся идеи.
В «рабочих» планах Достоевского нет изображений движения отдельных персонажей, но есть действия, а точнее, план развертывается как сценарий события, где все решает логика будущих психомиметических отношений. Заметные изъяны персонажей литературы Достоевского с избытком компенсируются их поистине уникальной способностью к психотелесному переживанию в быстротекущем порядке событийного времени. Персонаж, даже тот, кто является центральной фигурой повествования, не имеет крупного плана; в сущности, у него нет лица. Достаточно вспомнить, как представлены фигуры Раскольникова, Карамазовых или Ставрогина. Лица их не выразительны, в них нет запоминающихся черт, они неинтересны, даны через отражение, маску, набор лицевых клише, можно сказать, они обезличены. Персонаж весь состоит из непрерывных мимических вибраций, «характер» его опознается по положению тела и жестикуляции, по скрытым линиям кинетических трасс, которые внезапно пересекают друг друга, сменяя начавшееся движение другим, почти взрывая… Достоевский, по мнению Д. Лихачева, «характеризует своих героев по тому, что является в них меняющимся и развивающимся. Он вскрывает в своих героях движение»[49]. И что важно подчеркнуть: движения мимичны, но не миметичны, миметичны только действия. Мимика – это сигналы, которые один персонаж посылает другому или «двойнику», сообщая о том, какое действие он намеревается совершить, а какое нет. Движение – это готовность к действию.
Способность персонажей-двойников не быть собой лишь подчеркивает, насколько они зависимы от быстротекущего временного потока. Не быть собой – это быть внутри времени. Взаимоотражение, взаимозаглядывание, пересечение взоров, гримас, жестов не перекрывается всеми этими условными словечками, если не банальными, подражательно-гоголевскими, случайным собранием занудно повторяющихся глаголов: вздрогнул, откинулся, вскочил, засверкал глазами, упал в обморок, забился в истерике. С другой стороны, то, что всегда их сопровождает или движется через них – все эти подмигивания невзначай, перешептывания, бормотания, приглушенные взвизги и крики,, – не дает надежды на пространственную реконструкцию персонажа. Интенсивное проявление моментов движения скрывает от нас персонажей, по-человечески нам близких, наделенных «плотью и кровью». Ткань повествования разрастается, и скорее поперек, чем вдоль ожидаемой логики повествования (задержка, затягивание или даже обрыв рассказываемой «истории»). В ходе неясного последующего развития характер героя остается амбивалентным, не может обрести постоянные черты, по которым можно было бы предугадать его последующие действия. Дело в том, что автор не управляет отдельно взятым персонажем; он движется вдоль повествовательной оси плана, стараясь удержаться в том временном промежутке, который затрагивает разом всех действующих лиц.
II. Событие
Логика событий действительных, текущих, злоба дня, не та, что высшей идеально-отвлеченной справедливости, хотя эта идеальная справедливость и есть всегда и везде единственное начало жизни, дух жизни, жизнь жизни.
Ф. М. Достоевский
1. Быть/не быть. Статус биографемы
Что может означать выражение: быть Достоевским,? Слово «быть» несколько смущает своей неопределенностью – к кому (или к чему) его отнести: к имени, включенному в пантеон великих национальных гениев, к русской литературе со всеми ее средствами выражения и идеологии, включая фигуру автора/ рассказчика, или к живой личности, претерпевающей экзистенциальную и писательскую эволюцию, о которой мы ничего не знаем наверняка и можем судить сегодня лишь со всей осторожностью? Разве мы способны восстановить все те психоорганические стадии жизни, какие проходит автор от рождения до смерти, тем более всю игру переживаний, потерь, «трагедий», которую он сам-то не в силах понять и дать отчет им как событиям своей жизни? Можно, конечно, обсуждать вопрос о том, почему Достоевский так и не оставил воспоминаний или каких-либо свидетельств о том, что он сам себе был интересен как личность. Тем более что к его психологическим характеристикам можно отнести отсутствие интереса к анамнезу; он не умел, не знал и не хотел (не мог?) вспоминать. Человек без памяти, человек невспоминающий, точнее и более радикально – человек, отрицающий акт «личного» вспоминания. Человек – антипамятъ, не потому, что он против памяти, и не потому, что она слабела день ото дня, а потому, что он не имел такой позиции в текущем времени, которую можно было бы назвать трансцендентальной, т. е. позиции проекта и выбора, – был слишком вовлечен в текущее, проходящее время настоящего.
Быть как все, быть – это существовать, быть живым существом, но вот этого-то и недостаточно. Ведь что это значит – «быть Достоевским»?
– не быть ли это «преступником» («приговоренным к смертной казни»): последние мгновения жизни, пережитые писателем на Семеновском плацу; когда вся жизнь пробегает перед глазами в один миг, и ты уже не здесь, но и не там, – так где же ты? Вероятно, там, где время исчезло и больше не действует как фактор бытия; причем не забудем, что было умышлено «цареубийство» (1849)… И потом чувство вины, страх перед неискупаемостью вины (за преступление); или много ранее «желание смерти отцу» и воображаемое «отцеубийство» (1839);
– не быть ли это «эпилептиком»: рваная частота припадков, глубоких потерь памяти, все это «бытие-в-смерти», угрожающее общим психическим расстройством; ожидание, расчет и использование припадков в литературных целях. И не просто расчет и дневниковые записи, как «истории болезни», но внимательное прослеживание причин, условий, действующих сил и в конце концов установление некоего алгоритма припадков во времени жизни. Этот основной ритм выступает как возможный план, если угодно как планирование болезни, а следовательно, включение ее в работу других планов, входящих в единый процесс планирования;
– не быть ли это «сновидцем»: снова и снова обнаруживать себя в качестве сновидных единств – то чудовищных, то лучезарных, наполненных счастьем и покоем, – видеть в знаках сна особый вид реальности, более подлинной и более надежной, чем какая-либо другая, и строить опыт дня через сновидные проекции ночи, предсказывать не «вперед», а «сейчас», в том времени, в котором тебя застает пробуждение… Два вида сна: с одной стороны, кошмара с другой – сон идеальный, сон-утопия;
– не быть ли это «игроком», чья страсть к обладанию случайностью мгновений столь навязчива, сколь и разрушительна? Здесь также планирование, причем вполне осознанное и точно направленное, имеющее в виду возможный результат («выигрышь»), которое разрушается в одно мгновение случайностью самой игры;
– не быть ли это «должником»: колонки цифр, как странные насекомые, расползаются по всем дневниковым записям, вторгаясь на страницы общего плана, и даже, естественно предположить, участвуют в его составлении косвенным, непрямым образом. Срок сдачи рукописи и планирование доходов/расходов. Когда срок? Завтра. Всегда завтра! Финальное время, это последнее время ускоряет работу, придает ей исключительную быстроту и продуктивность, как будто отдача долга и определяет возможность творческого дара… Кабальный контракт со Стелловским. И еще один важный аспект – это встроенность долгового плана в систему игры. Действительно, стоит обратить внимание на то, что игра оказывается еще и средством для самооправдания игрока, который является должником. Чтобы выплатить долги, надо играть. Долг, хотя он, безусловно, всегда денежный, вместе с тем не указывает на особую функцию денег в жизни Достоевского.
Но и это не все: следует знать, как быть «автором», «пророком», а может, и «садомазохистом» («русским Садом», как называл Достоевского И. Тургенев).
В рукописях Достоевского можно найти два формульных высказывания, которые позволят уточнить содержание этих «быть». Первое:
«Что такое время? Время не существует; время есть цифры, время есть отношение бытия к небытию»[50].
И другое, менее кантовское, но дающее краткий комментарий к первому:
«Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие»[51].
Итак, бытие есть и начинает быть, когда ему грозит небытие. Время – подвижный, но условный знак, которым помечается переход («порог») от бытия к небытию. Время биографическое, в котором рождаются, живут, стареют, умирают, время календарное или время истории, время больших хронологий, в которых жизнь человеческая размещает свои культурные формы, – это время малоинтересно для анализа. Ведь статус представительства от имени бытия отходит к пережитому мгновению «не-быть». Чтобы быть, необходимо принять все признаки небытия; быть – не сознавать бытие, а просто быть. То, что по ошибке называют «жизнью», придавая ценность не самой жизни, а сознанию жизни. Подлинное бытие располагается за пределами каких-либо привычных оппозиций, допустим, жизнь – смерть. Там, где зазор между «быть» и «не-быть» становится бесконечно малым или совсем исчезает, пространственно-временной континуум жизни (эквлидова типа) распадается на отдельные фрагменты смертного, сновидного, игрового или эпилептического, порождая сложный образ экзистенциальной временности. Страсть бытия к небытию – это экстаз. Преступать черту, экспериментировать, следовательно, придавать высшую ценность этим «не-быть» перед искусственной полнотой сознательной жизни. Так члены оппозиции смещаются: бытие не есть небытие, но и небытие не есть бытие, они сцепляются в третьем и не существуют без него и до него; это третье есть мгновение временности – остановка времени (частичная или полная).
Эксперимент «самоубийцы» Кириллова выявляет значимость остановки времени, переход в неограниченную длительность как высшее состояние бытия. Дезактуализация времени.
В отличие от Толстого у Достоевского нет попыток описать смерть изнутри, со стороны умирающего; сознание не может быть размещено в том, в чем для него нет места. Реальная символика смерти разделяется на ту, что можно назвать малой смертью, и на ту, что можно назвать большой смертью, физическим концом существования. Малые смерти, аффектированные состояния, трансы и эпилептические ауры, временные выпадения (и возвращения), сны с их кошмарами образуют так называемую мортальную пористость жизни. Значимы все остановки времени, ибо они придают самой жизни качество обновленной витальности. Смерть же сознаваемая, смерть как таковая в ее биологических характеристиках, пребывает вне «малых смертей»; она прекращает опыт существования разом и навсегда. Реальность символики «малой смерти» переживаема, реальность физической смерти – нет. Итак, две смерти: смерть малая, которая может быть пережита; и смерть как таковая («смерть как смерть»), которая пережита быть не может.
История жизни не соответствует биографическому канону: не движется по линии непрерывного изменения, «прогрессивного развития», где рождение гения всегда в начале, а великая тайна и героическая смерть – в конце; она не повторяет линию так называемой объективной истории, а скорее, именно благодаря этим локальным «быть//#-быть», предстает как плоскость причудливой карты жизни, с разветвленными маршрутами переживаний времени и его выпадений, резонирующих, повторяющих, но не отменяющих друг друга. Моменты «быть/ //£-быть» выступают все разом, проникая и насыщая собой все смежные пределы. Иначе говоря, все события совершаются одновременно. Конечно, каждое из этих «быть/не-быть» биографично и может быть представлена в виде биографемы как отдельный законченный фрагмент прижизненного архива. Биографема – это свернутый план события. Отсюда ее замкнутость и непрозрачность. Действительно, «приговоренный», «игрок», «эпилептик», «сновидец» или «должник» по-разному чувствуют время. Ведь за каждой из этих масок собственный временной цикл, со своими выпадениями, аритмией и способом разрешения финального мгновения. Все эти «быть/не-быть» налагают предел бытию; они – не знаки повседневности, в которой человек живет общей жизнью с природой и миром в целом. Из них образуется другой план: план жизни вне осознания: «Строго говоря: чем менее сознает человек, тем он полнее живет и чувствует жизнь. <…> Пропорционально накоплению сознания теряет он и жизненную способность. Итак, говоря вообще: сознание убивает жизнь. <… > Сознание – болезнь. Не от сознания происходят болезни (что ясно, как аксиома), но само сознание – болезнь»[52].
Возможно, то, что мы могли назвать «жизнью Достоевского», и есть это одновременное сосуществование подобных темпоральных состояний. Планы-биографемы открывают нам иное отношение к времени, иные типы длительности, которыми мы пренебрегаем, считая их несущественными, следовательно, устанавливают иное отношение к символике смерти, больше не сводимой к страху перед физическим концом. Та смерть, которая ключ к жизни, распылена в пределах существования и каждое мгновение прерывает ее ход, но остается как неучтенной фактор жизни. Жизнь как страсть бытия к небытию[53].
2. Morbus sacer. План «малой смерти», эпилептический
…эпилептики часто воображают, что их избивает дубинкой какое-то невидимое существо; поразительный же феномен эпилептического припадка, с внезапным падением оземь, искажением мускулов, стискиванием зубов и выпадением языка, несомненно, сыграл роль в формировании популярной идеи «одержимости». Неудивительно, что для греков эпилепсия была «священной болезнью»par excellence…
Э.Р. Доддс. Греки и иррациональное
Вопрос о том, когда началась болезнь Достоевского, вокруг которого время от времени вспыхивали споры, нуждается в пояснении. Когда и какое травматизирующее событие спровоцировало первые симптомы, имела ли она наследственный характер или благоприобретенный, насколько возможно клиническое описание болезни (например, «левовисочная эпилепсия», по диагнозу Бехтерева)? Никто, конечно, не вправе отрицать первостепенную значимость исторических реалий (документов семейной хроники, материалов судебных расследований, свидетельств болезни, доминирующей идеологии времени, общих социальных и политических процессов эпохи и т. д.). Или ставить под сомнение роль новых биографических источников. Но, как показывает, например, опыт последних лет, в исследовании биографии Достоевского даже самый «достоверный» факт вовсе не избавляет биографа от работы по восстановлению жизненной логики травматического события, той области существования биографического субъекта, где он пытается себя оправдать, сконструировать и где пребывает органичным себе, препятствуя внешнему служить Законом. Более того, это постоянно отыскиваемое, решающее свидетельство, которое могло бы покончить с темными местами в истории жизни и отрезвить слишком взыскующих «истины», упорно грозит биографу своим несуществованием. Мы не имеем документально подтвержденной истории болезни, существуют версии, но нет исчерпывающего клинического свидетельства. Это область исторического молчания архива, «зияние», которое не могут восполнить ни многочисленные и противоречивые свидетельства современников, ни их уклончивые ответы, ни ложные параллели, ни материалы и гипотезы современных биографий Достоевского.
Была ли «болезнь» до каторги? Упоминания пользовавших Достоевского врачей о «кодрашке с ветерком» или странные записки о страхе заснуть летаргическим сном (похожие на страхи Гоголя)… Можно ли связать в одно событие (как переживаемое) «отцеубийство» («цареубийство») – здесь выступающее в трансцендентальном значении биографического события – и то глубокое нервное потрясение, испытанное при получении известия о гибели отца и, возможно, спровоцировавшее первый припадок эпилепсии? А может быть, болезнь была вызвана телесным наказанием, якобы перенесенным в каторжном остроге или еще ранее в Алексеевском равелине на допросах по делу петрашевцев. Тогда «отце-и-цареубийство» мало иллюстративно, не говоря уже о том, что факт смерти отца переходит в другую версию жизни, другой событийный ряд. Как, впрочем, и отрицание самой версии «отцеубийства» меняет взгляд биографа на источники травмогенных ситуаций в жизни Достоевского[54].
Но стремление биографа – это, конечно, стремление к биографической истине, которая не может быть отыскана в одном времени и на одном уровне жизненного бытия. У Достоевского мы не находим признаний, которыми так богата переписка Флобера, ни игры в псевдонимию, как в литературных «театрах» Кьеркегора или Стендаля, ни психологизирующей рефлексии Толстого, ни тем более того, чего можно достичь выслеживанием мельчайших оттенков своих внутренних состояний, которыми так был занят А. Белый. Первое проявление болезни Флобер например, анализирует как «решающий» водораздел жизни (Понт-Эвек), и не просто как несчастный случай, но именно как событие, с которым надо считаться и не прекращать борьбы, хотя оно уже проникло в ткань психомоторных образов, «живет» в его теле[55]. Болезнь входит в жизнь с черного хода. Борются и побеждают боль, не безумие. Достоевский не борется с собственным безумием, оно ему не мешает; он придавал своей болезни совсем иное значение, не клиническое[56]. Примерно такое же «отношение к болезни» мы находим у Ван-Гога и Ницше, хотя их «безумие» имеет столь же систематический и ожесточенный характер.
Конечно, болезнь (частота припадков) не может быть планируема, как бы страдающий ни пытался опознать ее цикл в биографическом времени.
«ПРИПАДКИ. (1869)
ЗАМЕЧАНИЕ. Во Флоренции в продолжении лета припадки не частые и не сильные (даже редкие сравнительно), при этом сильный открытый геморрой.
3-ого августа припадок во Флоренции, на выезде.
10-ого августа припадок в Праге, дорогою.
19-ого припадок в Дрез дене.
4-ого сентября припадок в Дрездене. Очень скоро после припадка, еще в постели – мучительное, буквально невыносимое давление в груди. Чувствуется, что можно умереть от него. Прошло от припарок (сухих, гретые тарелки и полотенца с горячей золой) в полчаса.
14 – ого сентября. Припадок ночью в постели.
NB Да и все почти припадки в постели, во сне (в первом сне), около четвертого часу утра.
NB Сравнительно с прежними припадками (за все годы и за все время), этот, отмеченный теперь ряд припадков с 3-ого августа представляет собою еще небывалое до сих пор, с самого начала болезни, учащение припадков; как будто болезнь вступает в новый злокачественный фазис. За все прежние годы, не ошибаясь, можно сказать, что средний промежуток между припадками был постоянно в три недели. (Но это только средний, средний пропорциональный; то есть бывали промежутки и в шесть недель, бывали и в 10 дней, а в среднем счете выйдет в три недели.) Теперешнюю учащенность можно бы приписать резкой перемене климата Флоренции и Дрездена, дороге, расстройству нервов в дороге и в Германии и проч.
30-ого сентября, ночью, припадок довольно сильный (после вечерних занятий).
1870 года 1/13-е января припадок, сильный, после неосторожности, в шестом часу утра, в первом сне. Расстояние между припадками неслыханно длинное – три месяца и десять дней. С непривычки болезненное состояние продолжается очень долго: вот уже пятый день припадку, а голова не очистилась. Погода из хорошей (+2 или +3 градуса Рюомора) переменилась на слякоть. Припадок был почти в полнолуние.
7-е/19-е. Припадок в 6 часов утра (день и почти час казни Тропмана). Я его не слыхал, проснулся в 9-ом часу с сознанием припадка. Голова болела, тело разбито, короткость памяти, усиленное и туманное, как бы созерцательное состояние – продолжаются теперь дольше, чем
90 в прежние годы. Прежде проходило в три дня, а теперь разве в шесть дней. Особенно по вечерам, при свечах, беспредметная ипохондрическая грусть и как бы красный, кровавый оттенок (не цвет) на всем. Заниматься в эти дни почти невозможно. (Заметку пишу на 6-ой день после припадка.)
10 февраля/29 генваря.
В три часа по полуночи припадок чрезвычайной силы, в сенях, наяву. Я упал и разбил себе лоб. Ничего не помня и не сознавая, в совершенной целостности принес однако же в комнату зажженную свечу и запер окно, и потом уже догадался, что у меня был припадок. Разбудил Аню и сказал ей, она очень плакала, увидав мое лицо. Я стал ее уговаривать, и вдруг со мной опять сделался припадок, наяву в комнате у Ани (Любу вынесли), – четверть часа спустя после первого припадка.
Когда очнулся, ужасно болела голова, долго не мог правильно говорить; Аня ночевала со мной. (Мистический страх в сильнейшей степени.) Вот уже четверо суток припадку и голова моя еще не свежа; нервы расстроены видимо; прилив крови был, кажется, очень сильный. О работе и думать нечего; по ночам сильная ипохондрия. Засыпаю поздно, часов в 6 поутру; ложусь спать в четвертом пополуночи, раньше нельзя. Всю последнюю неделю стояли сильные морозы, градусов по 10. Теперь полнолуние. Во время припадка луна вырезалась свыше половины»[57].
«16/28 июня (1870)
Погода переменная, дождь и относительно холодно. Денег не шлют, и не знаю даже, когда получу. Романа кончил 5-ю главу. По ночам (две ночи кряду) работать почти не могу: прилив крови к голове, отупение, сонливость. Боюсь дурных последствий ночной работы (удара вроде того?).
Ночью видел во сне брата, он как бы воскрес, но живет особо от семьи. Я будто у него и чувствую, что со мной как бы что-то неладно: потеря сознания, точно после обмороков. Я пошел в какую-то ближнюю больницу посоветоваться с доктором. Брат будто ко мне ласковее.
Проснулся, заснул опять и как бы продолжение сна: вижу отца (давно не снился). Он указал мне на мою грудь, под правым соском, и сказал: у тебя все хорошо, но здесь очень худо. Я посмотрел, и как будто действительно какой-то нарост под соском. Отец сказал: нервы не расстроены. Потому у отца какой-то семейный праздник, и вошла его старуха-мать, моя бабка, и все предки. Он был рад. Из его слов я заключил, что мне очень плохо. Я показал другому доктору на мою грудь, он сказал: да, это тут. Вам жить недолго; вы на последних днях.
NB. Проснувшись утром, в 12 часов, я заметил почти на том месте, на которое указывал отец, точку, как бы в орех величиной, где была чрезвычайная острая боль, если щупать пальцем, точно дотрагиваешься до больно ушибленного места; никогда этого не было прежде.
NB Легкие мои опять наполняются мокротой; свистит и дышать тяжело. Вообще эта болезнь полтора года идет, видимо усиливаясь. Зарождается одышка.
NB. Должно быть, есть в настоящую минуту и припадки геморроя. Боль в животе, как перед кровотечением.
Пищеварение хорошо»[58].
«28 января припадок (довольно сильный)
Припадки. После перерыва в 5 1/2 месяцев в 1873 (в год редакторства)
– 20 апреля
– 4 июня
– 1 августа
– 3-го ноября
– 27 декабря
– 28 декабря
– 16 апреля (из сильных, головная боль и избиты ноги).
(NB. Суббота, 20 апреля, едва стало проясняться в голове и в душе; очень было мрачно; видимо был поврежден; 3-и сутки 19-е число было всего тяжелее. Теперь, 20 апреля, в 10 часов пополудни, хоть и тяжело, но как будто начало отходить.)
13 мая (из довольно сильных).
27 июня (довольно сильный).
9 июля (суббота, 29 июня.
Очень тяжело в голове и в душе, и пока еще очень ноги избиты).
15/27 июля (довольно слабый). Полнолуние. Погода сильно переменная, дней 5, солнце, ветер, дождь, затишье – все перебывает в день.
8 октября (ночью, сильный. В 5 часов утра).
Дни сухие и ясные.
18 октября припадок в пять часов утра, довольно сильный, но слабее предыдущего.
Дни ясные.
28 декабря, утром, в 8 часу, в постели, припадок из самых сильных. Более всего пострадала голова. Кровь выдавилась на лбу чрезвычайно и в темя отзывается болью.
Смутно, грустно, угрызения и фантастично. Очень раздражался. День ясный. Мороз до 1,5 градуса.
Итого, в 1874 г. с 28 января в год 8 припадков. с 28 декабря еще два припадка, один – 4 января
(1875 г.) и другой – 11 января.
8-го апреля (1875 г.). Припадок утром в 1/2 (второго) первого полуночи. Предчувствовал сильно с вечера, да и вчера. Только что сделал папиросы и хотел сесть, чтобы хоть 2 страницы написать романа, как помню полетел, ходя среди комнаты.
Пролежал 40 минут. Очнулся сидя за папиросами, но не делал их. Не помню, как очутилось у меня в руках перо, а пером я разодрал портсигар.
Мог заколоться. Всю неделю сырость, нынче (ночью) лишь полнолуние и, кажется, морозец. 8 апреля полнолуние.
NB. Час после припадка жажда. Выпил три стакана воды залпом. Голова же болит не так чтобы очень. Теперь почти час после припадка. Пишу это, сбиваюсь еще в словах. Страх смерти начинает уже проходить, но есть еще чрезвычайный, так и не смею лечь. Бока болят и ноги. Пошел будить уже 40 минут спустя Аню и удивился, услышав от Лукерьи, что барыня уехала. За полчаса до припадка принял opii bеnzoedi: 40 капель с водою.
Все время полного беспамятства, т. е. уже встав с полу, сидел и набивал папиросы, и по счету набил их 4, но не аккуратно, а в последние две папиросы почувствовал сильную головную боль, но долго не мог понять, что со мною, пока не пошел к Лукерье. Легкий геморрой, туго, начало геморроидальных шишек»[59].
«Счет припадков за 1873 год
20 апреля
4 июня
1 августа
3-его и 19-ого ноября
27 декабря
1874
28 января
16 апреля
13 мая
27 июня
15 июля
8 октября
18 октября
28 октября
1875
4 января
19 января
8 апреля
4 июля
Припадки 1875, 29 сентября, из сильных (но не из самых), в ночь, под утро, в 6-м часу по полуночи, после 3-месячного перерыва. Полнолуние, Тугость. Легкая геморроидальная кровь. Очень сильные приливы к голове. Раздражительность.
Октября 13. Утром во сне в 7 часов, не так сильный.
1876 г. Января 26. Понедельник утром, во сне, в 7 часов, из довольно сильных. 1-я четверть луны
Апреля 30, в пятницу утром, во сне, в 7-м часу, из довольно сильных. Прилив крови к голове. Грусть и ипохондрия. Последняя фаза луны. Перед тем сильно рас94 строил нервы длинной работой и многим другим.
Мая 7-ого, в 9 часов утра, довольно сильный, но слабее предыдущего. Очень долго не приходил в сознание. Мало выдавленных пятен. Не столько поражена голова, сколько спина и ноги. За два дня было дело.
Мая 14-го. Утром во сне, в 7-м часу. Довольно сильный.
Мало выдавилось крови, болят больше, ноги отчасти и поясница. Болит и голова.
За 1 1/2 дня было дело. Сильная раздражительность.
Июня 6-го, из средних, утром, во сне, болела пояс ница
Июнь 13-го. Утром, в 9-м часу, во сне, из средних, болит голова. Накануне геморрой.
NB. Небывалое учащение припадков.
Августа 10-го, утром, в Знаменской гостинице, после дороги по приезде из Эмса, из средних.
Августа 19, утром, из средних, сильно разбил члены.
Октября 10-го, утром, в 10 часу, во сне, довольно сильный. Раздражительность.
День ясный и морозный. 1-й день холодный.
15 ноября, в 10 час.
Утром, во сне. День ясный и мороз. Очень усталое состояние. Очень туго соображение.
Из довольно сильных.
1 февраля, во сне, в 10-м часу утра. День ясный, и начался мороз. Очень усталое состояние. Фантастичность, неясность, неправильные впечатления, разбиты ноги и руки. Из довольно сильных.
В ту же ночь было дело.
19 февраля припадок довольно значительный.
26 февраля припадок довольно значительный.
17 марта припадок из значительных. Сильная перемена погоды. Начало ущерба луны»[60].
«Припадки за 79–80 гг.
10 октября/78 г.
28 апреля /79 г.
13 сентября/79 г.
9 февраля /80 г.
14 марта /80 г.
7 сентября /79 г. Из довольно сильных, утром, без четверти 9 часов. Порванность мыслей, переселение в другие годы, мечтательность, задумчивость, виновность, вывихнул в спине косточку или повредил мускул.
6-го ноября 80 г. Утром в 7 часов, в первом сне, из средних, но болезненное состояние очень трудно переносилось и продолжалось почти неделю.
Чем дальше – тем слабее становится организм к перенесению припадков, и тем сильнее их действие.
NB. С 6-го сентября очень скоро началась оттепель, продолжавшаяся очень долго, почти две недели, после слишком ранней зимы. Предпоследний же припадок 8-ого сентября соответствовал тоже крутой перемене погоды, после долгого и мягкого лета, на холод и дождь»[61].
Давно известно, что эпилепсия – это «малая смерть»[62]. Припадок ожидаем, но его действие внезапно. В сущности, каждый припадок – это мгновенный и сокрушающий удар, «нервно-конвульсивный ураган»[63]. Ожидание наступления припадка стало привычным делом, частота и обилие выпадений из жизни (потерь сознания») навсегда устранила неожиданность и остроту первого припадка. Ожидание стало чем-то, что предвосхищает время, раз наступление болезни неизбежно… В первые часы после припадка (об этом свидетельствуют записи): ужасный, всепоглощающий страх, беспамятство, болезненная скованность тела, вплоть до кататонических явлений, заторможенность, нарушения зрения и ориентации в пространстве, спутанность в ощущениях, окрашивание красноватым оттенком предметов и, самое главное, полная амнезия, иногда кратковременная, но и ее бывает вполне достаточно, чтобы страдающий мог вновь и вновь переживать шок повторного рождения. Жалобы Достоевского на ослабление памяти. Страх себя не вспомнить, остаться другим (двойником), это и есть очаг самого жуткого страха. В отличие от Гоголя, чей страх всегда располагался во внешнем, был страхом, которого ждут и даже желают его прихода (а смех выступал в виде защитной реакции, опережающей действие страха). Гоголь пугает и боится, сам пугается до смерти, когда не смеется. Страх же Достоевского – это страх глубоко укорененный, страх перед повторным рождением, страх утраты себя; угрожающие сигналы идут отовсюду, стягиваясь в незримую воронку, сначала медленно и едва заметно, затем все с большим ускорением, и так продолжается до мгновения начала эпилептической атаки.