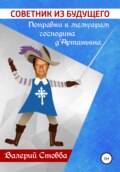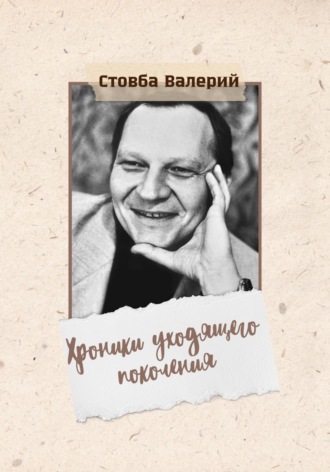
Валерий Николаевич Стовба
Хроники уходящего поколения
БОН-БОН
Мой отец с первого до последнего дня прошел дорогами Великой Отечественной от Сталинграда до Кенигсберга. В составе седьмой гвардейской на волжском пятачке он был начальником артиллерийской разведки бригады. Но так как эти функции в тех условиях были не востребованы, отец временно исполнял обязанности оперативного дежурного в штабе бригады. Эта должность, как он был уверен до конца жизни, напрямую была связана с Его Величеством Случаем. На примере двух рассказанных им эпизодов попробую обосновать правоту его мыслей. Так это или нет – судить вам, читатель.
В одно зимнее утро отец заступил на дежурство. В штабе бригады он застал такую картину. В землянке в отвесном берегу Волги шел допрос взятого накануне в плен итальянца. Переводчик задавал рядовому в форме вермахта вопросы, сформулированные офицером особого отдела. Тот, вытянувшись по стойке «смирно», обстоятельно отвечал: имя, фамилия, часть, ее месторасположение, снабжение, моральный дух и т.д. Чувствовалось, что итальянец говорит предельно откровенно, не утаивая даже мелочей.
Допрос закончился. Особист собрал листки с записью собранных сведений и направился к выходу из землянки.
– Капитан, – обратился отец к особисту, – а с итальяшкой что делать? Ведь он в вашем ведении.
– А он мне не нужен. Что, я с ним за Волгу поплетусь? Охренел, старлей…
– Нам он тоже без дела.
– Ну так шлепните его и всех делов.
– Это не в моей компетенции. Решай вопрос, капитан, с руководством.
Чертыхнувшись, капитан исчез за натянутым брезентом, где располагались начальник штаба и его работники. Через несколько минут особист, не говоря ни слова, покинул землянку. Из-за брезента вышел начальник штаба и, сморщившись, как от боли, проговорил:
– Вот так всегда. Вся грязная работа на нас. Но что им, особистам, докажешь? Лучше не связываться.
Помолчав, начштаба обратился к отцу:
– Я вызвал наряд. Командуй, Гвардия.
Гвардия – это военное прозвище отца, данное за то, что, не снимая носил знак гвардейца с момента присвоения бригаде этого почетного звания.
– Но…
– Никаких «но», Гвардия. Это – приказ. И офицер скрылся за брезентовым пологом.
Все это время итальянец продолжал стоять по стойке «смирно», напряженно следя за происходящим вокруг. В его глазах ясно читалась надежда дальнейшей жизни, которой его, фактически, уже лишили.
С улицы, впустив облако морозного воздуха, зашли два автоматчика:
– Прибыли в ваше распоряжение.
Первым к месту казни шел итальянец, за ним автоматчики, последним – отец. Подошли к наполовину засыпанной яме – там уже были присыпаны мерзлой землей тела нескольких ранее расстрелянных фашистов.
Сообразив, что сейчас произойдет, пленный не потерял еще последней надежды. Указательным пальцем правой руки он постучал по голове, произнес несколько раз: «Муссолини кукуруза».
Этим он хотел сказать, что лидер итальянских фашистов – глупый человек, идеи которого он не разделяет.
Наряд снял с плеч автоматы и стал напротив итальянца. Тот, видя, что его тирада не имела эффекта, пошел на «подкуп». Вынул из кармана грязной шинели несколько конфет и протянув руку в сторону наряда, произнес: «бон-бон, бон – бон», как бы угощая. Это были его последние слова, прерванные автоматными очередями.
Этот случай отец комментировал следующим образом. «Фашист есть фашист. Не поверю, что он не убивал наших солдат. Поэтому угрызений совести не испытываю. Но вот что знаменательно: именно во время моего дежурства произошел этот случай. Ведь могло быть иначе».
Как могло быть иначе и в феврале сорок третьего в том же штабе седьмой гвардейской.
Наши войска завершили окружение под Сталинградом частей под командованием фельдмаршала Паулюса. Разведка донесла, что Паулюс и его окружение, находящиеся в подвале разбомбленного универмага, готовы к сдаче. Командир бригады Бурмакин начал формировать группу солдат и офицеров для выполнения поставленной задачи. Отец стал в строй отобранных бойцов. Однако генерал спросил:
– Кто оперативный дежурный?
– Я, – отозвался отец.
– Остаешься на хозяйстве. Если нам повезет – сообщим тебе. Ты – срочно Чуйкову.
Паулюса арестовали. Осаду Сталинграда сняли. Чуйков с Паулюсом подняли тост за участников самой большой битвы в истории войн.
« « «
Слова отца: «Видишь, опять случай. В тот исторический день я опять был дежурным. А мог бы участвовать в операции. Но я не жалею, доволен своей жизнью. У меня и моих сверстников есть главное – мы поколение Победителей.
Комендант Тульчина
Седьмая гвардейская с боями все дальше продвигалась на запад. Порой немцы отступали практически без боев. Так произошло и под Тульчином. Передовые части намного опередили тыловые.
Перед командованием остро встал вопрос: на кого оставить город до прихода тыловиков? И опять, как и в Сталинграде, не повезло отцу. В наступлении без артиллерийской разведки можно было обойтись. Так отец стал первым после освобождения комендантом Тульчина. В подчинение ему дали двух солдат.
Далее привожу по памяти рассказ отца.
«Комендатура расположилась в брошенном частном доме. Одну из комнат оборудовали под приемную.
Другую – для отдыха. Две оставшиеся под склад и оружейную.
Первым делом я издал два приказа: о сдаче оружия и запрещении самогоноварения. Рядовой одним пальцем отпечатал их на машинке и вывесил в самых людных местах.
На следующий день нам сдали одно охотничье ружье, револьвер, несколько гранат и два немецких карабина.
Рейд моего помощника с автоматом по частному сектору принес свои плоды – два двадцатилитровых бутыля с мутноватой жидкостью
На следующий день утром, когда я брился, в комендатуру вбежал взволнованный помощник:
– Товарищ капитан, беда на вокзале. Вот-вот состоится смертоубийство.
– Что случилось?
– Наша пехота, следующая на фронт, обнаружила в одной из цистерн спирт.
Через десять, максимум пятнадцать минут мы были на вокзале. Действительно, в тупике, возле одинокой цистерны, была давка. Бойцы пытались штурмовать единственную лестницу, ведущую к открытому наверху люку. У кого были ведра, у кого бидоны, у кого фляги. Несколько человек, не поделившие места в очереди, зло мутузили друг друга. Окружающие их отпускали скабрезные реплики.
Что делать? Решение надо было принимать без раздумья, срочно. Иначе ситуация могла перерасти в перестрелку.
Вынув из кобуры револьвер, выстрелил в воздух:
– Я комендант города! Слушай мою команду!
Это произвело эффект неожиданности – настоящая сцена из «Ревизора». Толпа замерла. Воспользовавшись моментом, я сообщил солдатам, что спирта хватит всем. Я разрешаю наполнить их емкости. Однако требую установить очередь подхода к лестнице цистерны. Во всем должен быть порядок. После чего поставил у лестницы своего помощника, а сам залез на цистерну к люку.
Первым ко мне поднялся, держа в руках ведро, пожилой усатый сержант. Став на колени, он опустил ведро в люк, оттолкнул там что-то в сторону, наполнил ведро и вытащил его наружу. Я поинтересовался:
– Что там плавает?
– Да один дурак из наших поспешил, не удержался и нырнул.
Я заглянул в люк. На поверхности спирта плавал труп молодого парня с погонами рядового.
Обернувшись к сержанту, я не удержался от вопроса:
– Как же ты после этого пить будешь?
– Да ничего страшного. Проспиртовался
Довольно улыбнувшись, он спустился на землю.
С помощью желающих «живой водицы» мы вынули труп из цистерны, спустили на землю. Минут через двадцать его забрали однополчане.
Спустя час отоварилась вся очередь. Я опечатал цистерну и заставил железнодорожников, несмотря на нехватку паровозов, перевезти цистерну к самому помещению вокзала под личную ответственность начальника станции.
Для меня этот случай стал одним из символов войны: ужасная привычка к смерти, ставшая чем-то обыденным, привычным, естественным.
« « «
Ну, а мое комендантство завершилось уже на следующий день с приходом тыловиков. За мной пришла машина из части. Через несколько часов мы с помощниками прибыли в родную бригаду. Начальство выразило мне благодарность за проделанную работу. И особо – за конфискованные самогон и спирт.
История одного ордена
Шли кровопролитные бои под Сталинградом. Штабные структуры располагались в крутом берегу Волги. Здесь были выкопаны землянки, оборудованы укрытия, хозяйственные постройки.
В перерывах между налетами вражеской авиации берег оживал. Приставали катера с питанием, боеприпасами. Офицеры выходили на свежий воздух пообщаться, перекурить, воспользоваться туалетом.
С одного из катеров на берег сошел курьер из штаба армии. Прежде чем передать пакет, предназначенный для местных штабных работников, он остановился около группы знакомых офицеров. Обменивались новостями, шутили, курящие с удовольствием затягивались табачным дымом.
В это время на западе послышался гул немецких самолетов. Люди, находящиеся под открытым небом, пришли в движение, стремясь как можно скорее спрятаться в привычных норах.
Первый удар немецких бомбардировщиков пришелся на береговую кромку. Вздыбились от взрыва бревна одного из укрытий. В груду металла превратился не успевший отойти от берега катер. И здесь же в небе появились наши истребители. Один из вражеских бомбардировщиков задымил и, потеряв управление, врезался в холодную воду Волги.
Через пять минут воздушный бой прекратился. Из-под земли вышли наши бойцы, чтобы устранить результаты бомбардировки, восстановить укрытия, хозпостройки. На том же месте, что и перед налетом вражеской авиации, собрались офицеры, продолжая смолить папиросы, обсуждая результаты бомбардировки.
Рядом с ними располагался поврежденный ударной волной туалет. На уцелевшем половом настиле над выгребной ямой лежал упавший с креплений брезент.
Спустя некоторое время, стоявшие рядом офицеры заметили, что в том месте, где располагались круглые прорези в половом настиле, брезент время от времени начал шевелиться.
– Мужики, а ну пошли посмотрим, что там такое, – призвал товарищей один из офицеров.
Брезент оттащили в сторону. Открылась необычная картина. Из одного из отверстий торчали руки, державшие на весу планшет и объемный пакет из серой бумаги с печатями. Офицер стоял по плечи в жидких экскрементах.
Вытащив офицера из выгребной ямы, все узнали в нем курьера из штаба армии. Перед бомбежкой он решил оправиться. Результат этого захода был налицо.
Как потом оказалось, курьер был контужен взрывной волной и провалился под настил. Несмотря на это, сумел спасти документы, предназначенные для местных штабистов и боевые награды для вручения бойцам передовой. В результате действия экскрементов ожоги тела офицера составили пятьдесят процентов. С первым же катером его переправили через Волгу в госпиталь.
« « «
Как потом выяснил отец – участник тех событий – за проявленное мужество, спасение важных документов и боевых наград офицер был награжден орденом Красной Звезды.
И такое на войне бывает…
Слезы освобождения
Мою мать за связь с партизанами угнали в Германию, где она провела два года. Работала в частной пекарне, на заводе, производящем снаряды, в концентрационном лагере. В сорок пятом ее освободила наступающая Советская Армия в Данциге. Кратко привожу рассказ матери об освобождении женского лагеря.
С утра стали слышны раскаты артиллерии. В воздухе появились самолеты. Охрана нашего женского лагеря, расположенного в пригороде Данцига, обеспокоенно стала собираться в мелкие группы, что-то оживленно обсуждая.
На следующий день заключенных не повели на работы. Покормили только раз за день. Видимо, затормозил конвейер доставки продуктов. Канонада приближалась.
Еще через день мы проснулись и с недоумением, чувством облегчения увидели, что лагерной охраны нет. Стало ясно: солдаты, не получив приказа, как поступить в данном случае, оставили нас на волю судьбы, а сами поспешили унести ноги от стремительно наступающих наших частей.
Собравшись все вместе, обсудили положение. Остаться в лагере – означало возможность подвергнуться бомбардировке как нашей, так и немецкой авиации. Уходить – но куда? Предложения были разные. Общего мнения не удалось достичь. Решили, что каждый волен поступать сам по себе.
Я и несколько моих подруг пришли на окраину города и спрятались в подвале дома, уже покинутого жителями. Там просидели несколько дней, питаясь сэкономленными заранее продуктами: хлеб с опилками, сырая брюква. Воду брали из емкостей, заготовленных покинувшими дом жильцами.
Освободили нас пехотинцы. Дверь подвала распахнулась, и пожилой сержант окликнул: «Есть кто живой?» Видимо, уже встречался с нашими пленными, прятавшимися в подвалах.
– Есть, есть, – завопили мы, бросаясь навстречу избавителю.
Он вывел нас на улицу и довел до площади, на которой уже были собраны сотни полонянок. Откуда-то подвезли полевую кухню. Бойцы вволю накормили нас кашей. К чаю выдали по большому ломтю хлеба. Здесь мы провели весь световой день. А вечером, построив нас в колонну, два автоматчика сопроводили на территорию того самого немецкого лагеря, узниками которого мы были несколько дней назад.
А сколько слез радости освобождения было пролито женщинами в этот день, сколько поцелуев подарили девушки нашим бойцам.
В лагере тем временем налаживался новый распорядок дня. Кормили три раза в день. Не разнообразно, но сытно. Особенно в сравнении с рационом гитлеровцев. Остальное время мы были предоставлены самим себе. Можно было все, кроме выхода за пределы лагеря.
В одном из помещений расположились несколько офицеров особого отдела. Туда, согласно заранее составленным спискам, по одной вызывали бывших пленных женщин. Там побывала и я. Отвечая на вопросы особистов, рассказала кто я, откуда родом, когда и за что была угнана в Германию, где и на каких работах была занята. Кто мои родители, есть ли братья и сестры, где они сегодня.
Все эти сведения, объясняли нам, необходимы для оформления документов и отправки по домам. А кроме того, чтобы отделить от бывших пленных тех, кто стал «фольксдойч», служил фашистам, забыв о Родине.
« « «
Через месяц ее отправили домой в Белоруссию. Она поступила в педучилище. Но это уже другая история.
Контрибуция
Приезжая раз в год к деду в деревню Абраимовка Горецкого района Белоруссии, я не мог не заметить контрасты обычной деревянной избы – пятистенки и дорогой мебели, достойной барского поместья или мемориального музея жителя девятнадцатого века.
Диван и два кресла из какого-то набора мебели натурального красного дерева, по которому шла ручная резьба. Сиденья и спинки, покрытые толстым, ярких цветов, шелком. Сквозь протертые многими задами за десятки лет дыры проступал длинный темный то ли лошадиный, то ли человеческий волос.
И еще. Щи зимой или холодный свекольник летом в этом доме ели серебряными ложками с монограммой на латинице.
Откуда? Этот вопрос в один из летних дней я задал деду Харитону Ивановичу.
– Спроси у отца, – был его ответ.
Отец на этот вопрос дал детальный ответ. Все эти вещи и предметы были контрибуцией, полагавшейся капитану Советской Армии, с первого до последнего дня, прошедшего все тяготы Великой Отечественной. А оказались они в белорусском селе, поскольку в 1946 году отец был переведен из Брест-Литовска на Дальний Восток в Ворошилов Уссурийский. Тащить в такую даль импортную мебель было дорого и нерационально. А потому ее оставили в Белоруссии.
Продолжая тему контрибуции, отец поведал, что на его глазах офицеры с более высокими званиями, генералы вывозили на территорию СССР целые вагоны мебели, посуды, картины, другие художественные ценности.
Помолчав и, пристально заглянув мне в глаза, сказал, словно отвечая на мой немой вопрос:
– Не знаю. Может это и правильно. Вспомни, что они сотворили с нашей страной. А может и нет. Забирали у немцев практически все, что представляло малейшую ценность. А посчитал ли кто, сколько украли интенданты, распределявшие эти ценности?
Примирение?
В последние десятилетия на территории Новгородской области стали появляться кладбища, в которых захоронены солдаты фашистской Германии. Это кладбища у деревни Савино, на выезде из Великого Новгорода в сторону Шимска. И что характерно, за ними следят, ухаживают. Их посещают сотни туристов из Германии. К ним приезжают (правда, сейчас редко, мало осталось в живых) немцы, противостоявшие нашим войскам в этих местах в Великую Отечественную.
Такому течению событий в большой мере способствовало то, что немцы осудили и поставили вне закона любые намеки, попытки возродить фашистскую идеологию. А мы… Да кому мы по прошествии времени только не прощали!
В один из дней рождения я пригласил за стол своих друзей, товарищей. Один из них, зная мою тягу к истории, подарил фашистскую награду – «Железный крест» в идеальном состоянии. Крест, которым награждали только офицеров высшего ранга.
Не зная, куда его пристроить, я решил вручить его своему отцу ветерану войны (в то время ему оставалось жить полтора года).
Подарил. Отцу подарок понравился, вызвал ряд воспоминаний. А потом он вдруг замолчал, растерянно обернулся ко мне: «Что с ним делать? Хранить вместе со своими орденами?» У меня ответа не было. Только через определенное время я увидел фашистский орден среди тех, которыми был награжден отец, прошедший войну с первого до последнего дня, дравшегося под Сталинградом и Кенигсбергом, потерявшего в боях младшего брата.
Это что, тоже примирение?
Один из плеяды забытых
(Документальная повесть)
Предисловие
Семен Максимович Мирный – впервые услышал о нем из уст главного хранителя государственного Исторического музея Риммы Михайловны Семеновой, когда готовил заметку в «Комсомольскую правду» к 7 ноября 1975 года.
Через несколько дней после публикации мне позвонила жена Семена Максимовича Мирного – Нина Ивановна. Так у нас возник тройственный союз: я, Римма Михайловна и Нина Ивановна.
…Прошли десятилетия. Женщины ушли из жизни. Что мы втроем успели сделать? Собрать и систематизировать архивный материал о Мирном. Его жизни и деятельности посвящен диплом, защищенный мной на кафедре международного рабочего движения высшей партийной школы в Ленинграде. Остальной материал ждет своего автора. Рискну им стать, чтобы рассказать историю Фридмана (его настоящая фамилия) до последних дней его жизни. О жизни человека, которому шел красный бант на студенческом мундире, фрак дипломата, роль контрабандиста, потертый костюмчик учителя сельской школы, гимнастерка военкора.
2019
Глава 1. ПОРУЧЕНИЕ СЪЕЗДА
1918 г., ноябрь, Крым
Архивная справка «Мы прибываем на территорию России для водворения порядка, для освобождения ее от власти большевиков. Поэтому сведения, распространяемые большевиками о том, что союзные войска, придя на юг России, якобы будут выбивать германцев оттуда, – ложны. Германцы, как и мы, являются не завоевателями, а защитниками права и порядка, поэтому их и наши скрывающие большевиков, подлежат полевому суду.
Мы не признаем никаких организаций в России, кроме организаций, борющихся с большевиками, добровольческой и казачьей армий и армии Учредительного собрания, ввиду чего предписываем всем организациям, имеющим оружие, передать его специально назначенным на это представителям.»
(Из обращения англо-французских интервентов «К населению Юга».)
1918 г., декабрь, Крым
«Как бы ни так», – усмехнулся Семен и скомкал старый, еще за 10 ноября, номер «Ялтинского голоса», опубликовавшего обращение. Этот циничный документ, принятый на совещании в Яссах, даже не пытался скрыть подлинное лицо «защитников права и порядка». Между строк так и сквозило стремление с помощью белогвардейцев во что бы то ни стало сохранить за собой Крым и Севастополь – эту стратегическую военно-морскую базу, этот плацдарм для захвата Украины, планируемого наступления на Москву.
Кони лениво тянули подводу по крымской степи от Симферополя к Перекопу. К счастью, деникинцы не обращали внимания на худого, как жердь, Семена, удобно примостившегося среди проезжих: видавшее виды пальтецо, побитое дорожной пылью, надвинутая на лоб темная кепка, простенький свитер с растянутым на шее воротом. Наметанный взгляд патруля сразу признавал в нем одного из многочисленных горожан, двинувшихся на поиски более сытных мест.
Ничего удивительного. Даже здесь, под щедрым солнцем юга, не хватало продовольствия. Вернее, хлеб был, но большую его часть белогвардейцы вывозили за границу в счет царских долгов, в обмен на оружие.
Архивная справка: Цена пуда пшеницы на симферопольском черном рынке колеблется от 220 до 240 рублей. Фунт сливочного масла стоит 300 рублей. В Севастополе до 10 тысяч безработных. Многие рабочие семьи голодают.
Семен вспомнил последнее заседание подпольного обкома партии. Особую тревогу товарищей вызвало то, что численность оккупационных войск росла, как на дрожжах. Только в Севастополе части интервентов насчитывали уже более двадцати тысяч штыков. Три дредноута, восемь крейсеров, большое число транспортов Антанты блокировали советские берега Черного моря.
Так постепенно в оккупированном Крыму установился жестокий режим голода, насилия, террора. Не поколебало его и то, что в середине ноября вместо буржуазно-националистического правительства Сулькевича (генерала германской армии) к власти пришло «краевое правительство». Наконец-то Крым лег к ногам Крыма. Соломона Крыма –крупного феодосийского фабриканта, помещика, бывшего депутата первой Государственной думы. Именно он заполучил портфели премьер-министра и министра земледелия новоиспеченного правительства. Ориентация на англичан и французов не помешала ему дать прибежище под своим крылом эсерам, правым меньшевикам, что создавало видимость демократии.
И все же, несмотря на разгул террора, заигрывания правительства с различными политическими группировками, авторитет большевиков, ушедших в подполье, продолжал расти среди трудящихся Крыма. По поручению Центрального Комитета партии секретарь ЦК Я.М. Свердлов направил в Тавриду опытных проверенных большевиков: Ю. Гавена, Н. Островскую, Н. Миллера, Н. Пожарова и многих других. Они сумели на протяжении года сплотить вокруг коммунистов значительную часть рабочих, беднейших крестьян, организовать их на борьбу за победу в Крыму Советской власти.
Семен забросил ноги в телегу и, подложив под голову тощий заплечный мешок, лег на душистое сено. Возница–татарин молчал о чем-то своем, изредка поглядывая поверх лошадиных голов: вот-вот должен был открыться Сиваш.
«Итак, Крым позади, – констатировал про себя Семен, – но предстоит еще более трудная задача: вдоль побережья, через Николаев, пробраться в захваченную белыми Одессу…»
Правда, здесь, на Украине, каждый его шаг был предусмотрен Крымским обкомом партии. В котомке под головой – пять фунтов соли. То, что сегодня дороже золота. Ведь за деньги практически ничего не купишь. «Мэтэлыкы» гетмана Скоропадского, кайзеровские оккупационные марки, неразрезанные листы керенок, достоинством в миллионы рублей, ничего не стоили. А за фунт соли можно подрядить возницу вплоть до Одессы. На случай, если им заинтересуются белые, еще в Симферополе разработали легенду: папу, владельца мукомольни, убили большевики, а он бежит от красного террора.
– Сиваш, – обернувшись к Семену, старый татарин ткнул кнутовищем куда-то вперед.
И действительно, вдали уже виднелись свинцовые декабрьские воды Гнилого моря…
Товарищи оказались правы: сероватого цвета крупинки соли сделали свое дело – долго искать подводу не пришлось. Через несколько дней он уже был в Одессе, на явочной квартире секретаря подпольного обкома партии Елены Соколовской.
1918 г., декабрь, Одесса
…Разговор затянулся далеко за полночь. Несмотря на обилие дел, Елена Кирилловна, молодая красивая женщина с нездоровым от недосыпания цветом лица, обстоятельно расспрашивала Семена о положении в Крыму, о товарищах, о работе обкома. И тот подробно отвечал на ее вопросы. Рассказал, как был принят в партию, как в сложных условиях деникинщины вместе с товарищами готовились к проведению второго нелегального областного съезда Таврической партийной организации. Как в строгой конспирации три дня шли его заседания. Что избран новый состав обкома, в который вместе с известными большевиками–ленинцами вошли Е.Г. Богатурьянц, И.А. Назукин, М.Л. Рылова, И.М. Полонский и он, Семен Мирный.
Готовясь к решительному штурму деникинщины, коммунисты детально обсудили стратегию и тактику каждой партийной организации, необходимость согласованных действий с частями перешедшей в наступление Красной Армии. Одним из основных был вопрос об образовании после выхода из подполья Крымской Советской Республики. Ее провозглашение обещало серьезно активизировать борьбу национальных меньшинств полуострова против белогвардейцев и Антанты. Согласовать этот шаг с ЦК партии, с Наркомнацем И.В. Сталиным и был направлен съездом в Москву Семен Максимович Мирный.
Учитывая, что ему предстоит пробираться сквозь расположение частей генерала Деникина, сквозь разгул и погромы банд батьки Махно, Симона Петлюры, атамана Тютюнника, бюро обкома партии предусмотрело еще один канал связи. Если провалится Мирный, должен добраться в Центр другой член обкома – Ефим Шульман, чей путь пролег через Джанкой.
Закончив рассказ, Семен заметил на себе пристальный взгляд Соколовской:
– Связные подробно описали ваш внешний вид, – объяснила она. Но если бы не пароль – не узнала бы…
И Елена Кирилловна опустила глаза, уводя разговор подальше от нечаянного признания. Не могла же она обидеть гостя, признавшись, что вместо него ожидала встретить человека в более зрелом возрасте, с большим стажем партийной работы. Да и не имела права она не доверять молодости.
Архивная справка: Елена Кирилловна Соколовская была известна под партийными псевдонимами «Елена» и «Елена Кирилловна». Воспитанная в дворянской семье, она девчушкой уехала в Петербург на Бестужевские курсы. Примкнула к одному из революционных кружков. Принимала непосредственное участие в Октябрьских событиях. Партия направила ее на подпольную работу в Киев, затем в Одессу. Секретарю подпольного обкома было двадцать четыре года.
В.В. Вересаев: «…Молодежь толпами уходила в марксизм именно потому, что он широко открывал двери личному почину и инициативе, что указывал широкое поле деятельности для всякого, кто не боялся жертв и был готов идти на них.» (Из «Литературных воспоминаний».)
Архивная справка: Семен Максимович Мирный (Фридман) родился 22 декабря 1896 года в небольшом городке Грива Курляндской губернии. Отец, Максим Яковлевич Фридман, служащий лесничества, умер, когда Семену не было и пяти лет. Мать, Фрида Семеновна, работавшая страховым агентом в обществе «Россия», одна воспитывала четверых детей. Порой приходилось очень трудно. Чтобы хоть как-то помочь матери, Семен рано покинул дом. В Риге поступил в частную гимназию Ривоша. Особый интерес проявил к изучению языков. Латынь, греческий, латышский, немецкий, французский, как свидетельствовали экзамены, проведенные «под наблюдением депутатов от Рижского учебного округа», сдал хорошо, получив «право на поступление без испытаний в соответствующий класс правительственных мужских гимназий».
В 1913 году Мирный приобщается к самостоятельному труду: дает частные уроки, работает в различных конторах. Репетиторство помогает ему зарабатывать на жизнь и в Петрограде, куда переезжает в 1915 году. Учится вначале в четвертой гимназии, которую заканчивает 20 апреля 1917 года с серебряной медалью, а затем в Петроградском университете имени Петра 1.
Именно студенческая среда, критически настроенная к Временному правительству, бунтующая – определяет дальнейшую судьбу Мирного. Его маленькая комнатка на Екатерининском канале становится местом бурных дебатов молодежи вокруг событий на фронте, участившихся выступлений пролетариата.
До щепетильности скромный, тактичный, он оставил лишь скупые строки автобиографии. А потому о первом причастии его революцией известно крайне мало. В феврале 1917 г. Мирный среди демонстрантов с красным бантом на груди. В октябре – среди тех, кто штурмовал Зимний дворец. Принимает участие в аресте Временного правительства. Помните: «От Всероссийского Съезда Советов. Бывшие министры Коновалов, Кишкин, Терещенко, Малянтович, Никитин и др. арестованы Революционным Комитетом. Керенский сбежал. Предписывается всем партийным организациям принять меры для немедленного ареста Керенского и доставления его в Петроград. Всякое пособничество Керенскому будет караться, как тяжкое государственное преступление.»
З.С.Шейнис: «Его, Мирного, узкое интеллигентное лицо с очками, прикрывающими близорукие глаза, хорошо запомнил министр Щегловитов. Через некоторое время они встретятся в доме Чрезвычайной комиссии в Москве. Семен Мирный выйдет из кабинета Дзержинского и в коридоре лицом к лицу столкнется со Щегловитовым, которого ведут на допрос. «Товарищ, вы меня узнаете? – неожиданно обратился «бывший» к Семену Мирному.
«Я вам не товарищ» – ответит Мирный и они разойдутся.
Архивная справка Осенью 1918 года по рекомендации Чрезвычайной Комиссии ЦК партии направил Мирного на подпольную работу в Крым.
…Получив у Елены Кирилловны явки в Киеве, Семен вновь отправился в путь. Через Киев, Харьков в Москву.
1918 г., декабрь, под Киевом
Выйдя из теплушки на одной из узловых станций за кипятком, Семен направился к зданию вокзала. Выделив его из потока приезжих, путь преградил гайдамак:
– А ну стий! Хто такый?
– Человек.
Дыхнув сивушным перегаром, тот ухмыльнулся:
– Бачу, що нэ баба… По морди бачу – червоный…
– Ошибаетесь, пан, попробовал уладить назревший конфликт Мирный, я бегу от красных. Коммунисты расстреляли моего отца.
– За що ж цэ?
– Он был владельцем мукомольни.
– Хто цэ? – к гайдамаку подошли другие патрульные, одетые в добротные украинские свитки, шаровары, заправленные в сапоги, смушковые папахи. За плечами трехлинейки. У начальника патруля на поясе маузер: – Бильшовык?
– Кажэ, що ни…
– Ну так жыд, хиба нэ бачыш? – начальник патруля профессионально, почти без замаха, ударил Семена в живот.
Гайдамаки, расценив это как приказ, присоединились к старшему. Били методично, расчетливо, жестоко. Семен, понимая бесполезность сопротивления, пытался прикрыть руками голову, живот, но это почти не удавалось. Тело уже было сплошным сгустком боли. Изо рта стекала струйка крови.
«Убьют, гады», – пронеслось в голове и почти тотчас раздался голос начальника патруля:
– Годи, хлопци, бо мэртвого нэ розстриляеш…
Избитого, с трудом поднявшегося на ноги Семена поручили пожилому усатому гайдамаку: «В розпыл його, Мыколо…» Дуло винтовки уперлось Семену в спину, и они пошли в сторону околицы.