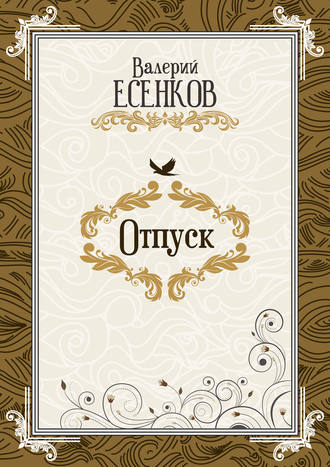
Валерий Есенков
Отпуск
Но если бы только эта одна сторона. Краевский наделен был проницательностью дельца, а не убежденного человека. У Краевского не имелось никаких убеждений, он не принадлежал и к одной из сложившихся партий, не имел твердых политических взглядов и даже определенных эстетических вкусов и менял программу журнала как флюгер, он и занимался журналом не из желания просвещать, распространять какие-либо идеи, пропагандировать идеи, философские и политические, а единственно ради наживы. Это был просто-напросто умный, умелый торговец плодами чужого умственного труда, выпускавший из своей лавки полноценный товар, на какой в данное время был спрос среди массы подписчиков, умевших и желавших читать.
По этой причине непроницаемый взгляд убежденного человека представлялся смешным и немного обидным, так что в ответ Иван Александрович пустился в игру с этим проницательным человеком, улыбаясь безучастно, одними губами:
– Готов сочувствовать вам, но и намеки нынче запрещены, ничего не попишешь. На этот раз попробуйте обойтись без намеков.
Краевский невозмутимо отрезал:
– Без этого рода намеков статья не имеет ни малейшего смысла. Без намеков и вся журналистика перестанет существовать.
Сообразив, что Краевский, должно быть, своим тонким купеческим носом учуял едва приметную, едва слышимую потребность общественных перемен, которая, кажется, наконец и у нас закружилась в умах, он ещё раз вежливо двинул безучастные губы, словно выражая сочувствие, и вдруг неожиданно, снизу испытующе заглянул прямо в пустые глаза:
– Простите, если я не совсем буду прав, однако без этого рода намеков смысла в статье только прибавилось, хотя, в самом деле, довольно пустая статья. Что же касается до журналистики, то журналистика как-нибудь проживет, ежели, впрочем, отыщет намеки потоньше.
Ни одна черта не изменилась в натянутом, стылом лице, только голос Краевского стал ещё суше, ещё холодней:
– Мне сказывали, Иван Александрович, что у вас с Некрасовым завелись свои счеты.
Он подивился, что Краевский так осмелел, стало быть, в самом деле почуял, независимость мнений своих бережет, поскольку независимость может принести большие проценты. И какой все-таки пошлый, гнусный намек! И как плохо понимает его даже этот проницательный человек, если решился такие вещи в дело пустить!
Но он тоже не переменился в лице, не позволяя себе обижаться. Клеветы в его жизни хватало, и он, недоумевая долгое время, когда слышал её, весь сжимаясь и тайно страдая, наконец и против неё отыскал афоризм:
«Не стоит смущаться, – рассудительно напоминал он себе всякий раз, – если даже весь мир называет тебя убийцей или лжецом, а ты по совести знаешь, что ты ни тот, ни другой, как нельзя обольщаться, если весь мир признает тебя своим идолом, кумиром, вождем, а в душе твоей копошится сомненье, которое тебе говорит, что ты не идол, не кумир и не вождь, а обыкновенная своекорыстная дрянь. Довольно знать, каков ты на самом деле, и пусть себе говорят, что хотят…»
И он тронул точно безжизненную руку Краевского:
– В самом деле, поэзия Некрасова мне нравится мало. Это, если позволите такое сравнение, скорее рогожа, однако щедро расшитая шелком.
Тут он плотно сжал свои тонкие губы, глаза его на мгновение сурово блеснули из-под больных покрасневших полуопущенных век. Не повышая голоса он внушительно произнес:
– Однако заметьте, любезный Андрей Александрович, что, по моему глубочайшему убеждению, которое не может не быть вам известно, Николай Алексеевич – настоящий поэт и человек с убеждением, хотя и не совсем нравится мне, и я никогда, вот именно: никогда не позволил бы себе вычеркнуть имя его по своей прихоти, тем более из чьей-нибудь выгоды. Считаю своим долгом довести это обстоятельство да вашего сведенья.
Краевский продолжал глядеть холодно, отчужденно, прямо в глаза, так что невозможно было угадать его мыслей, но в ровном голосе вдруг прозвучала угроза:
– В таком случае я стану жаловаться министру.
Вот тебе и вся независимость мнений, а напустил-то на себя, напустил!
Довольный таким следствием своего замечания, он весело фыркнул и отмахнулся рукой:
– И совершенно справедливо изволите поступить: запрещение сделано самим Авраамом Сергеичем, которому дано указание свыше.
Краевский тяжело, недружелюбно поглядел на него и резко спросил:
– И вы отказываетесь что-нибудь сделать на свой страх и риск, когда речь зашла об этом настоящем, как вы изволили верно заметить, поэте?
Вот и поговорили, а ведь он к Краевскому относился терпеливо, терпимо, вовсе не хуже, чем к остальным редакторам и знакомым, хотя обыкновенно скучал, когда беседовал с ним, и ему всегда становилось неловко под его непрерывным пристальным остановившимся взглядом из глубины равнодушных, безмысленных глаз.
Полусонно опустив тяжелые веки, точно обдумывал, не поступить ли в самом деле на свой страх и риск, он невольно припомнил, что Иван Сергеич приходил в замешательство, когда Краевский вот так же, как тому представлялось, в самую душу, и без возражений принимал любые условия, какие бы ни предложил проворно-деловитый редактор, не зная потом, как отвертеться от них.
Он и сам ощущал, как в его душе нарастало желание уступить, лишь бы избавиться поскорей от неумолимого, твердого, без определенного содержания взгляда, и следил, точно играя с собой, как желание становилось всё нестерпимей, однако он не мог уступить, и ему доставило удовольствие, не открыв глаз, равнодушно сказать:
– Вам же известно, Андрей Александрович, что не только ради Некрасова, но и для вас… – он помолчал, чуть выделяя последнее слово: – для ва-а-ас и рад и готов бы стараться, да зачем же нам рисковать из-за нескольких, ну, скажем так, незначительных фраз?
Краевский отрывисто бросил, не улыбнувшись, ничем не выразив своих чувств:
– Боитесь?
Так, так, а ведь он не боялся. Влепят в крайнем случае выговор, обыкновеннейший выговор, устно или в приказе, который может испортить хорошее настроение, но который не сможет его погубить. Разумеется, было бы неприятно, день или два, не больше того. И говорить о таких пустяках не хотелось, да и не находил он приличным оправдываться ни перед кем, тем более перед увертливым, осторожным редактором, который никогда не был таким решительным храбрецом, каким мог кому-нибудь показаться благодаря своему неотразимому взгляду удава. В подобных случаях он равнодушно молчал, предоставляя думать о себе что угодно, однако в эту минуту его тянуло развлечься, в конце концов подобные развлечения были единственным средством не зачахнуть совсем в его невеселой, однообразной, утомительной и, как он считал, неудавшейся жизни. Он подхватил простодушно:
– А как же? Конечно, боюсь.
Краевский наконец приподнял широкие брови, и в неласковых серых глазах промелькнуло злорадное торжество.
Наблюдая за ним, Иван Александрович откинулся в кресле, поиграл пальцами, сложенными на животе, и ласково продолжал:
– Однако ведь вы, маршал нынешней журналистики, как изволят болтать досужие языки, у вас нынче полтора или два миллиона, которые вы нажили трудами, можно сказать, всей русской литературы, нас всех печатая почти безотказно, а вы ведь тоже боитесь, осмелюсь вам доложить.
Краевский выпрямился, даже дрогнули губы, точно намеревался презрительно улыбнуться да передумал, и вопросительно поглядел на него.
Он ещё ласковей подтвердил:
– Ну, разумеется же, боитесь, без моей визы печатать не станет, потому что знаете, что там и как.
Краевский стиснул зубы и отвел наконец пустые глаза.
Он же был очень доволен собой, лукаво взглянул на него из-под ресниц, заметил морщины, прорезавшие невысокий, всегда такой безмятежный, такой добродетельный лоб, и задушевно прибавил:
– А я все-таки не обвиняю вас в трусости, упаси бог. Обвинять в трусости законное право имеет лишь тот, кто сам решительно ничего не боится. Я боюсь, для чего мне скрывать. Случись что со мной, ну, ежели я на свой страх и риск подпишу, вы имя мое, прямо вот так: «Иван Александрович Гончаров», в свое завещанье не вставите. Ведь не вставите, а?
Краевский рассеянно, словно сосредоточенно обдумывал эти слова, раскрыл массивный золотой портсигар, небрежно извлек из него дорогую сигару, затем, верно, вспомнив, что не один, мягким жестом предложил и ему.
Он рассмеялся тихим ласковым смехом, отстранил от себя портсигар ещё более мягким, изысканным жестом руки, шутливо отнекиваясь:
– Что вы, что вы, я взяток не беру и борзыми щенками… и в завещание тоже к вам не прошусь, не подумайте, это всё так, только к слову пришлось.
Краевский тотчас убрал портсигар в боковой карман сюртука, повозился с сигарой, поискал глазами огня, забыл закурить и неожиданно для него пожаловался суховатым, но все-таки дрогнувшим голосом:
– Однако, позвольте, Иван Александрович, у меня остался всего один день, а под рукой решительно ничего, хоть плачь или, хуже того, хоть дело свое закрывай. А ведь это журнал, орган, так сказать, просвещения. Необходимо его охранять, необходимо сохранить для прогресса. А когда вы наконец решитесь печатать роман, милости просим, мы, со своей стороны, вам навстречу с полной нашей охотой пойдем.
Он улыбнулся с искренним сожалением:
– Я не собираюсь печатать роман. Как вы изволите знать, романа ещё нет ни на бумаге, ни в голове, я даже, помнится, возвращал вам однажды аванс. А ежели бы вдруг написал и решился печатать, то на основаниях общих, как всем, так и мне, за лист по двести рублей, мне чужого не надо.
Краевский нижнюю губу закусил, подумал о чем-то, сунул сигару в карман и раскрыл дорогой английский портфель:
– Ну что ж, покорнейше прошу с наивозможнейшей быстротой просмотреть вот этот пустяк.
Он принял стопочку жирных, сочно пахучих, измазанных корректур и дружески обещал:
– Разумеется, тотчас примусь.
Краевский поднялся, поклонился и оставил его.
Иван Александрович снова остался один в свете желтоватого бледного дня, минут пять посидел безучастно, размышляя о том, что обязанности его не только утомительны, но и в нравственном отношении тяжелы, хотя ни в чем постыдном упрекнуть его было нельзя, и, вздрогнув, тоже беспокойно, нервно поднялся.
Расчетливый Краевский, бесстыдный стяжатель, делец, все-таки прибавил труда.
Он вызвал всё ещё виновато глядевшего Федора и строгим, на этот раз непререкаемым тоном приказал решительно никого не впускать.
Статейка, оставленная Краевским, оказалась случайной, пустой, из того хлама, каким обыкновенно затыкают внезапные дыры во всех подцензурных изданиях, однако он удвоил внимание, просматривая её, несколько раз чертыхнувшись в душе, и от этих чертыханий, отвлекавших и, как представлялось ему, озлоблявших его, иные места перечитывал по нескольку раз, наконец, вздохнув тяжело, точно сваливал с плеч долой непосильную ношу, аккуратно, разборчиво подписал и отправил с посыльным.
А время ушло. Он читал дальше, курил, пил черный кофе, уже не бодривший его. Усталая голова разрывалась от боли. По этой причине, обхватив лоб свободной левой рукой, он через силу просматривал оттиски, вычитанные им позавчера и вчера, вновь набранные ночными наборщиками и возвращенные ему на последний досмотр.
Черепашьим шагом, но все-таки стол очищался, работы оставалось всё меньше. Предчувствуя отдых, смертельно необходимый ему, он набросился на неё, как долгим перегоном заморенная лошадь, с натужным азартом.
Глава третья
Передышка
Но – нет!
В дверях прошелестело женское платье, впорхнуло, уселось, покрывши волнистыми модными юбками почти весь широкий диван, и защебетало беспечно:
– Что это вы сидите тут взаперти? Такая удивительная погода, а вы взаперти! Бросьте, бросьте немедленно! Я нарочно заехала вас похитить для нас! Мы отправляемся…
Он поднялся, поклонился вежливо, как привык, проклиная чертову куклу, приложился губами к уже освобожденной от тесной перчатки теплой душистой руке, придвинул свое старое кресло, галантно уселся поближе, приготовившись слушать и отвечать, и смотрел не мигая, беспомощным взглядом, с трудом одолевая себя, на кокетливую лиловую шляпку с серым пером какого-то петуха, без раздражения, устало думая про себя, что ещё один лишний час, может быть, целых два придется торчать взаперти, как было только что сказано с удивительной точностью, в прокуренном воздухе, с кандалами служебного долга, с этой смешной вертихвосткой, с которой был случайно, светски знаком и которой из деликатности делал два три коротких визита за целый год.
Он так устал, что в душе вспыхнула, собрав, должно быть, последние запасы энергии, жажда бежать, где-нибудь спрятаться, запереться в какой-нибудь одинокой, недосягаемой келье, в убогой хижине, за Байкалом, посреди сибирской тайги, где бы все оставили его наконец, где бы дали спокойно работать, спокойно дышать, где бы он был волен распоряжаться собой.
Эта жажда означала одно: спешная работа доконала его. Он нехотя присмотрелся к себе, всякий раз обращаясь к анализу, как только темные силы поселялись в душе. Он обнаружил, что измучен людьми, которые врывались к нему то с делом, то без всякого дела, что уже готов был топать ногами, визжать и крушить вокруг себя всё без разбора, то есть что он приблизился к крайней черте.
Это состояние духа он знал наизусть. Тут было всего важней не смигнуть, и он не смигнул, не побежал никуда, даже не тронулся с места. Он призвал на помощь все правила, которыми в любых обстоятельствах обязан руководствоваться порядочный человек, и на птичий щебет ответил с доброй насмешкой:
– Я с вами согласен: нехорошо сидеть взаперти, однако, помилуйте, я выходил, там дождь или снег. У вас цвет лица изумительный, но такая погода может повредить даже вам. Вы решительно погубите свою привлекательность. Поберегите себя ради нас. Анна, Павловна, я вас умоляю.
Анна Павловна кокетливо поправила свой пегий, искусно завитый локон. Анна Павловна придала невыразительным выпуклым серым глазам сентиментальную дымку. Анна Павловна, несмотря на короткий вздернутый носик, вздохнула с романтической грустью и томно призналась:
– Ах, боже мой, моя привлекательность! Не говорите больше о ней! Всё в прошлом, решительно в прошлом! Хотя я почти молода! Но в мои лета, признайтесь, можно выглядеть лучше! Вы не поверите, Иван Александрович, дав года назад, когда у нас отняло вас это гадкое путешествие, вы ещё имели бы право называть меня привлекательной! Тогда, можете представить себе, я ещё обходилась, пардон, без корсета…
Он с пониманием улыбнулся, проклиная на этот раз и её, и корсет. Ощущение было такое, что его поймали, как мышь, поймали в собственном доме, из которого, к несчастью, нельзя улизнуть, и ему начинало казаться, что ещё через миг он все-таки вскочит, заверещит благим матом, что-нибудь разобьет и в бессильной ярости растопчет злыми ногами.
Его выдержка начинала сдавать. Он тяжело оперся на широкий твердый подлокотник. Он как-то вяло и нехотя корил себя за несдержанность и за эту самую невозмутимую выдержку. Он понимал, что самая обыкновенная грубость тотчас бы оттолкнула её, что он должен был бы упрямо, ненарушимо молчать, глядя ей прямо в глаза, чтобы выкурить поскорее эту болтливую бестию, способную испугаться даже не брани, а одного гробового молчания, что любое произнесенное слово, пусть бы и нехотя, пусть невпопад, лишь подливает масла в огонь и в ответ вызывает бурный поток самой бессмысленной трескотни, которая грозит затянуться до вечера, но он не умел бестактно молчать перед женщиной, тем более по-мужицки грубо заорать на неё, и потому не мог не поддержать завязавшийся разговор. Не позволяя себе хотя бы недовольным выражением на лице показать, что она помешала ему, он разрешил себе только тонкую шпильку, понятную ему одному, и любезным тоном сказал:
– Такие женщины, как вы, не стареют. Вы уверяете, что вам тридцать лет, и в самом деле вам можно дать почти столько, хотя три года назад вам было сорок. Мы тогда встречались у Майковых, и вы вспоминали, что вам не было тринадцати лет, когда на Сенатской площади стряслись эти ужасы и как вы тогда испугались. Для вашего возраста у вас превосходная память.
Так незаметно он потешался над ней полчаса, а она хохотала до слез и наконец ушла от него в совершенном восторге, на прощанье с лукавой улыбкой сказав:
– Не примите за лесть, но вы самый любезный из моих кавалеров! Непостижимо, как это вы до сих пор не женаты!
Он собственными руками задвинул засов, для верности ещё накинул стальную цепочку и крикнул рассерженно Федору:
– Почему ты принял её?
Федор, стоя в дверях своей комнаты, плечами под притолку, выставив по-гусиному голову, покорно глядел на него, без страха, без упрека в неподвижных глазах и объяснил монотонно, точно давясь, как это вещи такие простые, а не могут понять:
– Барыня-с… я подумал, вы станете гневаться, если я не приму-с…
Он поднял брови и попробовал возмутиться:
– На прошлой неделе ты не принял такую же барыню, зачем же эту впустил? Кто позволил тебе?
Федор взглянул на него как на своего дурака и растолковал с неумолимой доходчивостью:
– Та пешком пришла и одета была не по-своему, я подумал, станет на бедность просить, обеспокоит, а у этой свой экипаж и в шляпе какое перо! На козлах кучер в ливрее, эдак сидит, по-русски молчит, англичанин, верно, какой! Помилуйте-с, как не принять!
Он засмеялся, дивясь, что есть ещё силы смеяться:
– Она фрейлина при дворе, так это не её экипаж, а фрейлинам дозволяется выезжать.
На это Федор, не меняя позы, резонно заметил:
– То-то и есть, что фрейлина, при дворе, на бедность не станет просить, а на экипаже ничего не написано.
Он отступил перед сокрушительной логикой и только неуверенно пригрозил:
– Смотри у меня…
Федор поглядел удивленно, пригнулся и убрался к себе. Иван же Александрович сел поспешно к столу, но ещё долго не понимал ничего. Перед глазами мельтешила проклятая фрейлина, шляпа с пером, экипаж. Её сменил неприступно молчавший Краевский. Затем припомнились философские нравоучения Федора. Словно отвечая кому-то, он проворчал про себя:
«Когда тут писать, читать не дают!..»
Глава четвертая
Перед зеркалом
Ему больше не помогали ни сигары, ни кофе, а колокольчик надрывался от ярости, требуя красными чернилами измаранных корректур, чтобы успеть в который раз перебрать и возвратить для новой проверки.
Уже подходило к обеду, когда он сбыл последние с рук. Оставалось с десяток убористых рукописей, по каким-то причинам не вставленных в выходившие номера, и он в беспамятстве принялся было за них, но отступил наконец, обнаружив, что больше не в состоянии видеть исписанную бумагу.
Тогда, решив отложить эту мороку дня на два, он закурил хорошую, ароматную, длинную, толстую дорогую сигару, пересел на диван, чтобы в полной мере насладиться прелестью тонкого табака, и прикорнул в уголке, не выпуская сигары из судорожно стиснутых пальцев.
Очнувшись минут через двадцать, Иван Александрович раскурил ей вновь и точно застыл, потягивая легкий сладковатый дымок, не думая решительно ни о чем. Он просто сидел, наслаждаясь долгожданным покоем, не бодрствуя и не дремля.
Потом позвонил, призвав к себе Федора, и спросил одеваться. Служба кончилась. Настало время личных, собственных дел: размять ноги, подышать свежим воздухом, где-нибудь пообедать, удовлетворить свою страсть наблюдателя жизни, встретиться, может быть, с кем-нибудь.
Он перешел в туалетную комнату, куда Федор уже перенес из гардеробной белье и костюм, и едва узнал себя в исправном, безукоризненном зеркале.
С зеленого измятого осунувшегося лица в глубоких морщинах и складках глядели какие-то обесцвеченные, невыразительные глаза, с головками назревающих ячменей на покрасневших раздувшихся веках, обведенные синюшными тенями.
Он любил повторять себе и другим, что здраво мыслящий человек может быть счастлив только за делом, если, разумеется, позволительно думать о счастье здесь, на земле, и теперь, глядя в темное зеркало на свой опустошенный, изношенный лик, передразнил себя без улыбки:
«Ты это неплохо придумал, почтенный философ, чего доброго, скоро, пожалуй, станешь абсолютно счастливым… когда прежде времени загремишь на тот свет…»
Смерть сама по себе его не страшила. Долгие годы приучал он себя безропотно покоряться неизбежному ходу вещей, как подобает поступать разумному существу, а смерть была неизбежна, как жизнь, когда-нибудь она с ним случится, это всё.
Свидание с ней было бы, может быть, несколько легче, если бы удалось оставить хоть слабый, но приметный следок на земле, да он разуверился в этом давно, тоже как подобает разумному существу, проследившему, как зыбки, преходящи наши следы, и жил, как жить удавалось, то есть жил понемногу.
Стало быть, и довольно об этом предмете болтать. Он прыснул хорошим немецким одеколоном и обтер обнаженное тело. Кожа, похолодев, стала вновь упругой и гладкой. Щегольская сорочка тонкого голландского полотна заставила расправить усталые плечи. Тугие темно-серые брюки приятно подтянули обширный живот. Строгий черный сюртук возвратил невозмутимую холодность. Он строго кивнул своему помолодевшему отражению в черном стекле:
«Ты, разумеется, стар, но пока ещё тлеется капля мужества жить, так что рано думать о смерти…»
В самом деле, морщины утратили резкость и глубину, сделавшись словно бы элегантней и строже. Полное, словно чуть заспанное лицо превратилось в обычную маску покоя, равнодушия решительно ко всему, спрятав поглубже усталость, страсти и ум. Искусно и тонко мороча, такое лицо заставляло многих считать, что у достойного владельца его всё в полнейшем порядке и что он всем и всеми на свете доволен, в особенности доволен собой.
Оглядев себя ещё раз, он дрогнул углами умного рта:
«Неказисто с достоинством, и то хорошо, не было бы хуже чего, а лучшего не бывает, да и может ли быть?..»







