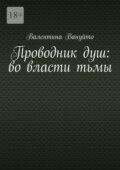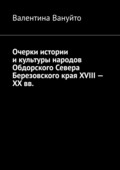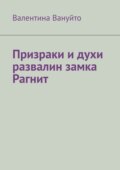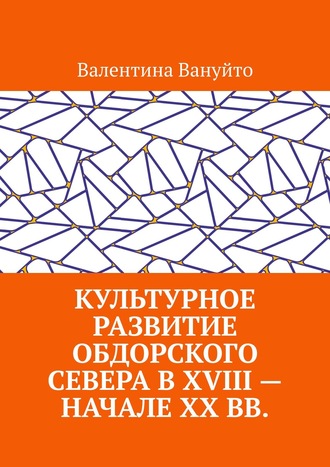
Валентина Вануйто
Культурное развитие Обдорского Севера в XVIII – начале XX вв.
Освоение и развитие хозяйственной деятельности коренного и русско-зырянского населения
История Обдорского края в течение трех столетий была связана с формированием политических, идеологических, социально-экономических условий вхождения ее в состав Российской империи и их освоения. Стремительное продвижение русских промышленников в Сибирь в XVIII – XX веке связано с добычей пушнины, торговля которой, находившая спрос на русских и зарубежных рынках, оказала заметное влияние на темпы присоединения Сибири к России и на характер русской колонизации Обдорского Севера. Торговля пушниной способствовала накоплению крупных купеческих капиталов. Сибирские меха были важным источником государственного бюджета.
Миграции ненцев по тундре привели к становлению крупностадного оленеводства. До середины XVIII в. оленей использовали только в транспорте: «А ездят на оленях и собаках…».162 Крупностадное оленеводство у ненцев стало развиваться с середины XVIII в. и окончательно сформировалось к XIX в. К этому времени оленеводами была создана культура, почти идеально приспособленная к условиям арктической тундры: «Главное богатство самоеда заключается в стадах оленей: есть олени, и – самоед сыт, одет, обут, платит ясак и повинности, накупает себе и домочадцам обновы, находит сивуху, и – весел; нет оленей – хоть живьем в могилу ложись».163 Оленеводство «каменных самоедов» привело к унификации культуры и распространению единого диалекта среди ненцев.
Оленеводы стали расширять пространство своих кочевий от границ тайги до арктических берегов, от Таймыра до Большеземельской тундры: «Они делают сии переходы со всем своим семейством, оленьими стадами, хозяйственными заведениями и вообще со всем своим богатством, но, переходя, занимаются ловлей зверей, птиц и рыбы».164 При этом оленьи стада находились под постоянным наблюдением пастухов-оленеводов: «в стаде завсегда бывает пастух, надзирая, чтобы который олень куда-нибудь не утратился».165
В течение года оленеводы со стадами совершали сезонные перекочевки: весной к северу, осенью к границам леса.166 Кочевья достигали значительной протяженности – от 500 до 1000 км. Оптимальность маршрутов объяснялось хорошим знанием особенностей пастбищ, мест для стоянок. Жизнь на лоне суровой природы выработала в ненцах повышенную наблюдательность, что стало причиной их глубоких познаний в области географии, естествознания, астрономии, помогая безошибочно ориентироваться в бескрайних снежных пустынях, выживать и адаптироваться в самых экстремальных условиях и ситуациях. Литература, касающаяся оленеводства севера Западной Сибири, начинается с трудов В. Ф. Зуева, П. Палласа, И. Лепехина.167
Вначале размеры стад были невелики: «для безбедного существования семьи необходимо от 80 до 100 оленей. Средним счетом каждый самоед владеет не более чем 17 оленями».168 Начиная с конца XVIII – начала XIX в. среднестатистическое стадо увеличивается и колеблется от нескольких десятков до нескольких тысяч голов. Чем больше стадо, тем легче его охранять из-за чувства стадности оленей. У богатых оленеводов стада оленей насчитывали «до трех тысяч езжалых, …но кроме сих уже за множеством неизвестное ему число не наезженных оленей в тундре в стадах просто шатаются».169 Пасли такое крупное стадо бедные родственники, у которых «оленей бывает у скуднейшего от десяти».170
В 1847 г. всего насчитывалось до 150 000 домашних оленей.171 По сведениям А. А. Дунина-Горкавича в стадах обдорских ненцев насчитывалось до 95000 голов. В 1892 г. 686 ненецких семей владели- 80 000 головами.172 На территории Ямала к 1913 г. ненцы обладали 81800 оленями, а по берегам Обской губы имели до 20000.173
Оленеводство хантов развивалось вместе с зарождением крупностадного оленеводства ненцев, как отмечает А. В. Головнев, они были соучастниками в его развитии, где сохранились их ранние формы.174 Одной из причин быстрого развития оленеводства был пушной бум, предполагавший рост подвижности населения. Оленеводство у большинства групп хантов служило транспортным целям. Вместе с оленеводством ханты восприняли и многие другие элементы традиционной культуры ненцев: чум, оленный транспорт, одежду, оленеводческую терминологию.
Наиболее развито оленеводство было у обдорских хантов: «инии же мощнеишые множество оленей содержать, аки домашний скоть, их же употребляють вместо лошадей, наипаче скудость в семь и нужду еленми удоволяють, и во вся путь шествия своя еленми отправляються».175 Пастбищные ресурсы северных хантов допускали возможность значительного увеличения поголовья домашних оленей: «Олень, это самое высшее чего он только желает; что киргизу – лошадь, то остяку – олень. Остяк, умеющий лучше всех обходиться с оленем, сделал его домашним животным: он запрягает его в сани, гонит в тундру и олень слушает его, следуя за ним, куда ему угодно».176
Оленеводы среднего достатка содержали в своем хозяйстве от 30 до 40 голов: «По р. Куновату нет безоленных остяков; там, в 14 населенных пунктах 33 домохозяина имеют 226 оленей, что составляет, в среднем, почти по 7 оленей на хозяина. По р. Сыне; …в 15 населенных пунктах 75 хозяев имеют 1475 оленей, что составляет, в среднем, по 20 оленей на хозяина».177 Чтобы легче охранять их в беспокойное комариное время, они объединяли несколько стад, и выпасали их на горных пастбищах Урала: «Оленьи стада местных березовских приобских остяков зиму и лето пасутся в своих вотчинах, за малыми исключениями, когда стада эти отгоняются на лето к Уралу между Обдорском и Байдарацкой губой».178
Начиная с XVIII в. оленеводством стали заниматься коми-зыряне, которые, находясь в постоянных торговых связях с ненцами, понемногу обзаводились оленями, поручая выпасать их бедным пастухам. Как писал В. Иславин, коми-зыряне «не свыкнув еще с кочевой жизнью и с оленеводством, не осмеливались вступить в тундру, а предоставляли пастьбу оленей опытным в сем деле самоедам».179 Будучи типично оседлым народом, коми-зыряне переняли у ненцев навыки оленеводства и превратили его в доходный, высокоэффективный промысел, перейдя на новый тип выпаса оленей, с окарауливанием стада специально выученными собаками и длинными маршрутами каслания (кочевок): от зимних пастбищ в лесотундре к летним у побережья Ледовитого океана.
В дальнейшем поголовье оленей у коми-зырян начало быстро расти. Перенимая опыт у ненцев, они стали сами выходить со стадами в тундру. Богатые оленеводы владели стадами от 1500 до 2000 оленей, средние – от 500 до 700.180 Н. А. Абрамов в своей работе зафиксировал общую численность стад коми-зырян до 125 000 голов, а по сведениям А. А. Дунина-Горкавича – до 120 000.181 К 1876 г. численность оленей коми-зырян достигла 138 112 голов, а к1882 г. – 194 650.182 В 1892 г. 739 зырянских семей имели 207 000 оленей.183 К концу XIX в. оленеводство коми-зырян было распространено на значительной территории Березовского края: от Урала до р. Надыма на востоке, и с юга на север от р. Ляпина до Байдарацкой губы.
В отличие от ненцев, ценностные установки коми-зырян были типично рыночные. В. Н. Латкин, изучая культуру Европейского Севера, писал «в конце минувшего столетия они едва ли имели 10 000 своих оленей, тогда как самоеды Большеземельской тундры владели многочисленными стадами, число которых простиралось до 150 000 голов… Но с того времени как в тундре начали усиливаться ижемцы, стада самоедов постепенно стали уменьшаться».184 Коми-оленеводы разводили их с одной целью – получить максимальную прибыль. Именно они являлись главными поставщиками кожевенного сырья, мяса на ярмарках.185 Как отмечал А. А. Дунин-Горкавич, оленей коми-зыряне разводили для получения максимальной прибыли: мясо, шкуры молодых оленей, одежда – все шло на рынок.186 «Куда проникают зыряне, – писал в 1908 г. Б. Житков, —оленеводство постепенно переходит в их руки».187
Из русского населения занимались оленеводством немногие, имея «оленей от 5 до 10, а некоторые до 100 и более. Всех вообще считается до 1000 голов».188 Возникновение оленеводства у русских было вызвано потребностями их хозяйства, служебными занятиями. Численность оленьих стад у русских варьировалась от 10 до 100, хотя иные содержали даже до 700 голов.189 В отличие от коми-зырян русские, за редким исключением, сами не занимались выпасом оленей, а поручали это ненцам. Некоторые раздавали своих оленей на содержание разным хозяевам стад: «Летом оленей угоняют для пастьбы в Уральские горы или же, кто имеет их не большое количество, отдают в ближние улусы для той же цели».190
Освоение северных территорий диктовалось торговыми и промышленными интересами. Одним из важнейших стимулов продвижения русских за Урал являлась погоня за ценной пушниной, потому что «горностай ценился чуть ли не на вес золота – в Москве продавался в розницу по 1 рублю серебром».191 Цена мехов на мировом рынке составляла: черно-бурая лисица – 8 руб.; соболь – 7 руб. Сибирская пушная казна давала свыше 600 000 рублей дохода, что составляло около 1/3 доходной части государственного бюджета: «А присылается из Сибири царская казна ежегодно – соболи, куницы, лисы черные и белые, и зайцы, и волки, и бобры, а, сколько той казны придет в году, того описать не в память, а чает тое казны приходу больше 600 000 рублей».192
Значение пушнины в хозяйстве российского правительства заставляло очень дорожить плательщиками ясака и заботиться не только о приобретении новых, но и сохранении имеющихся ясачных людей, которые «ловят много дорогих животных, высокой цены, и большая им от этого прибыль и выгода; ловят они горностаев, соболей, белок, черных лисиц и много других дорогих животных; из них они выделывают дорогие шубы высокой цены… Соседние народы оттуда, где свет, покупают здешние меха; им носят меха туда, где свет, там и продают; а тем купцам, что покупают эти меха, большая выгода и прибыль».193
Одним из основных занятий коми-зырян являлось оленеводство, заимствованное у европейских ненцев. Главной особенностью коми-зырян была предприимчивость и способность к торговле. Развитие торговых отношений способствовало появлению извозного промысла. На первом этапе переселений в северные районы, когда доминировал уход навсегда, коми переселенцы на новых местах обитания поступали на военную службу (в казаки или служилые люди), оседали в деревнях, занимаясь охотой, или находя применение своим силам в торговле или ремесле. Промысловая культура коми-зырянского населения обогащалась опытом и знаниями коренных народов. Они занимались не только пушным и рыболовным промыслами, оптимальными для выживания в Обдорском крае, но ремеслами, торговлей и, казалось бы, невозможным в местных экстремальных условиях сельским хозяйством: разводили, хоть и в ограниченном количестве, крупный рогатый скот, свиней, кур, лошадей, даже настойчиво пытались завести огороды.
Развитие рыбной промышленности осложнялось целым рядом проблем, прежде всего, характером собственности на промысловые угодья. Хозяевами рыбных угодий были ненцы и ханты. Единственным законным способом эксплуатации природных богатств являлась аренда. Рыбопромышленник Александров арендовал у рода Тогой угодья на Тазовской губе протяженностью 670 верст и шириной до противоположного берега.194 Но никакие ограничительные меры властей не помешали тому, что к середине XIX в. приезжие промысловики и местные русские арендаторы превратились в «вотчинников» рыболовных угодий по нижней Оби: «И теперь все лучшие пески и ссоры запродали русским торговцам».195
В начале XX в. рыбные угодья находились в руках купцов Корнилова, Плотникова, Бронникова, Матюшина, Новицких и Карповых. В устье реки Ныды находилась сезонная фактория рыбопромышленников Попова и Туркова. Фирма Тетюцких, содержавшая на правом берегу реки Пур свое летнее становище «Пуринское заведение – Идованада», ежегодно отправляла в Сургут около 1,5—2000 пудов сушеной рыбы на 3—4000 рублей, 5000 пудов мороженой на 1,5000 руб., а также до 250 соленой рыбы на 1000 руб.196
Основными поставщиками товарной рыбы являлись русские промышленники. Н. А. Миненко свидетельствует, что в первой половине XIX в. коренные народы вылавливали ежегодно от 183 000 до 240 600 пудов рыбы.197 Рыбопромышленники за год добывали 70,5 000 муксуна, 32000 сырка и 7000 пудов осетра. В общей сложности выходило 136 000 с лишним пудов стоимостью 99 530 руб. серебром.198 Превращение рыболовства в ведущую добывающую отрасль хозяйства было обусловлено благоприятными природными факторами: «Ценность рыбы обусловливается также количеством улова ее и числом покупателей. Сумма же годовой стоимости наловленной рыбы, за внутренним ее потреблением, простирается, по местным сведениям, до 108,000 руб. серебром, но в сущности ее смело можно увеличить вдвое».199
Охота как одна из отраслей добывающих промыслов являлась важной составляющей экономики Обдорского севера Березовского края. Продукция промысла стала одной из главных причин присутствия русского населения на севере и стала играть важную роль в международной торговле.200 Это способствовало увеличению численности промыслового населения. Если раньше основными промысловиками были представители коренного инородного населения, то теперь охотой стали активно заниматься и русские. Этому в немалой степени способствовала реформа 1861 г. Стоит отметить, что экономическое значение охотничьего промысла с течением времени не уменьшалось. Тем более, что в некоторых регионах продукция промысла была одним из основных средств оплаты государственных податей. В связи с развитием товарно-денежных отношений и ростом торгово-промышленной жизни происходило значительное повышение спроса на ценный мех.
Судя по материалам переписки, в общем объеме звериного лова с 1913—1914 гг. наблюдался рост, который в 1916 г. сменяется резким спадом. В 1914 г. совокупный улов составил 485 983 шкурки на сумму 696 633 руб. 50 коп. ассигнациями против 483 871 шкурки на сумму 548 527 руб. 47 коп. в 1913 г. В 1916 г. объем улова упал на 58% и составил 204 191 шкурку. Сумма сборов упала на 90% и составила 66 933 руб. 34 коп. ассигнациями.201 Отдельные показатели по добыче промысловых зверей и птиц свидетельствуют о том, что тенденции, характерные для XIX в., имели место и в начале следующего века. А именно – наблюдалось уменьшение удельного веса особо ценных пород пушнины (соболь, бобр, лисица), которое компенсировалось увеличением улова таких животных как белка и колонок.
Развитие товарно-денежных отношений, превращение пушного и рыболовного промыслов в товарную отрасль хозяйства способствовало концентрации населения вблизи богатых песков и административно-торговых центров. Хотя активная деятельность русских предпринимателей и коми-зырянских промышленников привела к значительному истощению охотничьих, рыболовных угодий и оленьих пастбищ, вместе с тем, ненцы и ханты переняли у русских новые орудия труда и технологии промысла. Некоторые виды промыслов переориентировались на рынок.
В XVIII – начале XX вв. в экономике края складывается многоукладный комплекс хозяйственных связей пришлого и коренного населения. При этом традиционное хозяйство ненцев, хантов и манси подвергается деформации под влиянием русско-зырянского населения и его торгово-промышленного капитала.
Освоение и развитие торговой деятельности на территории Обдорского края
Ведущее место в торговых отношениях с коренными народами принадлежало русским и коми-зырянам. Торговая деятельность становится для них главным источником дохода. В этот период все активнее включаются в торговые отношения с коренными народами и жители Березова, Сургута, Обдорска.
В Обдорске стали появляться лавки, склады, магазины крупных купцов и торговцев. Местные жители выполняли посреднические функции и постоянно проживали в Обдорске: «Все местные жители, за исключением властей и духовенства, занимаются торговлею с инородцами и рыбопромышленностью на местах, арендуемых у них».202
Частными торговцами в XIX – начале XX вв. стали купцы, мещане и крестьяне, купившие у казны торговое свидетельство, и люди разных сословий, не имевшие административного разрешения. Очень активную торговлю на севере Обдорского края вели тобольские купцы. Но крупные сделки совершали, в основном, московские купцы, один из которых Гребенщиков монополизировал скупку лосиных кож. Во всех сибирских городах, связанных с лосиным промыслом, он насадил своих приказчиков, строго следивших за сохранением монополии.203
Основной целью коренного населения и приезжих русских купцов являлась скупка и продажа «песца в разных его видах, толстый и тонкий белый, недопесок, синяк, крестоватик, норник и копанец, – названия, которые соответствуют последовательным изменениям песца, смотря по его росту и цвету шерсти, начиная с последнего, копанца – неказистого маленького щенка и оканчивая толстым белым песцом».204 Цены определялись не только спросом, но и предложением: «В этом случае денежными единицами для них служил белый песец, средняя стоимость, которого составляет 70 к.с. или вернее 2 рубля 50 копеек на ассигнации, и в мелких расчетах, песцовая лапа, стоящая 10 коп. ассигнациями».205
В неудачный год стоимость пушнины вырастала и наоборот: «Уловом зверя вообще нельзя было похвалиться в прошлом году (1862 г.). Соболя и горностая была самая малость, лисицы и белки, сравнительно с прежними годами, было тоже немного, но песец, водящийся в северной части Березовского округа, на самоедской тундре и по отлогостям Урала, ловился не в пример, хорошо».206 Подобные колебания можно объяснить, с одной стороны, хищническими методами ведения промысла, а с другой – болезнями и эпидемиями среди зверей, понижающими их численность, а также лесными пожарами. В XIX в. цена на пушнину возросла: 1896 г. песец стоил 4 рубля; 1908 г. – 8 рублей; 1912 г. – 16 рублей; 1916 г. – свыше 19.207
Торговля с ненцами носила большей частью обменный характер: «Инородцы, особенно самоеды, мало знают толку в деньгах, – писал А. Иконников в статье, опубликованной в Тобольских губернских ведомостях, – им известны только трехрублевые и пятирублевые бумажки, которые они считают на ассигнации гладко в 10 и 17 руб.; о лишних полтинах, надобно ли будет получить или отдать бумажку, они и слышать не хотят».208 Коренное население получало и отдавало товары счетом, поштучно или мерою на ручные четверти и сажени. Например, оленевод за одного песца требовал «15—20 хлеба, или четверть тонкого сукна, 3½ сажени холста, 10 саженей мережи, 2½ сажени выбойки, пол-аршина толстого сукна».209 Обменная торговля с коренными народами позволила некоторым русским накопить достаточно средств для зачисления их в состав купцов.210 Знание местных языков также позволило им успешно развивать торговлю, несмотря на запреты властей.
Во второй половине XIX в. с падением пушных промыслов, основным эквивалентом обмена в торговых операциях стал служить муксун. За пуд муки ненцы и ханты платили в Обдорске – 4 муксуна, в Надыме – 13—15 муксунов. За пуд соли отдавали в Обдорске – 10, в Надыме – 25—30 муксунов. За пуд табака платили от 100 до 300 муксунов, за 2 медных кольца стоимостью ½ копейки в Надыме отдавали 1 муксуна.211 Вся эта рыба впоследствии сбывалась на заводы Пермской губернии, в Тобольск, и на Ирбитскую и Ишимскую ярмарки. Крупными потребителями обской рыбы являлись Екатеринбургские горные заводы.212
Основным товаром, предлагаемым коренным населением были меха, оленьи шкуры, мороженая рыба, оленье мясо, продукты морского промысла, мамонтовая кость и т. д.: «А без русских людей никогда они, самоеды, пробыть не могут, потому что меж собою у них никогда хлебных запасов, никаких товаров на их руку: стрел и ножей, и топоров, и сетей для рыбной ловли не бывает».213 Русские и коми-зыряне везли сюда, в первую очередь, «в особенности печеный хлеб, которым запасаются самоеды на целый год»,214 затем «сукна ярких цветов, очень любимые инородцами, бумажный товар, табак, бобры, употребляемые самоедками на верхнюю одежду, мережа, холст, кожи выделанные, пенковая посуда и разные медные и железные изделия».215
Торговцы проникали в стойбища оленеводов: «Некоторые из хозяев, преимущественно местные купцы, сами посылают на тундру своих приказчиков или, как называют их здесь, посидельцев, которые раскладываются на нартах и меняют товар».216 Посредники официально обладали всеми правами и обязанностями приказчиков.217 Набрав у приезжающих на пароходах весною купцов в долг «муки и товаров на инородческую руку, они отправляются в их юрты, зимою на оленях, а летом – на лодках; выменивают товары на рыбу, пушного зверя и орехи, и сдают эти последние приезжающим из Тобольска торговцам».218 В роли купца стали выступать служилые и посадские люди, которые вели обмен с коренным населением: «Мелкие русские промышленники сами объезжают более населенные остяцкие волости, снабжают остяков разными товарами и взамен того берут у них рухлядь, которую и сдают оптовым торговцам».219
Коми-зыряне находились в гораздо более выгодном положении, чем русские торговцы.220 У них были свои стада. Они обменивали хлеб, ткани, изделия из металла: бляхи, украшения для оленей упряжи, медные колокольчики (которые изготавливали мастера медного литья из мезенского села Кимжи),221 пеньку, коноплю, орудия промысла, хозяйственный и бытовой инвентарь на оленьи постели, меха, мамонтовую кость. Пушнину, которую коми-зыряне скупали у ненцев по самой низкой цене, потом на ярмарках они перепродавали русским купцам по рыночной.
Торговый обмен способствовал возникновению и развитию у коренного населения кредитной системы, благодаря которой северные народы могли сдавать продукты промыслов на месте, получая взамен товары первой необходимости. В начале XX в. коммерсанты Тетюцкие отпустили ненцам продуктов на 19000 руб., в том числе спирта на 9000 руб., продуктов первой необходимости – на 7000 руб. Тобольский купец Нартымов на реке Таз за пуд сушенной рыбы-юрка платил 2 руб. В отличие от коммерсантов Тетюцких он давал в долг ненцам на уплату ясака и недоимок, частично оплачивал их товары.222
Торговые отношения между посредниками и коренными жителями все активнее стали сопровождаться ростовщичеством и кабалой: «поскольку все эти недостатки зависят, прежде всего, от менового характера торговли, то и не могут быть уничтожены, пока существует самая эта торговля, которая влечет за собою и другие невыгодные последствия для населения и края».223 Об этих фактах мы читаем не только в записях путешественников, но и в отчетах полицейского участка, окружных заседателей и миссионеров. В долговую кабалу к мелким торговцам попадали «по бедности или по старости, – писал в своих заметках А. И. Вилькицкий, – выбиться из долга уже не придется ни им, ни их потомству».224
Важную роль в товарообмене с коренным населением стали играть спиртные напитки: «к несчастью, в этой губительной влаге здесь нет недостатка: тобольские виноторговцы и рыбопромышленники-благодетели достаточно заботятся об этом».225 Она являлась обязательным атрибутом деятельности купцов и промышленников: «почти ни одна сделка их не обходится без вина, которое признается необходимым для одурманивания и склонения инородца на всякие условия. Такие спаивания обыкновенно бывают пред сделками или во время сделок».226
Алкогольные напитки проникали к оленеводам не только путем разрешенной продажи, но и благодаря подпольной виноторговле: «Пресечь подобное зло ни полицейскому, ни акцизному начальству не представляется возможности, так как торговля эта производится весьма тайно и по обоюдному соглашению покупщиков-инородцев с продавцами-обывателями. Несколько единичных случаев наложения пени на виновных не прекратили и десятой доли зла. Бутылка вина в 30 и много в 35° продается здесь по одному рублю; нормальной же крепости вина, т. е. в 40° и ни за какие деньги ни найти».227 Коми-зыряне скупали вино и перепродавали в тундре ненцам за оленьи шкуры и меха, которые они брали за бесценок.228
Свою положительную роль в хозяйственном и культурном развитии народов Крайнего Севера сыграли торговые ярмарки. На них коренные жители имели возможность не только исполнить ясачную повинность, купить, обменять или продать какой-либо товар, но и ближе познакомиться с православной культурой. Ярмарки стали ежегодными в 0бдорске с 1750 года, в Сургуте – с 1766 года и в Березове – с 1788 года. Во время участия в ярмарке многие коренные северяне принимали Таинство Крещения, так как это освобождало их от уплаты ясака. И если в конце XVIII века это были лишь единичные случаи, то в XIX веке крестились уже целыми родами. Об этом свидетельствуют записи в сургутской церкви, где упоминаются многие роды лесных и тундровых ненцев.