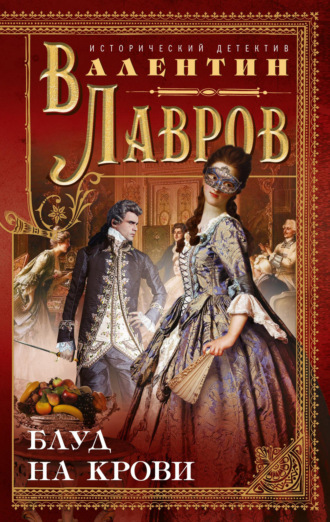
Валентин Лавров
Блуд на крови
Судьба играет человеком
Федулов попал в острог по глупости.
Был он из бедной крестьянской семьи. На селе, где жил Иван, считали его малость блаженным. Поведения он был тихого, дружбу ни с кем не водил. Выпивал, но лишь по праздникам и меру знал.
В том же селе жила первая красавица в округе – Анфиса Кулиниченко. Она была резвой, смешливой, за словом в карман не лезла, умела отбрить любого мужика. К тому же отец ее – сельский староста – владел землями, сдавал их арендаторам, был человеком с большим капиталом.
Многие сватались за Анфису, даже из Харькова приезжали женихи, но все от ворот поворот получили. А выбрала красавица скромного Ивана Федулова.
Все удивлялись, а ее папаша был разгневан такой необстоятельностью, даже хотел было дочку за косу поучить. Только из этого ничего не вышло. Анфиса взвилась:
– Убегом уйду, но за Ваньку замуж выйду.
Смирился Сила Кулиниченко, свадьбу сыграл, Ивана в свой дом взял. Три года молодые прожили ладно, двух дочерей Анфиса родила. В третий раз забрюхатела. Одно неладно: муженек ревнив оказался! Случится, пошутит Анфиса с кем из знакомцев, поговорит о том-сем, так Иван неделю чернее тучи ходит, аппетита лишается.
А на Рождество грянула беда. К Силе Кулиниченко в гости пожаловал волостной писарь, человек бедовый, зубоскал и охальник. За столом говорил он скабрезности, а затем хлопнул проходившую мимо Анфису по мягкому месту.
Вскочил с ножом в руках Иван и вне себя от ярости ударил писаря в шею. Фонтаном брызнула кровь, забился в судорогах несчастный и дух испустил, а Иван стал арестантом.
Записка
Драка в 16-й камере возникла, как это обычно бывает, из-за пустяка.
Между арестантов случился обыкновенный разговор: дескать, пока мы тут, горемычные, томимся, наши бабы удержу не знают, нам рога наставляют.
С этим тезисом не согласился лишь Иван. Вскочил он с нар, кулаками замахал:
– Вранье! Не все жены такие!
Арестанты начали подтрунивать над Иваном. Тогда он стукнул одного, ну и началась драка.
Все это произошло в канун воскресного дня. Утром потянулись к узилищу люди с кулечками и корзинами – передачи близким принесли. Проделав более чем пятидесятиверстный путь в санях, еще накануне прибыла в город Анфиса. С нею были и две маленькие дочки. Заночевав на постоялом дворе, она с детишками уже спозаранку топталась у тюремной ограды. Обратилась к тюремному чиновнику:
– Дяденька, как бы нам свидание получить. Ему фамилия Иван Федулов, муж он мне, деткам папаша…
Чиновник глянул в толстую амбарную книгу и строго сказал:
– На свидание прав не имеете: заключенный Федулов находится под следствием. Вот когда осудят, тогда и дозволят. Передачку, пожалуйста, в это окошко. – И, заглядевшись на красивое лицо Анфисы, смягчился: – Грамоту знаешь? Можешь написать ему записку, привет передать.
Напрягая все литературные способности, Анфиса вывела: «Ягодка, мой Ваня. Аблокат обещал тебе снисхождение по человечеству от присяжных, потому как вступился за нас, супружницу. Любящие Анфиса и детки».
Чиновник окликнул проходившего мимо Пономаренко:
– Тут приятная бабешка пришла, я разрешил ей привет мужу написать. Нарушение не шибко большое, а все на том свете доброе дело зачтется! Ты еще на дежурстве? Отнеси, пожалуйста, Федулову, да заодно и передачку…
Взглянул Пономаренко на женщину и остолбенел от неожиданности: это была та Анфиса Кулиниченко, которая когда-то отвергла его руку и сердце, спровадив сватов ни с чем. Видел эту прелестницу всего три раза, а крепко запали в душу ее синие глаза, сочные манящие уста. (Пономаренко жил на хуторе – верстах в двадцати от Анфисы.) Женщина не замечала пристального взгляда, на нее устремленного: слишком была погружена в собственные думы. А Пономаренко с горечью размышлял: «Ведь я после твоего отказа с горя запил, а потом ушел на эту собачью работу – в тюрьму!»
Взял он корзину, записку и отправился в «четвертый».
Подметное письмо
Со смотрителем Харьковского тюремного замка Ткачуком случилось странное происшествие. Он вернулся со службы домой в половине четвертого пополудни – календарь показывал 30 декабря 1868 года.
Снял с себя китель и протянул домработнице Гликерии (из заключенных). Та стала его чистить, и под ноги смотрителя упал листок бумаги.
– Что это? – удивился тот. Развернул, прочитал, и глаза у него округлились. Печатными буквами карандашом было написано: «Арестант Федулов вовсе не сам повесился. Это его убили».
– Откуда записка? – вопросительно взглянул на Гликерию.
– Из вашего кармана выпавши.
– Это как понимать? Подсунули, что ли? Напасти этой мне еще недоставало! – пробурчал Ткачук, снова натянул на себя китель и отправился в замок. На ходу рассуждал: «Почему мне сообщают о смерти заключенного анонимным способом? Кто и как исхитрился сделать это? Будучи на службе, я не снимал с себя кителя».
Уже в проходной он столкнулся со своим помощником, накричал на него:
– Почему вы мне об убийстве не доложили? Безобразие!
– А кого убили? – изумился помощник.
– В какой камере сидит Федулов?
Помощник справился по книге и доложил:
– Вчера за драку переведен из номера шестнадцать в четвертый карцер.
Взяв с собою корпусного дежурного, начальство спустилось в подвал. Ткачук прильнул к глазку четвертого карцера, ожидая увидеть висящего в петле Федулова. Но смотрителя ждала приятная неожиданность: заключенный был жив-здоров и прохаживался по карцеру – из угла в угол.
Начальник отхлопнул «кормушку» – форточку посреди двери, куда обычно ставят еду арестантам. Он наклонился и крикнул:
– С наступающим Новым годом, Федулов!
– Спасибо, и вас тоже! – со спокойным достоинством ответил тот.
Ткачук разогнулся, вытер ладонью пот со лба:
– Вот и хорошо!
О странной записке смотритель никому не сказал ни слова. Про себя со злобой подумал: «Ну, негодяи, нашли над кем шутить! Попадутся мне в руки – шкуру спущу!»
Но не давала покоя мысль: «Как удалось подсунуть записку? В какой момент? И главное – для чего?»
Ответов на эти вопросы не было.
Труп для студентов
Когда на другое утро смотритель прибыл на службу, корпусной дежурный Негода его ошарашил:
– Дозвольте доложить, в карцере арестант повесился!
– В четвертом, что ль? – переполняясь гневом, спросил Ткачук. – Новогодние шуточки?
– Никак нет! Без всяких шуток – висит на решетке в четвертом изоляторе, – проговорил корпусной, удивляясь осведомленности начальства. – Обнаружили в половине седьмого. Был еще теплый.
– Не сняли? Откачать не пробовали?
– Никак нет, инструкцию нарушать себе не позволяем. Раз повесился – пусть висит, пока начальство не распорядится.
Смотритель спустился в подвальный этаж.
Иван Федулов висел на тонкой бечевке, подвязанной к решетке и глубоко вошедшей в задранную шею. Из уха скатилась и загустела кровь. Ноги мертвец словно поджал под себя, чтобы петля могла затянуться. На лице были царапины, под левым глазом большой синяк.
– Да-с, дело неприятное! – выдохнул смотритель. – И, кажется, темное. Откуда эти «боевые знаки» на лице, если он сам забрался в петлю?
– Так это после драки в шестнадцатой, его за это и наказали карцером.
Тяжело задышал смотритель, тягостно размышляя: «Сообщить прокурору? Там ведь Анатолий Федорович Кони, мужик дошлый. Начнет спрашивать: что да почему? Синяки на морде – только ли от драки? Пойди докажи. А где арестанту в камере веревку взять? В каком состоянии одежда? Оторван нагрудный карман слева, нет двух верхних пуговиц, причем верхняя вырвана с мясом. Где все это? – Смотритель оглядел пол, заглянул под нары: – Нету!»
Когда-то Ткачук служил полицейским следователем. Теперь в нем заговорил старый сыщик. «А мог ли пострадавший завязать веревку на такой высоте?» – размышлял Ткачук. Он поднялся на табурет, стоявший у стены, вытянул руку: – «Да, мог! И все равно дело темное. Надо прятать концы в воду!»
– Срочно вызовите ко мне помощника! – распорядился смотритель. – Я иду в свой кабинет.
Едва вошел помощник, Ткачук приказал:
– Пусть батюшка быстренько отпоет самоубийцу, и поторопитесь отправить труп в университетский морг! В сопроводительном письме попросите срочно вскрыть и сделать медицинское заключение. Труп оставить на препарирование студентам – для пользы медицинской науки. – Ткачук первый раз за день улыбнулся. – Корпусного Негоду и надзирателя за карцерами уволить в трехдневный срок без выходного пособия. Дожили, арестанты в замке вешаются, как на собственном чердаке!
Больше всего смотритель боялся за себя. Он отлично понимал, что произошло нечто таинственное, что понять ему не под силу, и на всякий случай решил принять крутые меры.
…Через полчаса на внутреннем дворе тюрьмы положили на подводу труп Федулова, завернутый в два казенных одеяла.
– Набросьте сверху рогожу, – приказал Ткачук, – нечего афишироваться.
Открылись ворота, и то, что совсем недавно было полно жизни и надежд, отправилось в последний путь – в университетский морг.
Таинственная незнакомка
Двадцатичетырехлетний товарищ (заместитель) губернского прокурора Кони отправлялся на новогодний раут, который имел быть 1 января 1869 года в Харьковском дворянском собрании. У парадного подъезда его ожидали легкие лакированные санки. Извозчик, могучий седобородый старик, протянул Кони конверт:
– Барышня просила вам передать. «В руки», – говорит.
– Какая барышня?
– А кто ее знает? Вон, вон, в драповом пальто побежала, за угол как раз скрылась…
Кони достал послание, прочитал: «Считаю своим долгом сообщить: вчера в тюремном замке убит арестант. Это сделали его же товарищи. Начальство пытается замести следы. Убитого отправили в анатомический театр университета, где он будет конечно же препарирован – и правды никто не дознается».
– Братец, догони-ка эту даму, – приказал Кони.
Извозчик хлестанул лошадь, они свернули в первый же переулок, проехали его до конца – след незнакомки потерялся.
– Не было печали! – вздохнул Кони. – Гони в Собрание.
Про себя он решил, что доложит о происшествии губернскому прокурору, который будет на рауте.
Прокурор Писарев, толстый, добродушный, прочитал письмо и ласково прогудел в нос:
– Э-э, батенька! Оч-чень прошу, проведите личное, э-э, дознание… Вот как раз наш уважаемый профессор патологической анатомии Лямбль. Профессор, э-э, простите, вас на минутку можно? У кого вы, э-э, Душан Федорович, такой, э-э, прекрасный фрак шили? Сделайте одолжение, запишите адрес портного. Э-э, чуть не забыл! Па-а-жалуйста, проведите нынче же экспертизу. «Жмурик», э-э, простите, мертвец в университете. Остальное вам объяснит Анатолий Федорович. Мои лошади к вашим, э-э, услугам. Поскорее возвращайтесь. Э-э, на дорожку по бокалу шампанского!
В царстве мертвых
Итак, Кони и Лямбль во фраках и белых галстуках оказались в университетском морге. Полупьяный сторож, спотыкавшийся на каждом шагу, стараясь казаться трезвым и исполнительным, промямлил:
– Вам какого мертвяка? Из тюрьмы, говорите? Привозили такого. Па-асмотрим реестр. – Сторож долго листал замусоленную книгу, наконец нашел: – Федулов, двадцати семи лет. Евонный номер семнадцать. Сумеете запомнить? Или записать? – И торжественно провозгласил, широко взмахнув руками и теряя равновесие: – Милости просим!
Кони и Лямбль прошли коридор, оказались в амфитеатре, где на мраморной доске сидела обнаженная женщина. Лица не было видно, ибо на него с затылка, зияющего мясом и мелкими кровеносными сосудами, был надвинут скальп.
– Вот наша кладовочка! – радостно проговорил сторож, распахивая дверь в небольшую комнату. – Матерьялец поступает к нам из полиции и больниц, коли покойный не имеет родственничков.
Это были опившиеся до смертельного угара или замерзшие на улицах бездомные бедолаги. «Они лежали на низких и широких нарах, – вспоминал А.Ф. Кони, – лежали друг на друге, голые, позеленевшие, покрытые трупными пятнами, с застывшей гримасой на лице или со скорбной складкой синих губ, по большей части с открытыми глазами, бессмысленно глядящими мертвым взором. На большом пальце правой ноги каждого из них на веревочке был привязан номер по реестру…»
Сторож отважно, словно на поленницу, влез на эту гору трупов и стал разбирать их, приговаривая:
– Седьмой, четвертый, а где же наш, родимый? Господа командиры, вы случайно не помните, какой у нашего нумерочек? Семнадцатый, говорите? А вы, сердечные, не путаете? Тогда тут. Вот они самые, внизу лежат. Кто ж их туда положил? Как чего надо, так обязательно снизу…
Сторож спрыгнул на пол, ухватил труп с биркой «17» за ноги, стал энергично тянуть, кряхтя и отчаянно сопя. Лежавшие сверху мужские и женские тела, словно оживая и нагоняя на потревоживших гостей ужас, начали переворачиваться. Наконец сторож извлек труп Федулова и положил его на пол. Труп был без головы.
– Запамятовал совсем, с этими самыми праздниками все запуталось! – промычал сторож. – Прозектор ведь отпилил голову, я сам помогал ему – держал мертвяка. Вам она очень нужна? Понял, сейчас будет. Один секунд!
Голова в мешке
Сторож проковылял по коридору, шаги его затихли. Прошло пять минут, десять, полчаса. Эксперты чувствовали себя скверно: за стеной кладовая с ее жутким содержимым, впереди на столе белела фигура скальпированной молодой женщины. И собачий холод, пробиравший до костей.
Вскоре Лямбль не выдержал:
– Я сбегаю за сторожем. Он, поди, забыл про нас, сидит пьет водку.
…Еще минут через пятнадцать, показавшихся Кони кошмарной вечностью, появился Лямбль с мешком в руках. Он вынул из мешка голову Федулова, приладил к телу:
– Да, отсюда! Голова спилена на уровне грудины. Странгуляционная полоса четко выражена в области щитовидного хряща, далее поднимается по боковым поверхностям шеи к сосцевидным отросткам. Отсутствует в области затылочного бугра. Борозда глубокая. Заметны мелкие кровоизлияния. Значит, вешали не труп, сам повесился. Кровоподтеки на лице? Но от них молодой человек скончаться не мог. В письме написан вздор. Это – самоубийство.
Эпилог
На другой день Кони получил от эксперта официальное заключение о самоубийстве. На этом история, казалось, закончилась.
Но, спросит читатель, почему Иван вдруг решил повеситься? Суд присяжных, начавший действовать в России незадолго до описываемых событий, должен был с пониманием отнестись к убийце. И еще. Откуда Федулов взял веревку?
На эти вопросы мы никогда не имели бы ответа, если бы не случай.
Минуло лет десять. В Петербурге главою сыска стал легендарный Иван Путилин. Как-то он занимался хитрым делом об убийстве. Его агент вышел на подозреваемого – бывшего тюремного надзирателя из Харькова Пономаренко. Сидя в трактире с агентом, изрядно захмелев, Пономаренко стал хвастать:
– Я ведь страсть какой ловкий! Когда-то одним махом отомстил нескольким своим врагам.
– Не может быть! – раззадорил его агент.
– Может! – отвечал Пономаренко. И он с пьяных глаз рассказал следующее.
Первым врагом для него стал Федулов, «отбивший невесту».
Получив для передачи Ивану записку Анфисы, в которой та писала о любви и верности, обещала ждать друга сердечного, Пономаренко разорвал записку и, стараясь подделываться под почерк, нацарапал следующее: «Ты, Иван, мне противен. Я полюбила другого. Прощай».
Войдя в камеру, Пономаренко протянул фальшивку:
– Читай!
Федулов перечитал раз, другой, словно не верил своим глазам. Потом дико завыл, в бессильном отчаянии застучал кулаками по стенам каземата. Надзиратель, якобы сочувствуя, произнес:
– Все они такие! Как сядет человек, так начинают хвостом крутить.
Федулов застонал:
– Прости, Господи! Я не хочу больше жить…
– Во-во, тогда спохватится, пожалеет. Но близок локоток, ан его не укусишь! Милый человек, дай-ка письмишко мне обратно – и так нарушил порядок, не положено.
Затем будто нечаянно выронил кусок бечевки. Хороший психолог, он понял: этот наложит на себя руки!
Впрочем, Пономаренко мало чем рисковал: никто не доказал бы, что оброненная веревка – это дело его, надзирателя, рук.
…Месяца за два до описываемых событий появилась вакансия – старший корпусной вышел на пенсион. На это место давно рассчитывал Пономаренко: он был грамотным и сообразительным парнем. Но смотритель назначил давно и беспорочно служившего Негоду. Пономаренко затаил лютую злобу, решил во что бы то ни стало обоим отомстить. И вот случай подвернулся.
Время дежурства Пономаренко закончилось, на вахту заступил Негода. По всем расчетам, именно в эту смену и должен был появиться труп в четвертом карцере. Отвечать бы пришлось корпусному. Пономаренко печатными буквами написал памятную нам записку и, улучив момент, засунул ее в карман смотрителя.
Тут, правда, вышла некоторая промашка: Федулов еще не успел влезть в петлю. Зато когда тот был уже трупом, мстительный злодей через свою племяшку отправил письмо товарищу прокурора.
Впрочем, как знает читатель, эти козни цели не достигли.
Надзиратель карьеру не сделал, корпусным не стал.
Летом того же, 1869 года Пономаренко был уличен в воровстве у своего товарища и изгнан со службы. Болтался по России, весной 1878 года сошелся с богатой вдовой-купчихой и задушил ее. За это преступление его отправили на Сахалин.
Что касается другой вдовы – Анфисы, она отвергла притязания всех ухажеров и оставалась верной памяти своего ревнивого, но горячо любившего мужа.
Анатолий Федорович Кони стал выдающимся судебным оратором, академиком, членом Государственного совета. Об этом, впрочем, знает каждый.
Роковое сходство
Второго ноября 1876 года окружной суд Петербурга с раннего утра осаждали толпы любопытных. Среди собравшихся преобладали изящно одетые дамы. Они напирали на судебного пристава, который с помощью полицейских с трудом сдерживал могучий напор. Дамы требовали: «Пропустите, ведь это такое необычное преступление!»
Пристав, боясь, что толпа раздавит и его, и полицейских, принял решение: «Пропустить пятьдесят человек на балкон!»
Едва освободили проход, как… Впрочем, предоставим слово очевидцу – известному адвокату Н.П. Карабчевскому:
«С писком, с визгом, не щадя своих модных туалетов, устремляются шумной ватагой все эти искательницы сильных ощущений и спешат занять лучшие места. За ними приливает другая волна разношерстной публики, которая довольствуется всяким местом, готова занять самое неудобное положение, лишь бы послушать пикантные подробности.
Наконец все занято: на хорах, внизу, в местах, отведенных для адвокатов и для лиц судебного ведомства, – всюду полно. Зала суда превратилась в залу театра – ждут начала спектакля…
Опять на сцене „роман действительной жизни“, роман, полный сенсационных подробностей и интимных разоблачений, с кровавой, трагической развязкою в конце».
Это грустная история о беззащитной девушке, которую судьба безжалостно перемалывала в своих жерновах.
Под липами
В Озерской волости, среди речушек с живописными берегами, среди густых лесов и поросших камышом и осокой болот, стояло богатое село Никольское. Славилось оно своими замечательными сапожниками.
Никольцы похвалялись: «Мы всякие сапоги сшить можем! Хромовые – до самой смерти не истоптать, аль липовые – разок к теще на блины сходить». И это было истинной правдой! Про хромовую обувку всякий знает, а про липовые напомнить не грех. Шились они с бумажной подошвой и с прокладкой луба от липы и с таким же задником. Стоили гроши, а выглядели как натуральные кожаные – блеск и красота!
Конечно, далеко в них не уйдешь, вот и пошла отсюда поговорка про «липовую работу» как про бессовестную: «Лишь бы мерку снять да задаток взять!»
Захар Кириллов липовых сапог не шил, а выходили из его рук новомодные мужские штиблеты. Слава о его золотых руках далеко летела, даже в Кимрах у него были заказчики – большие люди: учителя гимназии, полицмейстер Городилов, священник отец Аркадий.
Но кроме этой профессии была у Захара душевная услада. Держал он пасеку. Когда досужие люди спрашивали: «А сколько у тебя, добрый человек, ульев?» – Захар отвечал: «Не знаю! Пчела не уважает счета. А вот медком угостить могу!»
Сам он любил в тишине летнего вечера прийти в пчельник, сесть со своей семьей в тени лип за стол, вдохнуть полной грудью ни с чем не сравнимый запах пасеки и меда, пить из самовара чаек и вести неторопливую беседу, спросить у супруги-разумницы полезного совета. Да и то сказать, детишек у Захара трое: старшей Анюте тринадцатый годок пошел. Лицо у нее красивое, задумчивое, темная коса толста – в полено. Говорит редко, зато работает споро: любая работа складно получается.
Жена Анфиса лицом и повадками – точь-в-точь как Анюта. Даже моложавостью, стройностью ее сбиться можно: не за мать, за старшую сестру незнающие люди принимают.
Болтают ногами, сидя на лавке, двое мальчишек темноголовых: одному три года, другому пять лет. Это сыновья Захара. Вот всех их обдумать надо, кому чего купить. Заботы эти, впрочем, малые: достаток в доме сапожника хороший. Не только себе хватает, даже своей сестре Марии, что в Кимрах живет, Захар помогает: при каждой встрече пятерку, а то и десятку подбросит. В городе – это не то что в деревне, там все дорого, за все платить надо. А мужу сестры – Андрею Абрамовичу – задаром, дружбы ради сшил весною новые сапоги. Со скрипом наладил! Шагает, так за версту слышно. А это тоже уметь надо.
* * *
Пчелы, натрудившись за день, забираются в ульи. Солнце завалилось за горизонт и фиолетовой краской расцветило легкие перьевые облачка на горизонте. Соловей так отчетливо громко защелкал в орешнике, что в ушах ломит.
– Ну, засиделись мы, – потягивается Захар. – А мне ведь завтра к обеду следует штиблеты уряднику Степанову закончить. Надо встать пораньше. Малышня, шасть по полатям!
Анюта – та дело свое знает: всем уже постелила, перины пуховые взбила, свежее полотенце к умывальнику повесила.
Отец любит дочь. Он ласково улыбается и говорит Анфисе:
– Мать, а невеста у нас складная растет. Весело погуляем на свадьбе!
Увы, мечты отцовские оказались напрасными. Погулять не пришлось. Судьба распорядилась иначе.







