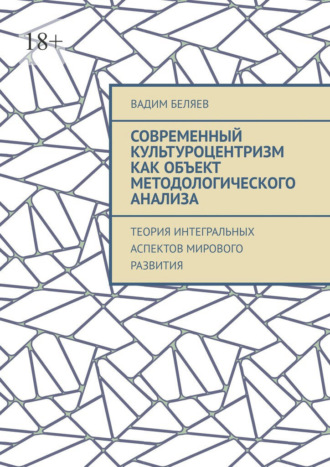
Вадим Беляев
Современный культуроцентризм как объект методологического анализа. Теория интегральных аспектов мирового развития
Осуществляя теоретическое обоснование своей позиции, Автор стремится представить свое теоретическое движение не как ответ на вызов (с последующими движениями генерализации этого ответа). Автор стремится представить это как результат «естественного» развития теоретизирования относительно социальной реальности. Автор ссылается на множество теоретиков, которые (как ему кажется) логикой своих позиций и своим авторитетом должны поддерживать «объективистский» подход («Наиболее известными теориями и направлениями в рамках объективистского подхода являются исторический материализм и теория способов производства К. Маркса, функционализм Э. Дюркгейма, структурный функционализм Т. Парсонса»).
Для того чтобы показать, что объективизм объективизму рознь, проанализируем основные компоненты марксистской концепции.
Вызовом для Маркса является состояние современного ему капиталистического общества. Это состояние оценивается как эксплуатации человека человеком, как отчуждение человека от продуктов своего труда, от самого труда и от своей сущности, которая есть творчество. Главной целью для Маркса является возвращение человека к самому себе, к своей творческой сути. Для реализации этой цели строится теория социально-экономических формаций, которая задает «объективное» историческое движение к тому состоянию общей деятельностной развитости человека, в котором станет возможным переход от эксплуатации человека человеком к сотрудничеству и переход от производства к творчеству. Надо иметь в виду, что в своей целевой составляющей марксистская теория задает исторический процесс как движение к индивидуализации человека, к освобождению его от власти природы. Если сравнить это с целевой направленностью Автора, то получим нечто противоположное. Для Автора целью является движение в противоположную сторону – к коллективизации человека. Для Автора индивидуализация (которая в максимальной степени проявлена в западном мире) не является универсальной целью.
Итак, по «целевой объективности» Маркс в качестве цели ставит достижение максимальной освобожденности индивидуального человека от власти над ним систем производства и социальных систем. Автор ставит в качестве цели нечто противоположное. Пусть Автор задает это не как глобальное, тем не менее, Автор находится на линии противопоставления коллективизма индивидуализму. По «реализационной объективности» Маркс задает теорию смены социально-экономических формаций, а Автор задает теорию заданности институциональных матриц «материально-технологическая средой».
Нетрудно видеть, что «объективизм» Маркса отличается от «объективизма» Автора так же, как «подводный корабль» отличается от «космического корабля» (несмотря на то, что и то и другое – «корабль»).
8. Объективизм против субъективизма. «Закрытое» общество и «открытое» общество. Логика исторического движения к «открытости» и идеологическая заданность теоретика
Рассмотрим параграф, в котором Автор говорит о специфике объективистского подхода.
«В рамках объективистского подхода социальная структура исследуется как социальная система, взаимосвязанными элементами выступают институты – комплекс устойчивых исторически сформировавшихся отношений. С этой точки зрения общество предстает как социальная макроструктура, возникшая и развивающаяся в результате предшествующей деятельности людей, как результат, отделенный во времени от них самих. В определенном отношении эта структура, образованная комплексом постоянно функционирующих социальных институтов, остается неизменной, несмотря на то, что ее внешние проявления постоянно меняются. Это – социетальный, системный уровень рассмотрения общества. Поскольку в рамках объективистского подхода социальные процессы рассматриваются преимущественно на макроуровне, такой подход часто называют макросоциологическим»13.
«С самого зарождения социологии данный подход дополнял точку зрения сторонников субъективистского подхода, для которых „общество – ничто вне составляющих его индивидов; они составляют все реальное, что в нем есть“. С этой точки зрения именно деятельность социальных субъектов определяет своеобразие и все поле возможных состояний тех или иных обществ. В рамках этого подхода основное внимание социологов концентрируется на изучении общества как совокупности образующих его социальных групп, а в качестве основного объекта исследований выступает социальное поведение и сфера непосредственных социальных взаимодействий – межличностные отношения, процессы социальной коммуникации, повседневная деятельность человека, его социальный статус и т. д. Часто такой подход называют микросоциологическим»14.
Остановимся в этой точке и проанализируем сказанное.
Надо обратить внимание, что здесь Автор переходит к анализу антиномического понимания общества. Общество как система рассматривается либо как то структурное основание, которое возникает объективно и не зависит от воли входящих в него групп и индивидов, либо как то, что определяется сознательной или бессознательной деятельностью этих индивидов и групп.
Здесь мы снова попадаем в антиномическую ситуацию, в которой можно выбрать ту или иную сторону: объективистскую или субъективистскую. В принципе, если судить по тому, что является вызовом для Автора, он должен выбирать объективистскую сторону. При этом можно снова обратить внимание, что здесь возможна как жесткая, так и мягкая версия объективизма. В жесткой версии объективизм превращается в религиозно-культурный фундаментализм и утверждает объективизм как «истину», а субъективизм – как «неистину». Объективистская часть мира в этом смысле на бытийном уровне противопоставляется субъективистской части мира как «бытие» «небытию». Автор принимает мягкую версию объективизма и утверждает системное основание общества как ту его часть, к которой общество приговорено от своего рождения.
При этом важно видеть, что здесь возможна диалектическая логика. Пусть у общества есть его системообразующее основание, пусть оно является в исходном виде тем, что образуется объективно по отношению к его субъектам. Но это не должно означать приговоренности общества к такому основанию. Если мы посмотрим на историческое развитие человечества, то увидим тенденцию к увеличению степени свободы индивидов внутри социальных систем. Это можно утвердить как глобальный исторический тренд. И если отталкиваться от этого, если придерживаться позиции, что увеличение такой свободы является стратегически положительным феноменом, то тогда эволюция и человечества в целом и каждого из обществ должна идти в направлении увеличения и индивидуальной свободы внутри обществ и осознанности в конструировании этих обществ. По мере исторического развития человек должен оказываться во все возрастающем осознанном отношении к социальным системам. То есть человек должен все более осознанно и целенаправленно строить такие системы. В этом смысле любая институциональная система общества должна становиться все более и более сознательным конструктом, а не тем, что формируется и существует как неосознанно-объективное.
Здесь снова можно говорить о двух типах обществ и общественных сознаний: субстанциально-контр-инновационном и функционально-инновационном. В первом типе социальная система считается созданной либо структурой универсума, либо высшей сущностью. Человек не может изменять такую систему. Он может только наполнять ее, как материя наполняет форму. Во втором типе социальная система считается созданной самим человеком. Она не предзадана ему как что-то объективное, а является продуктом его бессознательных и сознательных усилий. Человек создает и пересоздает общество в соответствии со своими представлениями. По-другому эти два типа общества и сознания можно назвать «закрытым» и «открытым».
Но возможна и диалектическая формула. В соответствии с ней общества и все человечество находится в логике перехода от «закрытых» обществ к «открытым». То есть такая эволюция идет в направлении построение все более «открытых» обществ. В этой логике могут рассматриваться все социально-культурные революции. В этой логике можно рассматривать формирование модерна как парадигмальный переход от «закрытости» средневекового мира к «открытости» современного мира. Глобализацию модерна – модернизацию – можно рассматривать как переход неевропейских обществ к более «открытому» состоянию. В этой логике можно рассматривать и процессы российской модернизации.
Но в этой диалектической логике можно выделять полюса, которые являются недиалектическими. Именно об этих полюсах и говорит Автор. Именно они становятся стратегиями объективизма и субъективизма. Объективистская недиалектическая стратегия утверждает неизменность власти макроструктур над индивидуальным человеком. Субъективистская недиалектическая стратегия утверждает отсутствие таких структур и такой власти. Казалось бы, Автору следует сделать шаг, чтобы перейти от полюса недиалектического объективизма к диалектической формуле. Но Автор этого не делает. Почему?
Автор так объясняет наличие позиций субъективизма и объективизма.
«Наличие двух подходов вполне объяснимо. С одной стороны, такой дуализм соответствует реальному устройству общества. В нем представлены как системные, образующие его устойчивые структуры, так и деятельность социальных субъектов, взаимодействующих между собой в рамках таких структур. С другой стороны, склонность к тому или иному подходу связана с психофизиологическими особенностями исследующих общество ученых, лучше воспринимающих либо структурные, либо деятельностные стороны человеческой истории. На эти особенности научного мышления указывал в своих работах А. Маслоу, который выделял у ученых склонности либо к аналитическому, либо к синтетическому способу построения концепций»15.
«Очевидно, что в рамках одного подхода невозможно более или менее полно объяснить социальные процессы. Поэтому объективистский (макросоциологический) и субъективистский (микросоциологический) подходы все чаще рассматриваются в качестве взаимодополняющих, а не противоборствующих»16.
«На мой взгляд, при всем значении разработок в области активистско-деятельностного подхода, в его рамках не удается преодолеть альтернативность субъективистского и объективистского подходов. Так, определение структуры у Гидденса в его структурационной теории лишает структуру ее автономных свойств, и автор сосредотачивается в основном на рассмотрении действий социальных субъектов…»17.
«Признание принципа дополнительности в социологии, если оно будет поддержано, позволит, на мой взгляд, сконцентрировать внимание исследователей на более глубоком изучении той или иной структуры. Оно позволит снять ненужное противостояние между представителями разных подходов и сэкономить научные силы, не тратя их на поиск доказательств и аргументов для споров, в которых вряд ли может быть достигнута истина. Тогда представители объективистского подхода, углубившись в исследование законов устойчивости общества, смогут дать надежные научные обоснования в отношении того, какие стороны общественной жизни неизменны, как законы всемирного тяготения. И к ним нужно приспосабливаться, а не пытаться их изменить. В свою очередь, представители субъективистского подхода смогут сконцентрироваться на анализе механизмов развития социальных структур и меняющихся характеристиках социальных субъектов, действующих в рамках объективных общественных ограничений»18.
Проанализируем сказанное.
Самым поразительным здесь является то, что Автор, хотя и задает возможность каждому из подходов права на существование, не пытается построить диалектику этих принципов, не пытается соединить эту диалектику с историческим развитием. Хотя возможно представление о том, что историческое развитие (с точки зрения внутреннего деятельностного развития систем) должно проходить в направлении увеличения индивидуальной свободы. Пусть существуют разные типы обществ, пусть у них есть свои институциональные системы, но это не должно означать приговоренность обществ к своим исходным структурным основаниям. Наоборот, представление о дальней перспективе деятельностного развития должно задавать перспективу максимального освобождения человечества от исходных заданностей.
Но если принять эту логику, то тогда человечество должно развиваться стратегически в направлении перехода от более «закрытых» обществ к менее «закрытым», от менее «открытых» обществ к более «открытым». Следовательно, можно выявлять в истории реформы и революции, которые идут именно в таком направлении. В отношении модерна это означает, что его нужно рассматривать как действие в направлении теоретического, а затем и практического утверждения Y-матрицы. Его можно и нужно рассматривать как парадигмальную революцию в отношении перехода от Х-матрицы к Y-матрице. Точно таким же переходом (в дальней перспективе) можно и нужно рассматривать модернизацию незападных обществ. Их переход к Y-матрице является стратегически неизбежным. Другое дело, что характер (жесткость или мягкость) перехода имеет значение. Неадекватная логика перехода может (как это демонстрирует Автор своей позицией) не только подорвать доверие к «как», но и подоврать доверие к «что». В этом случае возможен переход не просто к другой логике трансформации, а к логике невозможности такой трансформации. Так и поступает Автор. Так поступают все те, кто мыслит сходным образом.
Автор тратит много объяснений на возможность поиска законов социальной реальности, которые имеют статус законов природы.
Но, во-первых, специфика социальной реальности в том, что по мере своего развития человек должен преодолевать те условия, которые ему были заданы генетически как нечто объективное. Объективное должно переходить в субъективное и становиться объектом сознательной перестройки. Уже поэтому ко всем «объективным» начальным условиям следует подходить с вопросом о том, насколько эти условия имеет смысл сохранять в текущем состоянии. Если у какого-то общества была в качестве исходной Х-матрица, то насколько она адекватна текущей ситуации? Это всегда актуальный вопрос. Его нельзя откинуть утверждением, что матрица не может меняться. Это будет откровенно идеологическим ходом, который приговаривает общество к конкретной матрице.
Во-вторых, если мы что-то устанавливаем в качестве объективных законов, то это не означает, что это на самом деле является объективными законами. Для методологического анализа это должно становиться объектом анализа на предмет того, насколько в этом выразились мировоззренческие предпочтения теоретика, его позиция как ответ на жизненные вызовы. То, что Автор утверждает объективность неизменности институциональных матриц, должно в первую очередь говорить об Авторе, о его желании занять позицию «против субъективизма и текучести». Здесь можно говорить об экзистенциальной заданности или об идеологической заданности. В пользу того, что это заданность, говорит возможность построения диалектической схемы исторического развития как перехода от «закрытости» к «открытости».
9. Насколько логично приговаривать общества к каким-то институциональным матрицам? Модерн как переход Запада от X-матрицы к Y-матрице. Контр-западное движение внутри европейского мира
Посмотрим теперь на то, как Автор вводит разговор об институциональных матрицах.
«Имеет ли каждое общество уникальную, свойственную только ему институциональную матрицу? Или можно выделить несколько типичных матриц, как, например, цивилизаций или культур, число которых, по оценкам разных авторов составляет 8 (Хантингтон, Шпенглер), 10 (Данилевский) или 23 (Toynbee)? Или история всех человеческих обществ есть воспроизводство одной, единой для всех матрицы, и различия между странами связаны в основном с этапами, стадиями общественного развития, как предполагается сторонниками формационного подхода или теории модернизации?
Обобщение соответствующей исторической, философской, экономической, социологической и культурологической литературы, как и эмпирические исследования, позволяют предположить, что многообразные институциональные комплексы древних и современных государств можно представить как сочетание двух институциональных матриц. Они имеют идентичную структуру, но отличаются содержанием образующих их экономических, политических и идеологических институтов. Эти матрицы названы Х- и Y-матрицы, поэтому теорию институциональных матриц стали называть Х-Y-теорией»19.
Остановимся в этой точке и проанализируем сказанное.
На что здесь следует обратить внимание в первую очередь? На то, что теория матриц задана контр-западным социокультурным самосознанием. Это самосознание и соответствующие ему теории имеют тем больше теоретических преимуществ, чем большее количество уникальных институциональных матриц (ИМ) обнаруживается. В этой версии институционализма можно говорить о западном мире как о том, который генерализирует свою конкретность. Но если число ИМ уменьшается и доходит до двух, то мы попадаем в ситуацию, при которой между этими матрицами устанавливается антиномическое отношение. Они уже представляют собой не две конкретности, а две стратегии социальной организации и самосознания. Причем антиномические стратегии. Но любая антиномия может быть преобразована в диалектическую схему.
Следовательно, Автор, переходя к теории двух матриц, переходит к потенциально диалектической схеме. Но, если мы имеем такую схему в потенциале, то задачей теоретика должно быть рассмотрение возможной диалектики как того, что задает изменение социокультурной реальности на стратегическом плане. Так мы снова приходим к необходимости рассматривать историю как движение от «закрытых» систем к «открытым» (подразумевая, что Х-матрица в целом соответствуют «закрытым» системам, а Y-матрица – «открытым»). Нам нет необходимости приговаривать какие-то общества к каким-то матрицам. Наоборот, можно и нужно смотреть на возможности интерпретации важных революций и реформ как переходов от Х-матрицы к Y-матрице. Пусть какие-то общества в течение долгого времени находятся в рамках Х-матриц. Это не означает, что когда-то они не могут переходить к Y-матрицам.
Важным пунктом здесь является интерпретация модерна. У Автора получается, что модерн (так как он сейчас находится в состоянии Y-матрицы) должен быть изначально приговорен к этой матрице. Но в этом нет логики. Точнее, логика этого перехода задается стремлением Автора приговорить незападные общества к Х-матрице. А из этого следует, что приговоренными к своим матрицам должны быть все общества. Но это нелогично. Пусть нашей задачей является освобождение от логики переноса на российскую почву Y-матрицы. Пусть мы при этом приговариваем Россию к этой матрице. Но при этом нет необходимости приговаривать Запад к изначальности Y-матрицы. Логически возможно считать одновременно и Россию приговоренной, и Запад не приговоренным. Если у него другая логика, то это возможно. Но Автор хочет, чтобы у него была та же самая логика. Именно это и является нелогичным. Нет необходимости приговаривать его таким образом и, следовательно, нет необходимости отказывать революции модерна в том, что она является переходом от Х-матрицы к Y-матрице.
Все сказанное показывает, что в логике приговоренности обществ к каким-то матрицам на тысячелетия нет достаточных оснований. Это задается только стремлением Автора сделать большую генерализацию и упростить рассуждения.
Важным является рассуждение Автора о названии ИМ.
«Поиски названия для институциональных матриц имеют свою историю. В первом издании книги 2000 г. Х-матрица называлась «восточной матрицей», поскольку она доминирует в большинстве государств, традиционно относимых к Востоку. Соответственно, Y-матрица называлась западной, так как она более выражена в странах западного мира.
Но уже первые отклики после публикации книги показали, что такое название матриц («восточные» и «западные») оказалась неудачным. Оно провоцировала восприятие модели институциональных матриц как кальки с известной смысловой культурологической оппозиции «Восток-Запад», поскольку имело место внешнее сходство наименований. Приходилось постоянно объяснять, что, в отличие от известной дихотомии «Запад-Восток», выработанной для первичной типологии мировой культуры и обозначения поляризованных наборов смысловых систем, социологические понятия Х и Y-матриц разработаны для разграничения альтернативных базовых институтов, регулирующих воспроизводство обществ независимо от действий носителей разных культурных традиций»20.
С одной стороны, такая логика понятна и приемлема. Но с другой стороны, в стремлении избавиться от оппозиции «Восток-Запад» можно увидеть стремление скрыть то, что изначальный смысл движения к теории матриц, к проговариванию России к Х-матрице задан противопоставлением Западу, его идеологической экспансии. Важно понимать, что здесь, в сердцевине противопоставления лежит именно контр-западная направленность. Причем эта направленность по своей логике является той же самой, которая была у контр-западников XIX века. И это относится не только к России, это относится ко всему консервативному лагерю европейской области. Противостояние «Западу» было по своему содержанию примерно таким же, каким оно является для Автора. Это противостояние либеральной стратегии в ее авангардных проявлениях. Те страны, которые сегодня относимы к западному миру (например, Германия, Испания и Италия) были достаточно консервативно настроены по отношению к авангардному либерализму. Их эволюция в XIX – ХХ веках (особенно европейский фашизм первой половины ХХ века) показывает, что они вполне сохраняли внутри себя контр-либеральные (а в этом смысле и контр-западные) тенденции. Последующее развитие этих стран поставило их в «западный лагерь».
Если иметь все это в виду, то оппозиция «Восток-Запад» указывает нам на исторический генезис контр-западных тенденций еще внутри самого «западного» мира. Россия в XIX веке находилась в рамках той же самой логики. Разделение российского самосознания на «западников» и «контр-западников» проходило в той же логике, что и в других странах. Воспроизводство той же самой оппозиции в современной России воспроизводит эту логику. Все это надо иметь в виду, чтобы адекватно анализировать современную ситуацию.



