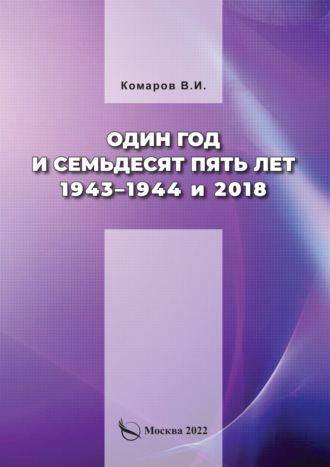
В. И. Комаров
Один год и семьдесят пять лет. 1943–1944 и 2018
Осторожно спускаемся по каменистой тропинке, чтобы, не дай Бог! не плеснуть из благословенных ведёрок. Вот и заросли. Приятно с жары войти в прохладную тень. Но вдруг близко и неожиданно раздаётся могучий рык, словно он поджидал нас за ближайшим кустом. Замерли. На цыпочках перешагиваем с камня на камень. Не услышал бы… Хочется бежать, прыгая по камням, но ведёрки! Бежать нельзя – расплещем драгоценную ношу. А мычание, кажется, ещё ближе, ближе, не услышал бы! Не упасть бы, выбраться бы из зарослей, там хоть тропинка ровная. Хотя, если он увидит нас на тропинке… Но там недалеко огородная ограда – переберёмся… Только в переулке между огородами переводим дух. Не услышал. Мычание удаляется и теряется, наконец, вовсе. Садимся у ограды в тени, прислонив драгоценные ведёрки к ногам и придерживая их всё ещё дрожащими руками.
Дома наши страхи оказались сполна вознаграждены: переливая пахту в свою кастрюлю, мы обнаруживаем вдруг два золотистого цвета комка с налипшей на них белой творожной крошкой. Два куска масла размером со средней величины яблоко. Наверняка это масло «не заметила», наливая нам пахту, наша Тася. С умилением вспоминаю тягучее нытьё Кольки: «Ма-а-ам-ка, маслишка, ма-ам-ка, маслиш-ка…»
Лето 1944 года
Учебный год кончился как-то незаметно и непразднично. Сразу стало слишком много свободного времени – болтаюсь с ребятами по селу и окрестностям. Вот Юда позвал дойти до фельдшерского пункта, в гости к его сеструхе. Она уже взрослая, выучена в медсёстры и работает в фельдшерском пункте, живёт в своей комнате там же. Дождавшись, когда сеструха выйдет из комнаты, Юда оглядывается, вытаскивает с полки книгу акушерского руководства и с торжеством начинает показывать мне картинки. Я не разделяю его удовольствия, мне противно видеть эти картинки и противно даже подумать, что это имеет ко мне какое-то отношение. Нет, сегодня я лучше пойду один. Выхожу через дорогу к тропинке, ведущей на ближайшую сопку. Ту самую, по снежному склону которой бегали зимой волки. И тропинка та самая, на которой я осенью был бесславным джигитом. Наверху поворачиваю налево, чтобы взобраться на невысокую щербатую скалу у вершины сопки. Покоритель вершин. Долго рассматриваю село и нашу избу почти под ногами. А совсем под ногами невысокая скала с аккуратной площадкой на ней. Буквально тянет добраться до неё. Это и нетрудно, плитки под ногами так и скользят вниз, приглашая проехаться по их россыпи. С удовольствием карабкаюсь вдоль острия скалы, крупные камни сыпятся из-под ног и, набирая скорость, катятся вниз, высоко подпрыгивают и делают красивые дуги в воздухе. Ударяясь о скалы, издают звук выстрелов, затихающий далеко внизу. Солнце припекает, пора уходить. Разворачиваюсь с намерением подниматься назад и обнаруживаю, что это не получается – плитки под ногами скользят вместе со мной, приближаясь к обрыву. С ужасом осознаю себя в западне – снизу обрыв, а наверх не вылезти. Орать о помощи бесполезно – я не зимний волк, меня не услышат. Так, может, попробовать дрейфовать по стекающей россыпи в сторону, к скале. По ней вверх, а потом к другой, третьей. Скалы, как чешуя бронтозавра, состоят из непрочных плиток, но по ним можно карабкаться, иногда на животе. Выбрался. Сел на землю, свесил ноги вниз и откинулся назад. Глубоко дышу, солнце слепит залитые потом глаза. Перевернулся на живот, уткнулся лицом в сухой мох и зелёные розетки колючих наскальных репок. Вдыхается пыльный запах камня и душистых просохших трав.
Уже много позже, на тренировках по скалолазанию в Крыму, я однажды основательно застрял на маршруте. Участок маршрута оказался на пределе моих возможностей, да к тому же я шёл с нижней страховкой. Нижняя страховка спасает тебя от тяжёлых травм, но и несколько метров вниз по скале совсем не подарок, так что высота неожиданно становится попросту страшной. Остаётся какой-то метр до перегиба, но правая рука уже не держит, разгибается на зацепке, а каменная стена начинает бездушно и неуклонно отталкивать от себя мою грудь, опрокидывая назад. Ладонь левой руки судорожно суетится на гладкой поверхности скалы. И вдруг нащупывает ничтожную трещину на ней. Всё же буквально ногти за что-то цепляются. Ещё ничтожное движение, и все четыре пальца входят в еле заметную, но спасительную зацепку. Этого хватает, чтобы унять предательское отталкивание стены. Нога успевает найти новую опору, и вот уже плавным, осторожным усилием удаётся протянуть освободившуюся правую руку к спасительному надёжному каменному бортику над головой. Подтягиваюсь, и вот уже могу лечь грудью на каменистую площадку. Она прогрета крымским солнцем, благоухает жухлой щетиной высохшей травы. Утыкаюсь лицом в неё и вдруг на мгновение оказываюсь на той алтайской скале, где впервые вкусил острые эмоции скалолазания.
Время от времени мы небольшой командой рыскаем по нашей пугачёвской речушке. Летом она течёт почти ручейком, разливаясь по ровным местам тонким прозрачным слоем прохладной воды. Узенькие протоки сетью соединяют такие песчаные отмели. Здесь-то и начинается раздолье первобытного рыболова. Пескарей можно загонять на такую мель, где они уже не могут плыть и отчаянно барахтаются, сверкая на солнце. Тут-то мы и берём их голыми руками. Их можно есть сразу, живьём, но более изысканно нанизать их на тонкие прутики и воткнуть прутики в трещины жердей на изгороди. Через пару-другую часов они подсыхают и завяливаются на солнце. Тогда они уже не водянисты и особенно хороши на вкус. Сегодня кому-то пришло в голову пойти с такими пескарями к «киргизам» для обмена на каймак. Собственно, никто из нас не знает, кто они, но называем их киргизами. Их хижины совсем недалеко, за крайними избами села, среди кустов забоки. Две одинокие хижины грубо сложены из облизанных водой булыжников без видимой замазки между ними. Сверху навалено невесть что, и печных труб нет. Одна небольшая квадратная дыра в стене содержит несколько осколков оконного стекла. Подходим. Никого не видно. Свистим. Почти сразу откуда-то возникают два пацана с круглыми, монгольского вида лицами, поверх которых щётки чёрных волос. Кроме штанов неопределённого цвета и вида, на них ничего нет. Кстати, на нас тоже только драные, бесцветные от солнца и стирок трусы. Мы медленно сходимся, не говоря ни слова, у кривой двери хижины. Но у нас в руках по два-три прутика с подсохшими, почти прозрачными пескарями, так что наши намерения очевидны. Лица аборигенов остаются безучастными, но сами они поворачиваются к двери и идут внутрь. Мы следуем за ними. Острая смесь дымной копоти, прокисшего молока и лежалых шкур перехватывает дыхание. В полутьме виден посредине круглый очаг из камня и золы, нары с ворохами хлама вдоль стен и два ящика, грубо сколоченных из досок. Один из хозяев лезет в ящик и, покопавшись в нём, достаёт пару горстей каймака. Загружает его в карманы. С облегчением выходим наружу. Абориген достаёт из грязных штанов жёлто-серый кубик каймака и протягивает руку с ним одному из нас. В обмен он получает прутик с пескарём. Я тоже приобретаю два кубика каймака. Так же молча расстаёмся, вполне взаимно довольные обменом. Засовываем в рот противно-вкусные и вонючеватые кубики каймака.
Не знаю, какому народу принадлежали наши знакомцы. Определённо, это не были казахи, хотя наша область называлась Восточно-Казахстанской. Казахи не забирались в такие дикие горные углы. С ними мы встречались в степях предгорья, возле Зайсана, а здесь это было какое-то племя горно-алтайцев. Небольшой народ, злополучно не вписавшийся в цивилизацию русских пришельцев, но потерявший свои извечные жизненные средства в виде охоты, а может, и мараловодства. Какая могла быть охота, когда каждое ружьё стало на строжайший военно-политический учёт, и какое мараловодство, если всех маралов забрали в русский колхоз «Алтай-Мараловод». Похоже, не до всех малых народов дотягивалась благая рука борцов с «русским шовинизмом».
Лето уже в полном разгаре – теперь можно варить суп не только из зелёных стручков фасоли, но и добавляя мелкие – но какие вкусные! – картошки. Добываем их «подкапыванием» на нашем участке. Картофелины, появившиеся на боковых веточках корней, ещё размером с ноготь большого пальца, но их не нужно чистить срезанием шкурки. Лёгкая, розоватая, прозрачная, она легко соскабливается ножом, и картошинка становится белой и чистой. У соседей можно купить пол-литровую банку молока на день, и жизнь вовсе становится праздничной. Тем более что до нас доходят слухи о замечательных победах на фронте. Удивительно, что мама тем не менее не становится радостнее. Скорее, она теперь более озабоченна, чем обычно. И однажды она говорит, что уедет на несколько дней в Усть-Каменогорск. «А мы?» – «Останетесь. Я ненадолго. Вы уже большие. Суп вы можете сварить сами». – И уехала.
Много лет спустя я приехал навестить родителей во время отпуска. Они уже были в годах, отец на пенсии, а мама просто домохозяйка. Пенсию она не получала, потому что за работу в колхозе пенсия не полагалась, а за работу в школе надо было собрать справки из нескольких городов строек социализма: Магнитогорска, Комсомольска-на-Амуре, Усть-Каменогорска и посёлков строителей около них. С этой задачей она не справилась. Однажды, когда вспомнили годы на Алтае, я спросил маму, как она решилась на «путешествие» летом 1944 года, оставив нас в Пугачёво одних. «Ехать в Усть-Каменогорск было необходимо», – сказала она. Дело в том, что в конторе правления ей стали давать всё больше и больше разных прав и обязанностей. Поначалу это даже приносило удовлетворение, и она не без гордости писала об этом в письмах мужу. Но он не радовался, что ей стали доверять на подпись всё больше разных бумаг. Иной раз председателя или главбуха нет на месте – пусть счетовод Комарова подпишет сводную ведомость, отчёт или разрешение на выдачу. Намёками в письмах отец объяснил ей, чем это может кончиться. Сам он происходил из деревни Саратовской области и всю жизнь поддерживал связь с родными, оставшимися там. Так что был из первых рук осведомлён о нравах колхозной жизни. Сейчас и мне очевидно, что ничего не стоило разбаланс приход-расхода в конторе «Алтай-Мараловода» повесить на «городскую». Любви к городским «надзирателям» не стоило ожидать. Расхищение колхозного добра, в котором каждый килограмм был на внешнем учёте, всегда преследовалось строжайше. Что уж говорить о военном времени, когда каждый килограмм был для фронта, для победы. А, с другой стороны, и им, колхозникам, надо было жить. Всё производимое изымалось госпоставками, и оплата палочек-трудодней была почти символической. Так что приходилось выкручиваться. И вполне логично было списать недостачу на «городскую», отправив её в лагеря, да и лишнего глаза какое-то время не будет – пока это они нового счетовода найдут, да пока он сюда доберётся. Разрешение на поездку председатель дал, всё же она жена старшего лейтенанта, говорит, в городе надо присмотреть семейное имущество. К тому времени от истощения и недоедания мама начала страдать нарывами на руках, особенно под ногтями. Такие, особо мучительные, нарывы назывались «костоедами». Три дня на подводе до пристани на берегу озера Зайсан. Двое суток на пароходе тоже без какой-либо помощи. В Усть-Каменогорске её приняли на следующий же день, но отпустить из «Алтай-Мараловода» отказались: «Вот председатель вас хвалит, вы – отличный работник». На следующий день она добилась повторного приёма и заверила начальника, что будет жаловаться в воинскую часть мужа на Дальнем Востоке. Это оказалось действенной мерой – она получила увольнение из далёкого колхоза, ютящегося где-то в труднодоступных горах на границе с Китаем. Ещё пять суток, и она возвращается победителем в Пугачёво.


