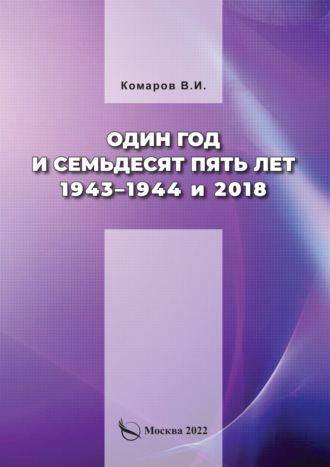
В. И. Комаров
Один год и семьдесят пять лет. 1943–1944 и 2018
В деревне деловое весеннее оживление. Земля подсыхает, скоро пахота. Между избами запах убираемого навоза, перебираемых мешков, шкур, ремней и конского пота. Дребезжат перетаскиваемые плуги, бороны, телеги, неумолчно стучит кузница. Бабы между делом перекидываются словами о Пасхе: «Скоро Пасха». Что это за Пасха, которая так заботит их?
В субботу на последнем уроке Нина Васильевна как-то смущённо и неясно рассказывает об этом празднике. Непонятно, надо его праздновать или такого праздника нет. Слушаем молча, я – потому что чувствую, спрашивать ничего не надо, другие – потому что уже знают всё, что надо знать. Дома у них и так знают, что праздновать надо, потому что всегда же праздновали – как это весна может быть без Пасхи? Придя домой, я спрашиваю маму, почему Нина Васильевна говорила так непонятно. Уж мама-то знает всё. Она и объясняет, что очень-очень давно был замечательный человек, его звали Иисус Христос. Он был такой хороший, что его за это убили. Замучили. Как раз в субботний день. А наутро узнали, что он снова стал живым. Это называется – воскрес. Поэтому этот день с тех пор назвали Воскресеньем. Это было так давно, что все те люди давно уже умерли, и никто не может рассказать точно, как это произошло. И с тех пор Христа никто не видел. Поэтому одни люди считают, что его и не было никогда, а другие убеждены, что был и действительно воскрес после смерти. Здесь, в нашей деревне, все верят, что был и воскрес, так что жив и сейчас, и придёт время, когда его все увидят. Поэтому они празднуют день его воскресения. Они празднуют этот день как главный праздник года, готовят специальные кушанья, называемые пасхами и куличами, специально красят яйца, а утром все говорят при встрече: «Христос воскрес!» – и надо ответить: «Воистину воскрес!» Понятно, что ни в коем случае нельзя проявлять неверие в том, что всё это так и есть. «Но это в самом деле правда?» – «Никто не знает правду так, чтобы убедить всех. Поэтому каждый человек сам решает, как ему думать. Конечно, есть такие, которые заставляют всех думать по-своему». – «Кто это?» – «Да хотя бы те, что делают журнал «Безбожник». – «А как мы?» – «Мы будем праздновать и покрасим яйца луковой шелухой».
И праздник действительно состоялся: шелуха была с луковиц, купленных у соседей, а яйца принесла Чернушка. Её купили за две недели до Пасхи с расчётом съесть на Пасху. Но она за первую же неделю снесла нам пять чудесных крупных яиц. К тому же оказалось, что она такая общительная и дружественная, что сама мысль съесть её стала невыносимой – кто же съедает своего маленького друга и члена семьи? Когда я готовлю домашнее задание, она вспрыгивает со скамейки на стол и подходит посмотреть, что я делаю. Она не мешает своим любопытством – просто стоит рядом, у лица, и, слегка наклонив голову, следит за движением пишущей руки. На столе она никогда не оставляет следов, даже когда за обедом получает достающиеся ей крошки или деликатно склёвывает с губы, если на ней что-то зависло. Получив имя Чернушки, она приняла нас в свою куриную семью как равных. Ко всем своим достоинствам она каждые три дня, с одним днём передышки, производит нам замечательно чистенькие яйца. Так что на Пасху я смог выйти во двор во всеоружии и наравне с другими принимать участие в боях яйцами. Более того, я чуть не вышел в чемпионы ближних дворов, потому что Чернушкины яйца оказались особо прочными.
И вот уже май. Солнце заливает нашу долину, она сверкает водой и буйно ликует яркой зеленью. Уроки перенесли на вторую смену, и с утра у меня много свободного времени, брожу по шумной забоке, полной скворцов, синиц, галок и множества каких-то неизвестных мне птиц; под ногами снуют мыши, ящерицы; извиваясь, скользят ужи, и надо остерегаться гадюк и медянок; в кустах шебаршат зайцы. Наша привольная изба тоже наполнена светом, отражающимся от золотистых бревенчатых стен и широченных светлых половиц. Расхаживаю по ним и размахиваю руками в такт лермонтовского «Демона»:
«И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал,
Под ним Казбек, как грань алмаза
Снегами вечными сиял.
И глубоко внизу чернея
Как трещина – жилище змея,
Вился излучистый Дарьял
И Терек, прыгая как львица
С косматой гривой на спине,
ревел…»
В который раз перечитываю, уже на память, а картины становятся всё ярче. Однако… однако надо идти в школу. Там Нина Васильевна читает нам «Зелёный шум» Некрасова. Я шокирован – что это такое? Как это можно называть стихотворением то, в чём нет рифм? Это просто неудачное подражание поэзии. Не проявляю возмущения на уроке, но с трудом дожидаюсь дома прихода мамы с работы и даю волю своему недовольству: «Зелёный шум, зелёный шум, конечно, шум, да ещё зелёный, и ничего больше». Мама успокаивает меня: «Не сердись, стихотворение может быть и без рифм. Ты только вслушайся в эти звуки, вслушайся – и услышишь шум молодой листвы, шум волн весеннего ветра, ведь это действительно зелёный шум, он праздником идёт по весеннему лесу». Успокаиваюсь, слегка смущённо. Ведь эти слова действительно необычны и не только звучат, но и несут с собой волны зелени, насквозь пронизанной светом. Они звучат в тебе, когда чтение кончено и книга закрыта. Конечно, это не «Демон», но тоже… что-то волшебно поднимающее над землёй.
Утром я вышел на крыльцо взглянуть, как выглядит вчерашняя пахота. К нашему двору примыкает довольно большой участок запущенного неиспользуемого огорода. Ясно, что его возделывали раньше хозяева нашего дома, но их почему-то не стало, а колхозу до этого огорода нет дела. Соседям же, наверно, хватает и своих участков, сюда они не лезут. Правление решило выделить этот участок под картошку семье «городских», и вчера во двор вошёл, ведя на уздечке лошадь, неразговорчивый хромой колхозник. Лошадь катила дребезжащий однолемешный плуг. Мужик провёл лошадь к забору на краю участка и опустил лемех. Наваливаясь на рукоятки плуга и подбадривая лошадь выкриками, он пошёл вдоль забора, разрезая землю и выворачивая её чёрным лоснящимся брюхом вверх. Тотчас же за ним увязались грачи и галки, пикируя на жирных красно-сизых дождевиков. Те не успевали сделать и полвитка, как их взмывало вверх. Мужик хромал за плугом довольно бодро, разворачиваясь на ближней и дальней границе участка, и вскоре весь участок покрылся тугими чёрными волнами. Мама вышла из счетоводской и сказала, что завтра будем сажать картошку. «Это будет наша картошка?» – «Да». От радости мы запрыгали: «Ура! Ура! У нас будет картошка!» В нетерпении сажать картошку я вышел утром на крыльцо. Великолепно. Участок на месте и ждёт нас. Но что это? Что так изменилось за дальней оградой участка? Там стало неожиданно пусто. Я не сразу понял, что там исчезла большая белоствольная берёза, только на днях покрывшаяся лёгким светло-зеленоватым облаком мелкой молодой листвы. Облако волновалось от ветра – зелёный шум, весенний шум. Но так было вчера. Сейчас берёзы не стало. Я бросился вдоль межи к месту, где до сего времени царствовала красавица. Сейчас там стоял здоровый грубый пень. Срез его был мокрым от сока, он сочился прозрачными струйками вниз по шершавой белой коре в глубоких чёрных трещинах. Мокрыми были и раскиданные вокруг щепки. Зачем? За что можно было убить берёзу? Ведь она была живая и вместе со всеми праздновала приход весны, праздновала Пасху. Я опустился на жердь развалившейся ограды и тупо смотрел, как по коре бежали юркие муравьи, опьянённые неожиданным подарком – потоком сладкого сока. Рядом валялось несколько помятых веток с ещё не увядшими, слегка клейкими, не вполне распустившимися листочками. Вот и всё, что осталось от моей гордой красавицы. Я так любил сидеть в её тени прошлым летом. Именно здесь я впервые услышал завораживающую музыку слов:
«Печальный демон, дух изгнанья
Летел над грешною Землёй
И прежних дней воспоминанья
Пред ним теснилися толпой…»
Я почувствовал сейчас просто необходимость грустной мелодии, начинавшей звучать исподволь. Ничто другое не поможет, кроме музыки слов. Так вот почему люди используют эти необычные, ритмичные слова со звуко-совместимыми концами ритмических волн. Иначе нельзя. Может, и у меня возникнут нужные слова. Кажется, приходят. Становится легче дышать и переносить охватившую грусть. Хотя как же далеки эти слова от волшебных лермонтовских: «Печальный демон, дух изгнанья…»
Поэзия поэзией, но чаще просто хотелось есть. Зимние запасы картошки, лука и капусты у всех истощились, а ничего нового ещё не появлялось. Самой обещающей была фасоль. На вьющихся стебельках появились с палец длиной почти прозрачные, бледно-зелёные стручки. Если посмотреть на свет, в них уже просматриваются тёмные пятнышки будущих зёрен. Но когда же они будут? Всё же даже сейчас, набрав горсть стручков, можно бросить их в подсолённый кипяток и, слегка поварив, получить отличный суп. Замечательно вкусный сам по себе. Но у мамы появилась идея «забелить» такой суп обратом. Обрат – это то, что остаётся от молока, когда из него на сепараторе отделены сливки. Правление разрешило получить на молоко-ферме полведра обрата и полведра пахты. А пахта – это то, что остаётся от сливок, когда из них отбито масло. И мы вдвоём, мама и я, идём на ферму. Она располагается за лощиной, на взгорье, окаймляющем село. Идти туда надо через заросли вдоль речушки, сбегающей вниз к Курчуму. Тропинка карабкается по мокрым камням, в густых зарослях кустов и мелких деревьев. Солнечные лучи вспарывают темноту чащобы, одуряюще пахнет цикутой. Влезаем на взгорок, тропинка вьётся теперь наверх по сухому каменистому склону, пахнущему чабрецом и полынью. Жарко – весна уже перерастает в лето. Ферма встречает нестройным мычанием коров, они толкутся по грязи за жердями загонов, отгоняя хвостами оводов. Из фанерного домика доносится машинный вой, а снизу, от речушки, упорно трындит движок, дающий электричество для механики. Колхозницы, увидев нас, приветливо машут руками – гости здесь, чай, не каждый день. Среди них хозяйка нашего первого жилья в Пугачёво – Тася. Она заводит нас в домик. Светло, чисто, в нос крепко шибает кисломолочным духом. Тася показывает нам дрожащие от бешеного вращения шумные машины, объясняет нам, городским, как работают сепараторы и маслобойка. Никелевый блеск и шум невиданных машин очаровывает меня – сепараторы подвывают, а маслобойка булькает и солидно бухает. Пока я кручусь вокруг машин, мама разговаривает с женщинами. На них приятно смотреть – они смеются, жестикулируют, помогая словам пробиться сквозь шум, ветерок с улицы размахивает их белыми передниками. Нам наливают в наши ведёрки обрат и густую комковатую пахту. Бригадирша заносит в журнал расход колхозного добра, и вот мы уже прощаемся. «Идите правой тропинкой, – советуют нам, – а то около левой бычишко буянит, недоглядели, удрал утром, пока не поймали».


