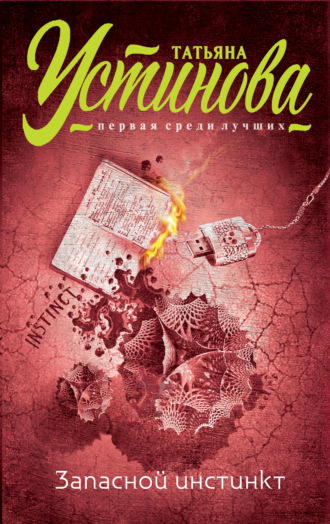
Татьяна Устинова
Запасной инстинкт
Консьержка вытаращила глаза.
– Что это вы, Арсений Михайлович? Никак переезжаете?
– Не дождетесь, – под нос себе пробормотал Арсений Михайлович. Полина расслышала, а консьержка нет.
– Эдита Карловна, это мои… старые вещи. Вы посмотрите, если вам что-то нужно для кого-нибудь, возьмите, а если нет, выбросьте. – И добавил: – Пожалуйста.
Он рос в хорошей семье и вырос вежливым мальчиком.
– Давай. Кидай. – Это уже к Полине.
Она опять секунду помедлила и не кинула.
– А ты карманы в этих… старых вещах проверил?
Про карманы он даже не вспомнил. Эдита Карловна смотрела на них, разинув рот, полный золотых и серебряных зубов. Переводила взгляд с них на барахло и обратно.
Полина стремительно присела – Гуччи в элегантном полосатом пальто завозился и занервничал у нее под мышкой – и стала решительно копаться в одежде Арсения, отыскивая карманы.
Консьержка неожиданно взвизгнула и подскочила так, что чайная ложка звякнула о подстаканник.
– Господи Иисусе, это что у вас?
– Где? А, это моя собака.
– А чего это она такая? Лишайная, что ли?
– Это такая редкая порода. Специальная.
– Без шерсти, что ли?
В одном кармане был бумажник, в другом ключи от машины. Полина достала бумажник и сунула Троепольскому. Он взял, и она продолжила шарить.
Ручка. Сложенный вчетверо листок бумаги. Десять копеек. Кажется, все.
– А телефон? Паспорт?
– Дома.
– Точно?
– Страсть какая-то, а не собака. И чего только не придумают, а? Собака на то и собака, чтобы в шерсти быть, хозяев охранять. А это? Разве ж это собака?
– Такая порода.
– Точно, не лишайная она?
Прямо у Полины перед носом были гранитные плиты пола и его ноги без носков, всунутые в старые кроссовки. Она отвела глаза и поднялась, сразу оказавшись одного с ним роста.
– Арсений Михайлович, так чего мне делать-то?
– Что хотите. Если вам ничего не нужно, выбросьте.
– Выбросьте, – пробормотала консьержка с презрением к богатым недоумкам, вроде Троепольского, которые время от времени начинают «чудить», – как бы не так! Такие вещи, да выбрасывать!..
– Пошли. Извините нас, Эдита Карловна. – За руку он потащил Полину к лестнице, и примерно на середине пути она выдернула руку.
– Ты что? С ума сошел?
– А что такое?
– Да ничего такого! Зачем ты все… выбросил?
Арсений Троепольский не мог сказать Полине Светловой, что выбросил все потому, что в его доме от этих вещей невыносимо воняло тюрьмой, и, как выяснилось совсем недавно, он просто не в состоянии жить в этом запахе.
И он сказал:
– Какое тебе дело?
Собака Гуччи из-под ее локтя посмотрела на него укоризненно. Гуччи не понравился его тон.
– Да мне никакого дела до этого нет, но тебя три дня продержали в кутузке.
– И что? У меня теперь подмоченная репутация? Эдита Карловна не сможет подарить мои штаны своему сыну по идейным соображениям?
– А то, что приедут менты, и она им скажет, что от одежды, в которой ты был у Феди, ты моментально избавился. И что тогда?
Она была права, и от ее правоты он раздражался все сильнее.
– И что?
– Ничего. У тебя будут неприятности.
– У меня и так их полно. Заходи.
Он пропустил Полину в квартиру, захлопнул дверь, обошел ее и исчез. Гуччи затряс ушами и посмотрел на Полину с вопросительной укоризной. «Он просто хам и совсем не джентльмен, – вот что выражали выпученные Гуччины глазки. – Зря ты с ним связалась».
– Да я и не связывалась, – прошептала Полина и ссадила собаку на пол.
– Что? – Троепольский стоял в дверях, вид у него был крайне раздраженный.
– Тебя давно отпустили?
– Два часа назад.
– Почему ты никому не позвонил?
– Кому, например?
– Сизову. Или… мне.
– Почему я должен вам звонить?
– Ты не должен, – тихо ответила она, – но мог бы.
– Ну хочешь, – предложил он, – я тебе позвоню. Прямо сейчас.
Она ехала и мечтала утешать его, если он окажется дома. Адвокат, с которым она разговаривала накануне, уверял, что в ближайшее время Арсения непременно выпустят, ибо держать его дальше «под стражей нет никаких законных оснований», и она поехала на свой страх и риск, изо всех сил надеясь, что его уже выпустили.
Арсения выпустили, но о том, что его нельзя утешать – никому не позволено, – она забыла. Его никогда нельзя было утешать, он не давался.
– Ты на машине?
Полина посмотрела на него – бледный, смуглый, заросший, очень раздраженный.
– Конечно.
– Я сейчас оденусь, и ты меня отвезешь на работу. Кстати, тебе тоже неплохо бы на работу сходить.
– Мне нужно с тобой поговорить.
– О чем, черт возьми?!
– О Феде.
Тут он внезапно повернулся и ушел, а Гуччи, семеня тонкими лапами, подбежал и прижался к Полине, как актриса мелодраматического жанра. Полина подхватила песика и отправилась разыскивать шефа в недрах его собственного жилья.
В отличие от Феди Троепольский вовсе не считал, что должен опроститься и снизить потребности не просто до нуля, а прямо-таки до абсолютного нуля. У него была просторная и в меру уютная квартира, очень мужская и приспособленная только для одного человека. Полина всегда чувствовала себя в ней не то чтобы странно, а как-то… не на месте, что ли. Лишней как будто. Впрочем, она и была здесь лишней.
Троепольский в спальне ожесточенно рылся в шкафу и на Полину даже не взглянул. Она постояла-постояла в дверях, вошла и села на плетеную корзину, которая помещалась в ногах императорской кровати. Гуччи трясся у нее на руках, лохматые уши дрожали.
Троепольский мельком глянул на них и продолжал рыться.
– Зачем ты его сюда приволокла?
– Он все время со мной. Он один не может. – Здорово, – оценил он.
– Что ты ищешь?
– Очки, черт возьми!
– В кресле лежат какие-то очки.
– Они мне не подходят.
Не мог же он сказать ей, что это те самые, в которых он был в кутузке, и теперь вряд ли он сможет когда-нибудь их носить! Надо было выбросить их вместе со всем остальным барахлом, а он пожалел.
Полина смотрела ему в спину – длинная мужская спина с цепочкой позвонков.
– Арсений, поговори со мной, пожалуйста.
– Я говорю.
– Что случилось? Ты понимаешь, что случилось?
Он наконец нашел очки, нацепил их и посмотрел на нее – так, что она непроизвольно подвинулась на плетеной корзине. Гуччи тоненько заскулил.
– Я понимаю, что случилось. Федьку убили.
– Зачем?! За что?!
– Вот этого, – сказал он любезно, – я как раз не понимаю.
– У него что-то украли?
– У него нечего красть. Компьютер на месте, а больше у него ничего нет.
– Ты… посмотрел?
– Нет. Я не смотрел. Но красть у него нечего.
– А с компьютером?.. Все в порядке?
Он дернул вторую полированную дверь, открылись полки от пола почти до потолка, и опять стал ожесточенно копаться. Очки взблескивали на носу.
– Полька, о чем ты меня спрашиваешь?
– О Федином компьютере.
Он перестал рыться, но не обернулся.
– Ты спрашиваешь, не влез ли я в Федькин компьютер сразу после того, как нашел его с проломленной башкой?..
Именно об этом она его и спрашивала, потому что это был очень важный вопрос. Самый важный вопрос. Полина знала это, а Троепольский не знал.
– Я не копался. Ты что? Идиотка? Я приехал к нему за печатью, открыл дверь и… и… – Теперь он смотрел на нее, не мигая, и от неловкости она еще подвинулась назад и нервным движением закинула за плечо прядь черных волос. И перехватила свою придурочную собаку, которая возилась у нее под мышкой.
– Если бы я не парился в пробке, если бы не ошибся подъездом, если бы лифт быстрее приехал, он был бы жив! Жив! А ты, твою мать, говоришь – «компьютер»! За каким хреном мне сдался его компьютер, когда я не успел! А мог успеть!..
– Ты ни в чем не виноват, – быстро сказала она, – жизнь не знает сослагательных наклонений.
Про эту жизнь, которая «не знает сослагательных наклонений», он был наслышан. Только что по всем телевизионным каналам отгремели поминки по тирану, почившему полвека назад, и во всех репортажах, зарисовках и «документальных детективах» то и дело употреблялось это самое «сослагательное наклонение», – а вот если бы телефон позвонил, охранник зашел, да еще почту привезли, может, он еще и очухался бы, тиран-то!..
Неизвестно почему вспомнив про телевизионные поминки, Троепольский пришел в бешенство.
Если бы не вспомнил, не пришел бы, но жизнь не знает сослагательных наклонений.
Лицо у него изменилось.
– Ты что? – испуганно спросила Полина. Гуччи заскулил еще тревожней и затрясся еще сильнее. Элегантное полосатое пальтецо его пошло складками.
– Ничего! Федьку прикончила какая-то сволочь, а ты – компьютер! Да при чем тут компьютер! Ему полголовы снесли до… до костей, до мозгов, ты понимаешь это или нет?! Дура! И они решили, что это сделал я, понимаешь?! Я! Что это я подошел к нему сзади, когда он за компьютером сидел, что я с собой топор принес или что там, что я… Федьку!
Он сорвал очки и швырнул их в сторону кровати. Полине показалось, что еще секунда, и он ее ударит, или начнет биться головой о стену, или заплачет – потому что глаза у него стали дикие, она никогда не видела у него таких глаз.
Лучше бы ударил.
– У него в двери даже замок… дерьмо, а не замок! Он же ни о чем никогда не думал! И какая-то сволочь его по голове… когда он не видел! Он спиной сидел! А они решили, что это я!..
Полина спихнула Гуччи на императорское покрывало – от ужаса уши у песика сложились, как крылья, – проворно поднялась и обняла Троепольского вместе с его слезами, гордостью, горем и желанием немедленно перегрызть горло хоть кому-нибудь, ей, к примеру.
Он выворачивался. Ругался. Он стискивал зубы и обзывал ее, и прятал лицо, и злобно и коротко дышал, но она пересилила его.
Он перестал вырываться, обнял ее за шею – он всегда так обнимал ее, как маленький, – и некоторое время они постояли молча. Ладони, державшие ее шею под волосами, были влажными и жесткими.
– Я найду того, кто его… ударил.
– Конечно.
– Я найду и убью его.
– Найдешь и убьешь.
– Сам. Потому что менты все равно никого и ничего не найдут!
Полина тоже была абсолютно убеждена, что никого и ничего не найти, именно поэтому ей так важно знать, трогал ли Троепольский Федин компьютер!
– Я не понимаю, зачем? – вдруг с силой произнес он. – За что, я не понимаю?! Федька! Он безобидный, как… дождевой червяк, черт возьми! Он вообще никогда ни во что не вмешивался, он за дверь всегда выходил, когда я… на Марата орал или на Сашку!..
– Тише.
Даже сейчас, в горе, и неизвестности, и потрясении, ей трудно было обнимать его… просто так. Слишком давно и слишком всерьез он был «мужчиной ее жизни», чтобы она могла взять и «выключить» все свои мысли о нем, все тяжкие думы о том, что все могло быть совсем по-другому, только захоти он, чтобы так было. Его вирус, когда-то отравивший ей кровь, никуда не исчез, она-то это точно знала!
Лучше б ей не знать.
Она знала, как он спит, как целуется, какие у него зубы и волосы на груди. Она знала, как он ест, – все равно что, лишь бы быстро и запивать молоком. Почему-то он все запивал молоком, даже водку, это было очень смешно, и очень по-детски, и нравилось ей, потому что ей все в нем нравилось! Она знала, каково это – заснуть и проснуться рядом с ним, в его запахе, тепле, в его мыслях, – они все были о работе и только одна – о ней, Полине. Но ей и одной было достаточно, правда!
Как-то сразу, в самом разгаре их романа, он понял, что на этот раз все гораздо серьезней, чем обычно, а дальше станет еще серьезней, и осторожно и нежно свел все на нет, как будто создал оптический обман – вроде ничего не меняется, и каждый новый день повторяет предыдущий, а когда она очнулась, он был уже далеко. Не вернуть.
Впрочем, его нельзя было вернуть, если он сам не хотел возвращаться, а он не возвращался никогда. Только вперед! Всегда.
– Ты что? – Кажется, он вдруг уловил ее напряжение, потому что отодвинулся и глянул ей в лицо.
Полина улыбнулась принужденной фальшивой улыбкой, взяла его за запястья и осторожно развела руки.
Он посмотрел на нее серьезно, моментально догадавшись, в чем дело. Он всегда и обо всем сразу догадывался – по крайней мере, о том, что касалось Полины.
– Брось ты, – сказал он негромко.
– Нет.
– Что – нет?
Все нет. Нет. Один раз она уже это проходила. С нее хватит.
Слишком близко он опять оказался и слишком… не вовремя. Никогда и ничего между ними не было возможно, а сейчас стало невозможно вдвойне – из-за того, что она знала, а он не знал.
Из-за Фединого компьютера. Из-за врага, неизвестного и оттого еще более опасного.
Троепольский вдруг обо всем позабыл – о раскуроченной Фединой голове, о собственном малодушии, о сослагательном наклонении, поминках тирана, о страхе и бессилии, которого он никогда не испытывал раньше. И о запахе тюрьмы позабыл, и о том, что должен спешить.
Очень давно он был с ней наедине. Тысячу лет назад, а может, десять. «Чашка кофе в середине рабочего дня» не в счет, а именно это он практиковал в последнее время.
Кажется, зима была или вот как сейчас – зыбкая грань, безвременье, смутное перетекание из одного в другое, ни в том, ни в другом нет ничего хорошего. Арсений тогда уже принял решение, только она еще ничего не знала. Он занимался с ней любовью, словно прощался, а ей померещилось, что наконец-то он понял что-то такое, чего не понимал никогда, – поэтому все так ярко, и остро, и необыкновенно. Вдруг ему показалось страшно важным вспомнить то, что он уже позабыл, – какая она с ним, как она дышит, двигается, молчит, стискивает зубы и таращится на него. Почему-то она никогда не закрывала глаз, все время смотрела на него.
Зачем вспоминать, когда так хорошо, так безболезненно все забылось?
Нет, не забылось, а словно окаменело и покрылось льдом. Эта самая глыба льда, внутри которой была их кратковременная сумасшедшая страсть друг к другу, словно торчала прямо посреди его сознания, и он все время натыкался на нее, обходил, перескакивал, старательно соблюдая правила, – не приближаться слишком, не рассматривать, не вспоминать.
Опасность он чувствовал, как волк.
Опасность, неотвратимость, неизбежность – приговор отложили на неопределенный срок, и точной даты приведения в исполнение он не знает.
Он понимал, что рано или поздно нужно будет избавляться от глыбы, потому что она постоянно угрожала ему, и знал, что вместе с ней придется выворотить изрядный кусок собственной души. До появления в его жизни Полины Светловой он вообще не подозревал, что эта самая душа у него есть.
А теперь она страшно ему мешала.
Все его инстинкты вопили, что сейчас самое время сделать шаг назад, перевести дыхание, осмотреться, обрести независимость и равновесие, насколько вообще возможно обрести равновесие после того фортеля, что выкинул с ним Федя! Он злился на Федю потому, что тот так непоправимо и глупо взял и оставил его одного – не должен был.
Все инстинкты вопили, и только один, самый распоследний, запасной, шептал вкрадчиво – ничего, ничего, не спеши. Она твоя, и ты всегда знал, что твоя. Она была и осталась твоей – с той самой минуты, как пришла к тебе в контору на собеседование, несколько лет назад.
Тогда все было не то – жизнь не та, и контора не та, и столы, и стулья, и двери, только она была такой же, как сейчас, – очень высокой, с очень черными волосами и непонятными глазами. Они просто покоя ему не давали, эти глаза, может, потому, что за очками их было не рассмотреть, и он только и делал, что пытался заглянуть в них – все пятнадцать минут разговора. Это потом он узнал, как она умна, насмешлива, как неуверенно заправляет за ухо волосы, когда волнуется, как постукивает карандашом по зубам, когда думает, как помешивает кофе в большой голубой кружке со сложной двойной ручкой, когда выслушивает его руководящие указания. Троепольский сам придумал для конторы эти кружки и ручки и очень ими гордился.
С тех пор прошло десять тысяч лет.
– Ты… собирайся, – из глубины этих тысяч лет сказала она почти ему в ухо. – Нам ехать надо. И машину я поставила… кое-как.
– Да, – согласился он. Уху было тепло от ее дыхания.
– В этом вашем Центре машину поставить целая проблема!
– Да, – опять согласился он.
Она зачем-то оглянулась на свое ушастое чудовище, которое тряслось посреди кровати. Волосы, мазнувшие его нос, пахли духами, свежими и легкими, как она сама.
Он потер нос и поморщился. Она мешала ему, раздражала его, особенно когда была так близко.
– Ты бы… оделся, – настойчиво повторила она, и от этой ее настойчивости, означавшей, что она все понимает и дает ему шанс отступить достойно и красиво, он разозлился.
Не нужно ему никакого понимания и такта. Он сам может проявить сколько угодно понимания и такта! Зачем она приехала, черт бы ее побрал? Жалеть и раздражать его?!
От раздражения, воспоминаний, от того, что чужие равнодушные люди посмели думать, будто он, Арсений Троепольский, виновен в смерти своего заместителя, от запаха тюрьмы, который изнутри грыз его, ему показалось, что во всем виновата она.
Ну, конечно, она. Не он же, в самом-то деле!
Чтобы наказать ее – и себя! – за то, что она вечно лезет не в свое дело, за то, что смущает его, и он послушно смущается, Арсений решительно взял ее за подбородок и поцеловал. От злости, а не от нежности.
Подбородок был хрупкий и узкий, и совсем рядом – беззащитное и открытое детское горло, в котором что-то пискнуло, когда он приналег посильнее.
Ему требовалось выместить раздражение, и ни о чем другом он не думал, когда начинал, но он все забыл, оказывается. Все-таки забыл, несмотря на глыбу, торчавшую в сознании.
Он забыл, что с ней у него никогда не получалось так, как со всеми. Не получалось, и все тут. Всем на свете он всегда управлял сам – эмоциями, своими и чужими, выбором времени и места, любовным пылом, когда таковой время от времени настигал его.
Нет, не так. Пыл его настигал, только когда он сам разрешал себя настичь. Никто не мог им манипулировать, и позиция у него была совершенно неуязвимая, как у мальтийского рыцаря, защищающего родной остров.
Если хотите, вы можете меня получить, но только на тех условиях, которые ставлю я сам. Не раньше и не позже, не больше и не меньше, и за последствия я не отвечаю, потому что мне наплевать. И всегда было наплевать, и всегда будет. Если вам это не подходит – я никого и ни к чему не принуждаю. Путь свободен, дверь открыта – «этот ливень переждать с тобой, гетера, я согласен, но давай-ка без торговли», или как-то в этом духе.
А с ней – нет, не получалось. В этой игре их всегда было двое, от начала до конца. Он как будто каждый раз попадался, а инстинкты вопили – берегись, берегись!.. И только тот самый, запасной, шептал вкрадчиво – попробуй.
Ты только попробуй, и сразу все поймешь. То, что там, «с гетерами», не имеет никакого отношения ни к чему, правда. Ты попробуй вот это, когда ты ничего не контролируешь, когда зависишь от нее, боишься ее и побеждаешь ее. Ты только попробуй, и больше тебе не захочется ничего другого, потому что с самого начала всей пикантной затеи с появлением рода человеческого предполагалось, что в этом деле должны участвовать двое, именно двое, а не один, пусть даже такой сильный, как ты!
Губы раскрылись, дыхание стало глубоким и горячим, и руки обожгли его кожу.
Он не был к этому готов. Он все забыл.
В голове ничего не осталось – это происходило с ним всегда, когда она трогала его. Сердце остановилось. Мысли остановились. Потом сердце ударило, как электрическим разрядом, и оно рванулось аллюром, или галопом, или вскачь, или еще быстрее. А мысли так и не догнали его, остались позади, в оцепенении и безмолвии.
Волосы ее были черными, как у цыганки из песни, что день и ночь неслась теперь из всех машин и пивных палаток, черт знает, он забыл, как ее звали, ту цыганку. Очки с этой он снял – очень медленно, потому что ему страшно нравилось снимать с нее очки. Что-то необыкновенно сексуальное было в этом, запредельное, странное. Он снял и, пошарив рукой, пристроил их позади себя, и взял ее за шею, и придвинул к себе близко-близко, и стал рассматривать ее глаза, и белую кожу, и висок с длинной прядью. И она медленно покраснела – она всегда краснела, когда он ее рассматривал, и это он тоже забыл.
– Обними меня, – приказал он. Именно приказал, а не попросил, потому что он всегда ей приказывал, а она слушалась – или делала вид, что слушается? Впрочем, сейчас ему некогда было вникать в такие тонкости. Она посмотрела на него со странным, будто укоризненным, изумлением. Он не обратил на это внимания. Заставил себя не обратить.
– Обними меня.
– Мы должны… ехать.
– Сейчас поедем. Обними меня.
– Там… все тебя заждались.
– Где?
– На работе.
– Подождут.
– Мы… правда должны ехать.
– Я знаю. Обними меня.
– Я… не могу.
– Почему?..
Он почти не отрывал губ от прохладной, бархатной, твердой щеки, которая словно отодвигалась, когда он прижимался к ней, и его это злило. И еще она так ни разу и не посмотрела ему в глаза, а ему неожиданно этого захотелось.
– Посмотри на меня.
Она взглянула и отвернулась.
– Что?..
– Арсений, нам… правда, надо в контору.
– Пока еще там начальник я. Когда захочу, тогда и приеду.
– Не… надо. Нам нельзя.
– Что ты заладила! – крикнул он. – «Нельзя, нельзя!..» Ты что, мусульманская жена, что тебе ничего нельзя?!
– Я не могу! – тоже крикнула она и даже топнула ногой.
– Зато я могу.
Он сжал руками ее голову и поцеловал по-настоящему, как не целовал уже тысячу лет. Или десять тысяч. И почувствовал движение нежного горла, и еще как она переступила ногами, чтобы прижаться к нему. Раскрытой ладонью она провела по его руке, от запястья до плеча, потом по шее, опять по плечам, а потом длинные пальцы оказались у него на груди. Он посмотрел на них.
В детстве ее учили музыке, он знал.
– Полька.
– М-м?..
– Ты…
– Что?..
– Ты меня… боишься?
Конечно, она его боялась, еще бы! Она нервничала в его присутствии, даже когда они были так называемыми любовниками и регулярно спали в одной постели.
Кроме того – и это всегда было понятно, – для него она оставалась просто еще одним эпизодом его бурной мужской биографии. А он для нее – «мужчиной жизни». Эта разница в их положении всегда заставляла ее нервничать.
– Я не хочу, чтобы ты меня боялась.
– Я постараюсь.
– Черт возьми, можно подумать, что мы в первый раз!..
Она посмотрела на него, и он моментально прикусил язык. Вовсе она не была пай-девочкой, Белоснежкой, Золушкой, послушной, нежной и благовоспитанной. С ней надо держать ухо востро – ошибок она не прощала. Он был уверен, что и в постели она его оценивает, и до смерти боялся на чем-нибудь проколоться. Об этом он тоже позабыл, а вот теперь вспомнил и перепугался. Да еще ее невозможная собака таращилась на них с покрывала – уши в разные стороны, в выкаченных карих глазах скорбь и отчаяние.
Троепольский, изо всех сил стараясь быть на высоте, стянул с Полины тонкий свитерок, прицелился и поцеловал ее в изгиб длинной шеи, а потом пониже, над самой грудью, и, решив, что все сделано уже достаточно правильно, потянул ее на диван. Ждать ему было некогда.
И дернул его черт в эту самую секунду посмотреть на нее!
Да не черт. Тот самый запасной инстинкт все шептал – посмотри да посмотри. Он посмотрел.
У нее было насмешливое лицо – вот-вот расхохочется, даже губы сложились эдаким бантиком, и подбородок выпятился.
– Ты что?!
Она помолчала секунду, а потом ответила жалобно:
– Ты очень смешной, – и все-таки засмеялась осторожно.
– Почему смешной?!
– Не знаю. Ужасно смешной. И что тебе в голову взбрело ни с того ни с сего, что мы должны прямо сейчас?..
Ничего они не были «должны», наоборот, они как раз были «не должны», но она засмеялась, черт ее побери!
Женщины никогда не смеялись над ним. Особенно в постели.
Он резко притянул ее к себе, так что локтем она стукнула ему в грудь, и заставил перестать смеяться, и разметал в стороны все ее связные мысли, и принудил смотреть себе прямо в глаза, и захватил ее в плен, и поработил ее волю, и подчинил себе ее разум. Он умел это делать.
Очень быстро он пошвырял на пол ее одежду, и его джинсы тоже куда-то делись, и они оказались вдвоем на императорской кровати. Китайская хохлатая собака Гуччи тявкнула то ли вопросительно, то ли жалобно.
Он все забыл. Он забыл, каково это – попробовать на вкус ее ключицы, или лодыжки, или сгиб локтя, или местечко на шее, под самыми волосами, и теперь вспоминал все, и оказалось, что ничего лучшего с ним не было последнюю тысячу лет. Или десять тысяч, он точно не помнил.
Почему-то в ту же секунду, когда они упали на императорскую кровать и собака Гуччи подалась от них в сторону, перестало иметь значение то, что они «не должны» и нужно спешить на работу, забылись запах тюрьмы и Федина смерть, и еще то, что никто не смел над ним смеяться, а она засмеялась, и теперь он «должен» вылезти из кожи вон, чтобы доказать ей… чтобы показать ей… чтобы заставить ее… чтобы… чтобы…
Она глубоко и коротко дышала и таращилась на него, и от ее взгляда в голове у него будто что-то взрывалось, и осколки осыпались со стеклянным шорохом. Сквозь этот шорох в ушах он слышал, как ревет кровь, и не понимал, чья это, его, или ее, или их общая – может, у них общее кровообращение?.. Все его инстинкты, основные и запасные, заткнулись и трусливо порскнули по углам, оставив его наедине с этим. Оно настигало его, и он уже понимал, что немного ему осталось, долго он не протянет, а почему-то казалось, что надо долго, чтобы она в другой раз не смела… или не могла… или не решилась… или… или…
Стало темно. Наверное, кончился день. Наверное, началась ночь. Или это что-то другое кончилось и началось?..
Вдвоем. И только вперед.
Однажды он видел волну – в Австралии, кажется, а может, в Малайзии. Океан был лохматый и страшный, взъерошенный трехдневным шквальным ветром. Пальмы стонали и почти ложились на песок, и ничего живого не было на берегу на многие десятки миль вокруг. Волна пришла издалека. Где-то там серое тяжелое мрачное небо навалилось на океан, взметнуло волну. Она шла, неотвратимая, огромная, стремительная, и было понятно, что, когда она рухнет на берег, настанет конец всему. Наверное, именно так выглядел Вселенский потоп, который видел перепуганный Ной в узкой щели своего ковчега.
Ничего нельзя изменить. Ничего нельзя отвратить. Ничего нельзя поправить, потому что поздно, поздно, потому что вот она, уже близко, и это вовсе не миллион тонн воды, а конец мира.
Он оглядывался на волну, ждал ее и боялся. И знал, что женщина, которая рядом, тоже ждет и боится. И все это было так же не похоже на обычные удовольствия, которые он практиковал, как вечерний прибой в городе Анапа на ту самую волну!..
Он смотрел ей в лицо и, кажется, понимал, что это катастрофа, катастрофа!.. И кто-то управлял им, потому что сам собой управлять он никак не мог и был весь мокрый, и от стиснутых зубов ломило в висках и в затылке, и он знал, что больше не может, не может, совсем не может, и тут волна рухнула на пустынный берег, залитый пеной яростного дождя, где на сотню миль вокруг не было ничего живого! Волна ударила его, потащила за собой, захлебывающегося, раздавленного, бездыханного, потому что внутри ее никак нельзя было дышать, и легкие словно выгорали изнутри, и, кажется, в эту секунду он увидел что-то такое, чего никогда не видел раньше, и понял, что катастрофа – это совсем не страшно, и очень просто, и в ней, правда, есть что-то другое, чего не видно со стороны. И ему почудилось, что он видит это, и знает, и понимает – и тогда волна отшвырнула его, и он остался на берегу, залитом яростным отвесным дождем.
Совершенно один, на многие десятки миль вокруг.
Катастрофа.
Он очнулся, потому что рядом с ним происходило что-то странное, чего не должно было происходить. Он открыл глаза и посмотрел.
Потолок – белый. По краям лепнина. Бригада строителей делала ремонт и намеревалась положить полированные доски как раз по этой самой лепнине. Троепольскому было все равно, доски так доски. Приехала его мать и дала бригадиру по шее, это она умела. «Вы что, уважаемый? – спросила сердито. – Или вы тупой? Этим потолкам двести лет, а вы хотите безобразий сверху наколотить!» Бригадир раскаялся и «безобразий» не «наколотил».
Троепольский так и эдак изучил лепнину. Голова болела, как с похмелья, и по телу словно проехался паровой каток. Глазам в орбитах тоже было неудобно, песок, что ли, насыпался?..
Опять шевеление где-то рядом. Что за черт?!
Он стремительно приподнялся, охнул, потому что чернота вдруг залила мозг, сел и помотал головой.
В ней с шелестом осыпалась чернота, и он все понял.
Волна. Мировая катастрофа.
Придерживая голову рукой, он посмотрел вокруг и обнаружил Полину Светлову, сотрудницу и бывшую любовницу, только что опять ставшую настоящей. Она лежала на животе, на краю императорской кровати, довольно далеко от него. Никаких признаков жизни не подавала.
Неужели умерла?..
– Полька?..
Писк, похожий на мышиный, шевеление, он в панике отдернул руку, которой коснулось что-то мокрое и живое. Ему показалось – змея.
Конечно, это была никакая не змея, а голая хохлатая собака Гуччи, которая в истерическом припадке тряслась рядом с его ладонью, поскуливала, подергивалась и тыкалась в него то боком, то носом, косила карим глазом, встряхивала ушами «с начесом».
– Полька, тут… твоя собака.
– М-м…
Так как она даже не шевельнулась, Троепольский подхватил Гуччи под голый розовый живот и, морщась от отвращения, ссадил на пол. Тот посмотрел на него с печальной укоризной и затрясся с утроенной силой. Троепольский отвернулся.
– Полька.
Она шевельнулась и осталась лежать. Арсений сверху задумчиво посмотрел на нее.
Он очень быстро остывал и знал это за собой. Он уже думал «про другое», и теперь это «другое» не давало ему покоя. Не то чтобы он раскаивался в содеянном, но ему очень хотелось, чтобы этого «содеянного» уже как бы и не было. Может быть, именно потому, что этот раз оказался каким-то особенно… впечатляющим.
– Полька, ты слышишь меня?
– Нет.
Он изумился.
– Нет?
– Нет.
Он перекатился на ее сторону и положил руку ей на спину. Спина была очень горячей, как будто температура поднялась. Она изогнулась – волосы перетекли по спине, – сняла его руку и сунула себе под щеку.
Троепольский замер.
Нежностей он не любил, считал, что они «расслабляют», а расслабляться ему было решительно некогда.
Федьку убили. Его самого три дня продержали в КПЗ. Он давно должен быть на работе. Он должен найти убийцу и вернуть разум сотрудникам, которые наверняка там без него совсем пропали, и работа пропала, и… Все, больше «падать в любовь» он не мог.
– Полька, нам надо… Надо вставать и ехать.
Она повернулась, не отпуская его руки, и он моментально отвел глаза.
– И собака твоя, наверное…
– Наверное, – согласилась Полина Светлова.
– Надо ехать.
– Понятно.
– Да ничего тебе не понятно!
Она разжала свои пальцы, державшие его ладонь, словно отпустила на волю.







