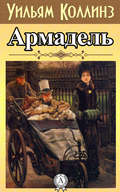Уилки Коллинз
Женщина в белом
Она кивнула с очаровательной грацией и подкупающим дружелюбием, которым дышало все, что она делала и говорила, и исчезла за дверью в глубине комнаты. Я вышел в холл и, следуя за слугой, направился к мистеру Фэрли, готовясь к встрече с ним.
VII
Мой провожатый провел меня наверх, в коридор, по которому мы пришли снова к моей спальне. Войдя в нее, он открыл дверь в другую комнату и попросил меня заглянуть туда.
– Мне приказано показать вам вашу гостиную, – сказал он, – и спросить, по вкусу ли вам ее убранство и освещение.
Я был бы чересчур привередлив, если бы эта прелестная комната не понравилась мне. Из большого окна открывался тот же радостный вид, которым я любовался утром из спальни. Мебель была дорогая и красивая. На столе посреди комнаты лежали книги в веселых переплетах, стояли прелестные цветы и изящный письменный прибор. Второй стол, у окна, был завален необходимыми принадлежностями для рисования и окантовки акварелей мистера Фэрли. К столу был приделан маленький мольберт, который я мог складывать или расставлять по усмотрению. Стены были обтянуты пестрым кретоном, пол устлан плетеными итальянскими циновками. Это была самая нарядная и уютная гостиная, которую я когда-либо видел, и я откровенно высказал свое восхищение.
Но слуга был слишком хорошо вышколен, чтобы в ответ на мои восторженные восклицания обнаружить малейшие признаки удовлетворения. С ледяной сдержанностью он поклонился и молча распахнул передо мной двери.
Мы снова вышли в коридор, завернули за угол, спустились на несколько ступенек, прошли небольшой холл и остановились перед обитой войлоком дверью. Слуга открыл ее, затем вторую, бесшумно распахнул две тяжелые портьеры из бледно-зеленого шелка, тихо проговорил: «Мистер Хартрайт», – и оставил меня одного.
Я очутился в огромной роскошной комнате с прекрасным лепным потолком. На полу лежал такой пушистый, мягкий ковер, что мои ноги утонули в нем. Вдоль одной из стен тянулся книжный шкаф из какого-то редчайшего дерева, с инкрустациями. Он был невысок, и на нем были симметрично расставлены мраморные бюсты. У противоположной стены стояли две старинные горки, вверху, между ними, висела картина под стеклом – «Мадонна с младенцем»; на позолоченной табличке, прикрепленной к раме, было выгравировано имя Рафаэля. Справа и слева от меня стояли шифоньеры и небольшие столики мозаичной работы, отделанные бронзой, переполненные дрезденским фарфором, изделиями из слоновой кости, дорогими вазами и всевозможными редкостными безделушками. Все это сверкало серебром, золотом и драгоценными камнями. В глубине комнаты на окнах были занавеси из того же бледно-зеленого шелка, что и на дверях. Поэтому свет в комнате был очаровательно мягкий, рассеянный, неясный, он упоительно подчеркивал глубокую тишину и атмосферу полного уединения, царившую здесь, и окружал непроницаемым покоем хозяина дома, устало сидевшего в огромном мягком кресле. К одной ручке кресла был приделан маленький столик, к другой – подставка для книг.
Если по наружности человека, перешагнувшего за сорок и тщательно совершившего туалет, можно судить о его возрасте (в чем я сильно сомневаюсь), то мистеру Фэрли на вид было за пятьдесят. У него было выбритое тонкое, усталое лицо, бледное до прозрачности, но без единой морщинки; крупный нос с горбинкой, большие бесцветные серые глаза навыкате с покрасневшими веками, волосы редкие, мягкие, того рыжеватого оттенка, в котором так долго незаметна седина. На нем был жилет и черный сюртук из какой-то мягкой материи, жилет и панталоны сияли безукоризненной белизной. Он был в светлых чулках, и его маленькие, как у женщины, ножки были обуты в туфельки из лаковой кожи под бронзу. Два перстня такой баснословной ценности, что даже мой неискушенный взгляд понял это, украшали его тонкие, изнеженные пальцы. Весь он выглядел чересчур хрупким, капризным, томно-нервическим и сверхутонченным, что неприятно и неестественно в мужчине, да и в женщине было бы отнюдь не привлекательно. Утренняя встреча с мисс Голкомб заранее расположила меня ко всем обитателям дома, но при виде мистера Фэрли мои симпатии мгновенно испарились.
Подойдя поближе, я увидел, что он не бездельничает, как мне показалось, а чем-то занят. Подле него на большом столе среди других редких и красивых вещей находился маленький шкафчик черного дерева, отделанный серебром. В его ящичках, обитых темно-красным бархатом, лежали древние монеты разной величины и формы. Один из этих ящичков с монетами стоял на приделанном к его креслу столике, тут же лежали замшевые полировальные подушечки, кисточки и пузырек с жидкостью. Все они ожидали своей очереди, чтобы чистить и полировать древние монеты. В хрупких пальцах он небрежно вертел нечто похожее, с моей точки зрения профана, на грязную оловянную медаль с рваными краями. Я остановился на почтительном расстоянии от его кресла и отвесил поклон.
– Счастлив, что вы в Лиммеридже, мистер Хартрайт, – сказал он капризным, каркающим голосом, в вялую безжизненность которого иногда неприятно врывались высокие, почти визгливые нотки. – Сядьте, прошу вас. Только, пожалуйста, не двигайте ваше кресло. Мои бедные нервы в таком состоянии, что всякое постороннее движение – источник неописуемых страданий для меня. Вы видели вашу студию? Ну, как?
– Я только что видел, мистер Фэрли, и уверяю вас…
Его умоляющий жест прервал меня на полуслове. Я удивленно осекся. Капризный голос соблаговолил прокаркать:
– Прошу простить меня, но, ради бога, не могли бы вы постараться говорить потише? Мои бедные нервы в таком состоянии, что я невыносимо страдаю от каждого звука. Не посетуйте на бедного инвалида. Мне приходится говорить то же самое каждому посетителю. Да. Итак, вам в самом деле нравится ваша комната?
– Я не представляю себе ничего более уютного и удобного, – отвечал я, понижая голос и начиная понимать, что нервы мистера Фэрли и его капризы – это одно и то же.
– Я так рад! Вы можете быть уверены, мистер Хартрайт, что в этом доме художники пользуются должным уважением. Здесь вам не придется сталкиваться с обычным варварским отношением англичан к служителям искусства. В юности я столько лет провел за границей, что сбросил с себя покров предрассудков. Мне хотелось бы сказать то же самое о моих соседях-аристократах – отвратительное слово, но, полагаю, мне придется употребить его, – об аристократах, живущих по соседству. В вопросах искусства это неисправимые варвары, мистер Хартрайт. Они вытаращили бы глаза при виде Карла Пятого[1], подающего кисти Тициану. Не откажите поставить этот поднос с монетами вон в тот шкафчик и подайте мне другой. Мои бедные нервы в таком состоянии, что любое усилие причиняет мне неслыханные страдания… Да. Благодарю вас.
Как иллюстрация к теории равенства, только что им провозглашенной, хладнокровное приказание мистера Фэрли очень позабавило меня. Я поставил поднос в шкаф и почтительно подал ему другой. Он начал перебирать монеты, чистить их маленькими замшевыми подушечками, возиться с ними и томно любоваться на них, продолжая в то же время разговаривать со мной.
– Тысяча благодарностей и тысяча извинений. Вы любите древние монеты?.. Да? Я счастлив, что наши вкусы совпадают еще в одном, помимо вопросов искусства. Кстати, коснемся житейского: вы довольны вашими условиями?
– Вполне, мистер Фэрли.
– Я так рад. Что еще? Да, вспомнил. Относительно моих забот о вашем благополучии, которые вы благосклонно согласились принять за то, что предоставляете мне право пользоваться вашими достижениями в области искусства. Мой камердинер зайдет к вам в конце недели, чтобы узнать, нет ли каких приказаний. И что еще? Странно, не правда ли? Мне надо было еще многое сказать, но я, кажется, все забыл. Не дернете ли вы шнурок? В том углу… Да. Благодарю.
Я позвонил, и слуга с прилизанными волосами, которого я видел впервые, неслышно появился в комнате, подобострастно улыбаясь, – лакей с головы до пят.
– Луи, – сказал мистер Фэрли, полируя свои ногти одной из замшевых подушечек, предназначенных для чистки монет, – сегодня утром я кое-что записал на моих табличках. Найдите их. Тысяча извинений, мистер Хартрайт. Боюсь, что я вам наскучил. – Он устало закрыл глаза, прежде чем я смог что-либо ответить.
Он и вправду наскучил мне, и я молча смотрел на Мадонну Рафаэля.
Лакей вышел из комнаты и вернулся с книжечкой в переплете из слоновой кости. Мистер Фэрли с легким вздохом очнулся, взял книжечку и мановением пальца велел лакею ждать дальнейших приказаний.
– Да. Именно так! – сказал мистер Фэрли, посоветовавшись с табличками. – Луи, подайте эту папку. – Он указал на папки, лежащие на полке у одного из окон. – Нет, не ту. Не с зеленым корешком! В ней гравюры Рембрандта, мистер Хартрайт. Вы любите гравюры?.. Рад, что у нас одинаковые вкусы… Папку с красным корешком, Луи. Не уроните ее!.. Вы не можете вообразить, какие муки я претерпел бы, мистер Хартрайт, если бы Луи уронил эту папку! Она не упадет со стула? Вы считаете, что она не упадет? Да? Я счастлив. Сделайте одолжение, посмотрите эти рисунки, если вы в самом деле считаете, что они в безопасности… Луи, уходите. Вы осел! Вы же видите, что я держу таблички! Долго ли я должен их еще держать? Почему вы не берете их у меня из рук?.. Тысячу извинений, мистер Хартрайт. Слуги – такие ослы, не правда ли?.. Как вам нравятся эти рисунки? Они прибыли в ужасном состоянии – мне показалось, что от них пахнет руками этих лавочников, торговцев картинами… Можете ли вы ими заняться?
Хотя нервы мои были недостаточно чувствительны, чтобы уловить запах рук каких-то плебеев, вкус мой был достаточно развит: я увидел перед собой прекраснейшие рисунки и акварели; по большей части это были великолепные образцы английской школы, и они, конечно, заслуживали более внимательного отношения со стороны их бывших хозяев.
– Их следует привести в порядок. По-моему, они очень ценны… – начал я.
– Простите, – перебил мистер Фэрли. – Вы не возражаете, если я закрою глаза, пока вы будете говорить? Даже этот свет ярок для меня. Да?
– Я хотел сказать, что рисунки заслуживают…
Мистер Фэрли вдруг открыл глаза и закатил их под лоб в невыразимой муке.
– Умоляю простить меня, мистер Хартрайт, – слабо прокаркал он, – но мне послышались голоса каких-то ужасных детей в саду – в моем саду! Под окнами…
– Я ничего не слышу, мистер Фэрли.
– Сделайте одолжение – вы так снисходительны к моим бедным нервам, мистер Хартрайт, – сделайте одолжение, приподымите – чуть-чуть! – уголок этой занавески… Только, ради бога, чтобы солнце не упало на меня… Выгляните в сад…
Я исполнил его просьбу. Сад был окружен глухой стеной. В нем не было ни единой души. Я оповестил об этом радостном факте мистера Фэрли.
– Тысяча благодарностей. Моя фантазия, вероятно. В доме, хвала Cоздателю, нет никаких детей, но слуги (эти люди рождаются без нервов!) иногда поощряют деревенских. Дети – какое отродье! О боже, какое отродье! Признаться ли вам, мистер Хартрайт, я так хотел бы усовершенствовать их конструкцию! Природа создала их как специальные механизмы для издавания криков, но наш очаровательный Рафаэль представлял их себе в тысячу раз привлекательнее, не так ли?
Он указал на картину, в верхнем углу которой были изображены традиционные головки херувимов итальянской школы – курчавые облака служили им удобной опорой для подбородков.
– Вот идеал! – сказал мистер Фэрли, осклабившись на херувимов. – Такие милые розовые личики! Такие милые нежные крылышки – и ничего больше! Ни грязных ног для беготни, ни крикливых глоток для воплей. Какое бесконечное превосходство мечты над реальностью!.. Я опять закрою глаза, если позволите. Так вы вправду займетесь рисунками? Я так рад! О чем мы хотели еще поговорить? Я забыл. Не позвоните ли вы Луи?
К этому времени я так же страстно желал закончить наше свидание, как, по-видимому, и мистер Фэрли. Я решил обойтись без помощи лакея.
– Единственное, о чем я хотел спросить вас, мистер Фэрли, – сказал я, – касается моих уроков с молодыми леди.
– Вот именно, – сказал мистер Фэрли. – Я хотел бы иметь достаточно сил, чтобы разобраться в этом. Но у меня нет сил. Пусть молодые леди, которые будут пользоваться вашими любезными услугами, сами решают… Да! Моя племянница очень любит ваше очаровательное искусство. И знает о нем достаточно, чтобы понимать, насколько она в нем слаба. Пожалуйста, займитесь этим. Мы поняли друг друга, не так ли? Я не смею отрывать вас дальше от ваших прелестных занятий. Так приятно договориться обо всем, покончить со всем житейским! Не откажите позвонить Луи, чтобы он отнес папку в ваши комнаты.
– Я отнесу ее сам, мистер Фэрли, если позволите.
– В самом деле? У вас хватит сил? Как приятно быть таким сильным! Вы уверены, что не уроните ее? Счастлив, что вы в Лиммеридже, мистер Хартрайт. Я такой мученик, что вряд ли смогу часто наслаждаться вашим обществом. Вы постараетесь, уходя, не очень хлопнуть дверью и не уронить папку? Благодарю вас. Осторожнее с портьерами – малейший шум вонзается в мои бедные нервы, как нож. Всего лучшего.
Когда портьеры бесшумно раздвинулись и двери неслышно закрылись за мной, я на мгновение остановился в маленьком холле, и глубокий вздох облегчения вырвался из моей груди. Покинув мистера Фэрли, я как будто вынырнул на поверхность, пробыв долгое время в холодной зеленой тине.
Усевшись за работу в моей веселой студии, я первым долгом решил как можно реже показываться в апартаментах хозяина дома, разве только в тех исключительных случаях, когда он сам меня пригласит. Покончив с этим вопросом, я снова обрел душевное равновесие, нарушенное высокомерной развязностью и наглой учтивостью мистера Фэрли. Остаток утра прошел спокойно и приятно за работой: я просматривал рисунки, раскладывал их, обрезал обтрепанные края и приготовлял их для окантовки. Но чем дальше, тем нетерпеливее ждал я двух часов. Мне не сиделось на месте, я не мог сосредоточиться, работа моя не клеилась, хотя и была весьма несложной.
Ровно в два я, немного волнуясь, спустился в столовую. Возвращение в эту комнату сулило мне много неожиданностей. Я должен был познакомиться с мисс Фэрли и, что было еще интереснее, если розыски мисс Голкомб в семейных архивах увенчались успехом, разгадать тайну женщины в белом.
VIII
Когда я вошел в столовую, мисс Голкомб уже сидела за столом в обществе какой-то пожилой дамы.
Эта дама, с которой меня познакомили, была миссис Вэзи, старая гувернантка мисс Фэрли. Ее-то и назвала утром моя сотрапезница «воплощением добродетели», заметив, однако, при этом, что миссис Вэзи «не идет в счет». Я могу только подтвердить, что мисс Голкомб совершенно правильно определила характер почтенной старушки. Миссис Вэзи олицетворяла человеческое спокойствие и женскую приветливость. В ленивой, сонной улыбке, сквозившей на ее полном кротком лице, проглядывала простодушная удовлетворенность своим безмятежным существованием. Иные из нас мчатся сквозь жизнь, иные прогуливаются по ней – миссис Вэзи провела всю жизнь сидя. С утра до вечера она сидела: в доме, в саду, у окна, во всяких неожиданных местах, на раскладном стульчике, когда друзья пробовали уговорить ее прогуляться; она садилась, чтобы поглядеть на что-нибудь, чтобы поговорить о чем-нибудь, чтобы произнести простейшие «да» или «нет» в ответ на самые обыденные вопросы. Ее всегда видели с той же мирной улыбкой на устах, с тем же рассеянно-внимательным взглядом, в той же удобной и чинной позе – всегда и при всех обстоятельствах, какими бы они ни были. Благодушная, мягкая, невыразимо спокойная старушка, которая, казалось, так и не жила с той самой минуты, как родилась. У природы столько дел в этом мире, ей приходится создавать такую массу разнообразнейших творений, что, возможно, по временам она и сама не в силах разобраться во всей этой путанице. Исходя из этого, я лично навсегда останусь при мнении, что, когда миссис Вэзи родилась, мать-природа была всецело поглощена сотворением капусты, и бедная леди стала жертвой сельских занятий праматери всего сущего.
– Ну, миссис Вэзи, – сказала мисс Голкомб, особенно оживленная, остроумная и блестящая по сравнению с тихой старушкой, которая сидела с ней рядом, – что вы хотите – котлетку?
Миссис Вэзи положила свои полные ручки в ямочках на стол, кротко улыбнулась и сказала:
– Да, дорогая.
– А что перед мистером Хартрайтом? Цыпленок? Вы, кажется, больше любите цыплят, миссис Вэзи?
Миссис Вэзи сняла ручки со стола, положила их на колени, созерцательно посмотрела на вареного цыпленка и сказала:
– Да, дорогая.
– Чего же вам все-таки хочется? Чтобы мистер Хартрайт передал вам цыпленка или я – котлету?
Миссис Вэзи снова положила одну из своих ручек на край стола, задумалась и сказала:
– Что хотите, дорогая.
– Господи, ну что вам больше по вкусу? Может быть, положить вам кусочек и того и другого? Или вы начнете с цыпленка, тем более что мистер Хартрайт, по-видимому, жаждет отрезать для вас крылышко?
Миссис Вэзи положила вторую ручку на стол, чуть-чуть оживилась, потом погасла, послушно кивнула и сказала:
– Пожалуйста, сэр.
Не правда ли, благодушная, кроткая, невыразимо спокойная и безобидная старушка? Но, может быть, на сегодня довольно о миссис Вэзи?
В продолжение всего этого времени не было и признаков появления мисс Фэрли. Мы покончили с завтраком, но она все еще не приходила. От быстрых глаз мисс Голкомб ничто не могло укрыться. Она заметила взгляды, которые я украдкой бросал на дверь.
– Я понимаю вас, мистер Хартрайт, – сказала она, – вам хотелось бы знать, где ваша вторая ученица. Головная боль у нее прошла, но аппетита нет. С моей помощью вы найдете ее в саду.
Взяв зонтик, лежащий подле нее на стуле, она направилась в сад через большую стеклянную дверь, открывавшуюся прямо на лужайку перед домом. Само собой разумеется, миссис Вэзи осталась сидеть за столом в прежней удобной позе, очевидно намереваясь просидеть так весь день.
Когда мы пересекли лужайку, мисс Голкомб значительно посмотрела на меня и покачала головой.
– Ваше таинственное приключение все еще окутано непроницаемым мраком, как ему и полагается, – сказала она. – Все утро я просматривала письма, но ничего еще не нашла. Однако не отчаивайтесь, мистер Хартрайт. Это дело любопытное, а в союзниках у вас женщина, поэтому рано или поздно успех обеспечен. Письма еще не все прочитаны, остались три связки, и вы можете положиться на меня – я потрачу на них весь вечер.
«Мои утренние ожидания не оправдались. Будет ли знакомство с мисс Фэрли таким же разочарованием?» – подумал я.
– Как вам понравился мистер Фэрли? – спросила мисс Голкомб, когда мы пошли по аллее. – Он очень нервничал сегодня? Не трудитесь отвечать, мистер Хартрайт: достаточно того, что вы замялись. По вашему лицу мне ясно, что сегодня он особенно нервничал. Чтоб вы сами не нервничали, я больше ни о чем не спрошу вас.
Свернув на узкую дорожку, мы вышли к красивому деревянному домику в швейцарском стиле, поднялись по ступенькам и очутились в комнате. Молодая девушка стояла у простого некрашеного стола, глядя вдаль на расстилавшуюся за деревьями равнину, поросшую вереском, и задумчиво перелистывала маленький альбом. Это была мисс Фэрли.
Как описать ее? Как передать то первое впечатление независимо от собственных переживаний и от всего того, что произошло в дальнейшем? Могу ли я снова увидеть ее такой, какой увидел ее впервые, для того чтобы те, кто читает эти страницы, увидели ее вместе со мной?
Портрет Лоры Фэрли в той же позе и в той же комнате, написанный мною акварелью некоторое время спустя после нашей первой встречи, лежит сейчас на моем письменном столе. Я пишу и смотрю на него. Передо мной на коричнево-зеленом фоне летнего домика отчетливо возникает светлый юный образ. Она в простом белом кисейном платье в голубую полоску. Бледно-голубой шарф из той же материи ласково и воздушно обвивает ее плечи. Маленькая соломенная шляпка, скромно отделанная лентой в цвет платья, бросает прозрачную легкую тень на ее лоб. Ее волосы очень светлого каштанового оттенка – не льняные, но воздушные; не золотые, но блестящие, – и кажется, будто они тают в воздухе, сливаясь с тенью от ее шляпы. Они разделены на прямой пробор и мягкими прядями обрамляют ее лицо. Брови чуть темнее волос, а глаза того кристально-прозрачного бирюзового цвета, который так часто воспевают поэты и который так редко встречается в жизни. Прекрасен цвет, прекрасен разрез этих глаз – больших, задумчивых, нежных, – но прекраснее всего глубокая правдивость, сияющая в них неподдельно и неизменно, как отражение Лучшего Мира. Пленительное очарование, которое они так мягко и так непреодолимо излучают, преображает ее лицо, скрывая все его недостатки; поэтому трудно говорить о достоинствах его отдельных черт. Не замечаешь, что подбородок несколько слабо развит; что нос (отнюдь не орлиный – таковой неизбежно придает женскому лицу злой и хищный вид, как бы красив он ни был) маловат и не отличается идеальной правильностью; что нежные, мягкие губы с приподнятыми уголками иногда нервно подергиваются, когда она улыбается. Все эти недостатки, возможно, были бы заметны на другом женском лице, но тут их не видишь, все сливается в одно целое – живое, прелестное, выразительное, присущее только ей одной. Так велика непреодолимая сила очарования ее глаз.
Передал ли все это мой бедный портрет, написанный с такой любовью и старанием в те безмятежные, счастливые дни?.. О, как мертво все на рисунке и как живо в моей памяти! Светловолосая хрупкая девушка в легком платье, голубоглазая и невинная, с альбомом в руках – вот и все, что можно увидеть на портрете; вот, может быть, и все, что можно передать словами. Женщина, впервые давшая жизнь, свет и форму нашему туманному представлению о красоте, заполнит в нашей душе пустоту, о которой мы и не подозревали до появления ее. Наша душа откликнется в такую минуту на очарование, несравненно более глубокое, чем то, которое постигается разумом и может быть выражено в словах. Когда обаяние женской красоты проникает в самые глубины нашего сердца, оно становится невыразимым, ибо переходит ту грань, за которой перо уже не властно.
Подумайте о ней, как вы думали о той, что впервые задела в вас струны, молчавшие при других женщинах. Пусть ясные, чистые голубые глаза встретятся с вашими, как они встретились с моими в том первом, неповторимом взгляде, который мы оба запомнили навсегда. Пусть голос ее звучит, как музыка, в ваших ушах, – так же сладостно, как звучал в моих. Пусть шаги ее, когда она появляется на этих страницах и уходит с них, напомнят вам те, воздушные, на которые отзывалось ваше сердце. Представьте ее себе как воплощение вашей самой несбыточной мечты, и тогда вы увидите ту, что живет в моем сердце.
Среди вихря ощущений, поднявшихся во мне при виде ее, – ощущений, знакомых всем нам, внезапно пробуждающихся к жизни в глубине наших сердец, так часто умирающих и так редко рождающихся заново, – одно, почти мучительное, отзывалось во мне тупой, неясной болью. Оно тревожило и мучило меня, казалось таким неоправданным, было так не к месту в присутствии мисс Фэрли.
К яркому впечатлению, которое произвели на меня ее красота, ее обаяние, простота и скромность ее манер, примешивалось другое чувство, смутно мешавшее мне. То мне казалось, что причина кроется в ней, то я обвинял в этой раздвоенности самого себя, но что-то мешало мне воспринимать ее цельно, как следовало бы. Ощущение это усиливалось, когда она смотрела на меня; иными словами, именно тогда, когда красота ее была перед моими глазами, я был смущен чувством какой-то неудовлетворенности. Я не понимал, в чем дело, не мог определить этого ощущения. Чего-то не хватало, а чего именно – я не знал.
Эта странная «игра воображения» (так думал я тогда) не способствовала моей непринужденности в первые минуты знакомства с мисс Фэрли. На ее милое приветствие я ничем не сумел ответить. Заметив мое смущение и, очевидно, объяснив его моей застенчивостью, мисс Голкомб легко и находчиво, как всегда, взяла нить разговора в свои руки.
– Посмотрите, мистер Хартрайт, – сказала она, показывая на альбом и на маленькую ручку, перебиравшую его листы. – Согласитесь, наконец вы нашли примерную ученицу. Узнав, что вы приехали, она хватает свой бесценный альбом, смотрит прямо в лицо божественной природе и жаждет начать уроки!
Мисс Фэрли засмеялась так весело, словно солнечный луч озарил ее лицо.
– Я не стою этих похвал, – возразила она, глядя своими ясными, правдивыми глазами то на мисс Голкомб, то на меня. – Как ни люблю я рисовать, я всегда сознаю, что рисую плохо, и скорее боюсь, чем жажду уроков. Узнав, что вы здесь, мистер Хартрайт, я стала просматривать свои рисунки, как когда-то, девочкой, я просматривала школьные уроки в страхе, что получу за них плохую отметку.
Она призналась в этом очень просто и с детской серьезностью прижала к себе свой альбом.
– Плохие или хорошие, рисунки все равно должны предстать на суд учителя, и дело с концом, – сказала решительно мисс Голкомб. – Давай возьмем их с собой в коляску, Лора. Пусть мистер Хартрайт впервые увидит их, когда мы будем трястись на ухабах. Если только мы сумеем помешать ему во время прогулки увидеть природу такой, какая она есть – когда он будет смотреть вокруг себя, и такой, какой она не бывает – когда заглянет в наши альбомы, – мы принудим его наговорить нам с отчаяния массу комплиментов, и павлиньи перышки нашего самолюбия не помнутся.
– Я надеюсь, что мистер Хартрайт не будет говорить мне комплиментов, – сказала мисс Фэрли, когда мы вышли из домика.
– Смею спросить: почему? – сказал я.
– Потому что я поверю всему, что вы мне скажете, – просто ответила она.
Этими безыскусными словами она дала мне ключ к своему характеру. Доверие к людям было отражением ее собственной полной правдивости. Тогда я угадал это сердцем. Теперь я знаю это по опыту.
Миссис Вэзи все еще сидела за опустевшим обеденным столом, когда мы весело подняли ее с места, чтобы пересадить в открытую коляску и вместе ехать на обещанную прогулку. Пожилая леди и мисс Голкомб сели на заднее сиденье, а мисс Фэрли и я устроились против них. Альбом, конечно, был доверен моему опытному глазу, но серьезный разговор о рисунках был немыслим при мисс Голкомб, которая откровенно высмеивала всякое женское искусство, в том числе свое и своей сестры. Мне гораздо больше запомнился наш разговор, особенно когда в беседе принимала участие мисс Фэрли, чем рисунки, которые я машинально просматривал. Все, что связано с ней, я помню так живо, как будто это было вчера.
Да! Признаюсь, что с первого же дня, очарованный ею, я позволил себе забыться, я забыл свое положение. Самый простой ее вопрос: «Как держать карандаш? Как смешивать краски?», малейшая перемена в выражении ее глаз, устремленных на меня с таким серьезным желанием научиться всему, чему я мог научить, и постичь все, что я мог показать, приковывали к себе мое внимание несравненно сильнее, чем самые красивые места, мимо которых мы проезжали, или игра света и тени над волнистой равниной и пологими берегами моря. Не странно ли, что все окружающее так мало на нас влияет, когда мы всецело поглощены какой-то думой? Только в книгах, но не в действительности, мы ищем утешения на лоне природы, когда мы в горе, или созвучия в ней, когда мы счастливы. Восторги перед ее красотами, так подробно и красноречиво воспетые в стихах современных поэтов, не отвечают необходимой жизненной потребности даже лучших из нас. Детьми мы их не замечали. Те, кто проводит жизнь среди многообразных чудес моря и суши, обычно нечувствительны к явлениям природы, не имеющим прямого отношения к их призванию в жизни. Наша способность воспринимать красоту окружающего нас мира является, по правде сказать, частью нашей общей культуры. Мы часто познаем эту красоту только через искусство. И то только в те минуты, когда мы ничем другим не заняты и ничто другое нас не отвлекает. Все, что может постичь наша мысль, все, что может познать наша душа, не зависит от красоты или уродства мира, в котором мы живем. Возможно, причина отсутствия связи между человеком и вселенной кроется в огромной разнице между судьбой человека и судьбой природы. Высочайшие горы исчезнут во мраке времен, малейшее движение чистой человеческой души – бессмертно.
После трехчасовой прогулки наша коляска снова проехала через ворота лиммериджского дома.
На обратном пути я предоставил дамам выбрать пейзаж, который они должны были рисовать под моим наблюдением на следующий день. Когда они удалились, чтобы переодеться к обеду, и я остался один в своей комнате, мне стало вдруг почему-то не по себе. Я чувствовал смутное недовольство самим собой, не понимая, в чем его причина. Потому ли, что на прогулке я держал себя скорее как гость, чем как учитель; потому ли, что в меня снова вселилось то странное чувство, которое встревожило и огорчило меня при первом знакомстве с мисс Фэрли. Во всяком случае, я почувствовал облегчение, когда настал обеденный час и я мог присоединиться к обществу хозяек дома.
Первое, что мне бросилось в глаза, когда я вошел в столовую, была разница в туалетах трех дам. В то время как миссис Вэзи и мисс Голкомб были роскошно одеты (каждая в манере, присущей ее возрасту) – первая в серебряно-сером, вторая в светло-палевом платье, которое очень шло к ее смуглому лицу и черным волосам, – мисс Фэрли была в очень скромном платье из белого муслина. Оно было снежно-белым и очень шло к ней, но это простенькое платье могла бы носить и жена или дочь бедного человека. Ее гувернантка была одета гораздо богаче, чем она сама. Позднее, когда я поближе узнал мисс Фэрли, я понял, что это была своего рода деликатность, боязнь хотя бы в одежде подчеркнуть свое богатство. Ни миссис Вэзи, ни мисс Голкомб никогда не могли ее уговорить одеваться наряднее и роскошнее, чем они.
Покончив с обедом, мы все вместе вернулись в большую гостиную. Несмотря на то, что мистер Фэрли (очевидно, в память могущественного короля, самолично подававшего кисти Тициану) приказал дворецкому узнать, какие вина я предпочитаю после обеда, я решительно отказался от искушения посидеть в великолепном одиночестве за бутылками собственного выбора и испросил у дам разрешения на время моего пребывания в Лиммеридже покидать обеденный стол всегда вместе с ними по благородному обычаю иностранцев.
Гостиная, в которую мы перешли, такая же большая, как и столовая, была на нижнем этаже. В глубине комнаты широкие стеклянные двери открывались на террасу, всю уставленную цветами и всевозможными растениями. В мягком сумрачном свете листья и цветы сливались в одно гармоническое целое, и сладкое благоухание вечера приветствовало нас через открытую дверь. Миссис Вэзи неизменно садилась первая – она завладела креслом в углу и сразу же уютно задремала. Мисс Фэрли по моей просьбе села за рояль, я – подле нее, а мисс Голкомб – у окна, чтобы, пользуясь последними спокойными лучами догорающего заката, просмотреть письма своей матери.