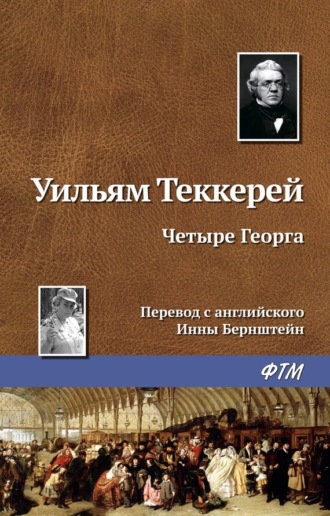
Уильям Мейкпис Теккерей
Четыре Георга
В добрые старые времена, о которых я веду речь, когда простых людей сгоняли, точно скот, и гуртами продавали на сторону вести войну с врагами императора за Дунаем или встречать в штыки на Рейне таких же простых людей, составляющих войско короля Людовика, дворяне разъезжали из столицы в столицу, переходили со службы на службу, повсюду, естественно, получая право командовать презренной солдатней, которая сражалась и умирала без всякой надежды выслужиться. Знатные авантюристы перебирались от двора ко двору, ища доходных мест; и не только мужчины, но и дамы тоже; эти последние, если судьба наделяла их красотой и им удавалось привлечь внимание государей, оседали при дворах и становились фаворитками королевских высочеств и величеств, от которых получали в подарок большие суммы и роскошные драгоценности, а также титулы герцогинь, маркиз и тому подобное, нисколько не теряя в общественном мнении от того, каким путем они всех этих благ добились. Так прибыла в Лондон специально подосланная Людовиком XIV очаровательная мадемуазель де Керуайль и была с благодарностью принята нашим монархом и отечеством и наречена герцогиней Портсмутской. Подобным же образом разъезжавшая по белу свету несравненная Аврора фон Кенигсмарк удостоилась благосклонности саксонского курфюрста и польского короля Августа и стала матерью графа Морица Саксонского, который, будучи маршалом Франции, задал нам трепку при Фонтенуа; и точно так же две прелестные сестрицы Елизавета и Мелюзина фон Майссенбах, изгнанные из Парижа бдительным попечением властвовавшей там временщицы, забрели в Ганновер и осели там в роли фавориток царствующего дома.
Упомянутая красавица Аврора фон Кенигсмарк и ее брат очень ярко и своеобразно иллюстрируют нам былые обычаи и нравы. Кенигсмарки происходят от древней и знатной бранденбургской фамилии, одна ветвь которой переселилась в Швецию и там обогатилась и дала несколько видных исторических личностей.
Основателем рода был Ганс-Кристоф, знаменитый полководец и грабитель времен Тридцатилетней войны. Один из сыновей Ганса-Кристофа, Отто, был отправлен послом ко двору Людовика XIV и как таковой должен был при представлении держать перед троном речь по-шведски. Был он известный щеголь и вояка, но заготовленная речь полностью вылетела у него из головы. И что бы вы думали, он сделал? Нимало не смутясь, произнес по-шведски перед его христианнейшим величеством и двором отрывок из катехизиса, – ведь его все равно никто не понял, кроме его собственной свиты, а уж ей иного не оставалось, как хранить приличествующую случаю серьезность.
Племянник Отто и старший брат Авроры Карл-Иоганн фон Кенигсмарк был любимцем нашего Карла II, – красавец, щеголь, задира и негодяй, каких мало, он едва избежал в Англии виселицы, хотя сполна заслужил ее убийством Тома Тинпа из Лонглита. С ним в Лондоне жил его младший брат, тоже красавец, тоже щеголь и тоже порядочный негодяй, весь в старшего. Юный Филипп фон Кенигсмарк был вместе с братом замешан в этом убийстве, и, право, жаль, что он уберег свою красивую шею от петли. Он перебрался в Ганновер и вскоре был назначен командовать его светлости курфюрста Ганноверского драгунским полком. Когда-то, еще мальчиком, он состоял пажом при герцогском дворе в Целле; и рассказывают, будто он и прекрасная принцесса София-Доротея, теперь супруга наследного принца Ганноверского, были в детстве влюблены друг в друга. Любви этой теперь предстояло возродиться, чтобы привести затем к ужасному концу.
Недавно была выпущена биография супруги Георга I, принадлежащая перу доктора Дорана, и я, признаюсь, был поражен приговором, который выносит автор, оправдывая эту многострадальную женщину. Что муж у нее был холодный эгоист и распутник, никто не спорит; но что у этого плохого мужа была плохая жена, тоже не вызывает сомнений. Она вышла замуж за собственного кузена ради денег или иных выгод, как полагается всякой принцессе. Собой она была необыкновенно хороша, жива, остроумна, образованна; его грубость выводила ее из себя; жестокость оскорбляла ее нежные чувства; от его холодности, от его привычки молчать у нее стыло сердце. Не удивительно, что она мужа не любила. О какой любви могла идти речь в подобном браке? Бедная женщина должна была как-то распорядиться своим незанятым сердцем, и она вздумала подарить его Филиппу Кенигсмарку, негодяю, которому равного не сыскать во всем XVII столетии. Спустя сто восемьдесят лет с того дня, как этот красавчик опочил в своей безвестной могиле, один шведский профессор случайно наткнулся в университетской библиотеке Упсалы на шкатулку с письмами, которые писали друг другу Филипп и Доротея, и так стала известна их печальная история.
Неотразимый Кенигсмарк завоевал в Ганновере два женских сердца. Помимо молодой красавицы – супруги наследного принца Софии-Доротеи, он еще сумел внушить страсть старой придворной мегере графине фон Платен. Принцесса осаждала его своей верной многолетней любовью. Нежные письма во множестве тянулись за смелым авантюристом в военные походы и не оставались без ответов. Она хотела бежать с ним; хотела во что бы то ни стало оставить ненавистного мужа. Она обращалась к родителям с просьбой приютить ее; строила планы отъезда во Францию и принятия католичества; она уже собрала свои драгоценности, готовясь к побегу, и, наверно, обсудила со своим возлюбленным все подробности во время того последнего ночного свидания, после которого Филиппа Кенигсмарка больше никто никогда не видел.
Кенигсмарк, будучи в Дрездене, под действием винных паров, – а не существует такого порока, которому этот господин, по его же собственному признанию, не был бы привержен, – похвалялся за ужином своими близкими отношениями с двумя ганноверскими дамами, не только с принцессой, но и еще с одной особой, пользующейся в Ганновере большим влиянием. Графиня Платен, старая фаворитка курфюрста, ненавидела молодую принцессу. Красавица обладала живым умом и постоянно высмеивала старуху. Ее шутки доходили до старой Платен тем же путем, каким и сегодня распространяются наши досужие речи; словом, обе дамы терпеть друг друга не могли.
Действующие лица этой трагедии, над которой сейчас опустится занавес, люди скверные. И сам сластолюбивый курфюрст, хитрый, эгоистичный, расчетливый, знающий толк в вине и прочих радостях жизни (его неизменным довольством, мне кажется, лишь усугубляется мрачный колорит этой истории), и его курфюрстина, которая говорит мало, но все замечает; и старая Иезавель его фаворитка; и его сын, принц, тоже расчетливый и самодовольный, эгоистичный, невозмутимый и обычно безмолвствующий, пока его не вывел из себя острый язычок его прелестной супруги; и сама несчастная София-Доротея со своей бессмысленной верностью и пылкой страстью к негодяю-любовнику, совершающая открытые безумства и пускающаяся на тонкие хитрости, кокетка и жертва со своей дикой ревностью к мужу (которого ненавидела и обманывала) и ложью, ложью без конца; и, разумеется, доверенная подруга, в чьи руки попадают письма; и кончая самим Лотарио, ничтожеством, который, как я уже говорил, ни по красоте, ни по испорченности не имел себе равных.
Неуместная неотступная страсть преследует негодяя! Как безумна эта женщина в своей верности ему, как она беззастенчиво, невероятно лжет! Она очаровала нескольких человек, изучавших ее историю, и они отказываются признать ее неправой. Подобно Марии Шотландской, она имеет своих приверженцев, ради нее готовых устраивать заговоры даже в истории, ибо тех, кто соприкасается с нею, она околдовывает, зачаровывает, побеждает. Как преданно отстаивала мисс Стрикланд невиновность Марии! И разве десятки моих слушательниц сегодня не разделяют ее мнения? Невиновна? Помню, когда я был мальчиком, большая группа людей провозглашала Каролину Брауншвейгскую святой мученицей. Так же ни в чем не повинна была и Елена Прекрасная. Никогда она не убегала от мужа с Парисом, молодым разгульным троянцем. Муж ее Менелай плохо с ней обращался; и никакой осады Трои просто не было. И жена Синей Бороды тоже была ни в чем не виновата. Она вовсе не заглядывала в чулан, где находились обезглавленные его прежние жены, не уронила ключ и не измазала его в крови; и совершенно правы были ее братья, прикончившие этого жалкого злодея Синюю Бороду. Да, да, Каролина Брауншвейгокая ни в чем не виновна; мадам Лафарж не отравила мужа, Мария Шотландская своего не взорвала вместе с домом, бедная София-Доротея не была изменницей; а Ева не ела яблока, – это все наветы коварной змеи.
Георга-Людвига предают анафеме как убийцу и злодея, а между тем он не принимал участия в том деле, когда Филипп фон Кенигсмарк расстался с жизнью. Его вообще не было там, когда это происходило. А принцессу предупреждали сотни раз: мягко, намеками – родители мужа, суровыми увещеваниями – он сам; но она, несчастная, как полагается в таких случаях, совершенно потеряла голову и не слушала ничьих советов. В ночь на 1 июля 1694 года Кенигсмарк нанес принцессе весьма продолжительный визит и, расставшись с ней, отправился готовиться к побегу. Муж ее находился в отъезде, в Берлине; ее кареты стояли заложенные, и все было готово к бегству. Между тем соглядатаи графини Платен донесли обо всем своей хозяйке. Она явилась к курфюрсту Эрнсту-Августу и получила у него ордер на арест шведа. Четыре стражника поджидали его на дороге, по которой он должен был ехать к принцессе. Он попытался пробиться и двух или трех из них ранил. Они на него навалились, изранили, стащили с лошади, и когда он, истекая кровью, лежал распростертый на земле, появилась его ненавистница графиня, чьи нежные чувства он предал и оскорбил, и пожелала насладиться видом поверженного врага. Испуская дух, он осыпал ее бранью, и разъяренная женщина каблуком раздавила ему рот. Дальше всем распорядились быстро; тело его назавтра же сожгли и все следы замели. Стражникам, его убившим, было приказано молчать под страхом ужасной кары. Было объявлено, что принцесса больна и не выходит из своих покоев, а в октябре того же года ее, тогда двадцати восьми лет от роду, перевезли в замок Альден, где она и провела узницей ни много ни мало как тридцать два года. Еще до ее заточения принц получил формальный вид на раздельное жительство. Отныне она звалась «принцесса Альденская», и ее молчаливый супруг ни разу больше не произнес ее имени.
Четыре года спустя после катастрофы с Кенигсмарком умирает Эрнст-Август, первый курфюрст Ганноверский, и его сын Георг-Людвиг воцаряется на его месте. Он правил в Ганновере шестнадцать лет, после чего, как мы знаем, стал «королем Великобритании, Франции и Ирландии, Защитником Веры». Старая злобная графиня Платен умерла в 1706 году. Перед смертью она ослепла, но все равно, гласит легенда, постоянно видела у своего грешного старого ложа окровавленный призрак Кенигсмарка. С тем ей и конец пришел.
В 1700 году умер маленький герцог Глостер, последний из детей бедной королевы Анны, и ганноверское семейство сразу приобрело для Англии огромное значение. Курфюрстина София была объявлена ближайшей наследницей английского престола. Георг-Людвиг получил титул герцога Кембриджа; из нашей страны в Германию были отправлены пышные депутации; но королева Анна, сохранявшая в сердце слабость к своим Сен-Жерменским родичам, ни за что не соглашалась, чтобы ее кузен курфюрст и герцог Кембридж приехал к ней засвидетельствовать почтение и занять свое законное место в ее палате лордов. Проживи королева хоть на месяц дольше; прояви английские тори столько же смелости и решительности, сколько они выказали хитроумия и проницательности; будь принц, которому принадлежали все симпатии нации, достоин своей судьбы, никогда бы Георгу-Людвигу не разговаривать по-немецки в королевской часовне Сент-Джеймского дворца.
Но английская корона все же досталась Георгу-Людвигу. Однако он не торопился надевать ее. Он пожил еще немного; сердечно распрощался с любимым Ганновером и Херренхаузеном и не спеша двинулся в путь, дабы «взойти на трон наших предков», как он сам выразился в первой своей речи к парламенту. С собою он привез целую свиту немцев, которые были милы его сердцу и постоянно окружали королевскую особу: и верных немецких камер-пажей, и немецких секретарей, и своих невольников-негров, которых добыл себе копьем и луком в турецких войнах, и двух старых немок – фавориток Кильмансэгге и Шуленберг, которых пожаловал в Англии титулами графини Дарлингтон и герцогини Кендал. Герцогиня была высокой и тощей, как жердь, и, естественно, получила прозвище «Майский Шест». Графиня же была дама крупная и тучная и была прозвана «Мадам Элефант». Обе эти вельможные дамы любили Ганновер и его прелести и так прилепились душой к липовым аллеям Херренхаузена, что поначалу вообще не хотели уезжать. Собственно, Шуленберг не могла выехать из-за долгов, но, узнав, что Майский Шест отказывается сопровождать курфюрста, Мадам Элефант тут же собрала чемоданы и, как ни была грузна и малоподвижна, украдкой выскользнула из Ганновера. Ее соперница спохватилась и немедленно последовала за горячо любимым Георгом-Людвигом. Впечатление такое, будто мы рассказываем о капитане Макхите и его подружках Полли и Люси. Короля мы получили по своему выбору; но все эти придворные, приехавшие вместе с ним, и английские лорды, собравшиеся, чтобы приветствовать его прибытие, – а он, старый стреляный воробей, преспокойно повернулся к ним спиной, – это поистине превосходная сатирическая картина! Вот я, английский гражданин, жду где-то, скажем, в Гринвиче и кричу «ура» королю Георгу; но при этом я с трудом сохраняю серьезное выражение лица и удерживаюсь от смеха над столь нелепым шествием. Все опускаются на колени. Вон архиепископ Кентерберийский распростерся ниц перед Главой Церкви и Защитником Веры, позади которого скалятся размалеванные лица Кильмансэгге и Шуленберг. Вон милорд герцог Мальборо, он тоже на коленях, этот величайший полководец всех времен, предавший короля Вильгельма, и короля Иакова II, и королеву Анну, предавший Англию – Франции, курфюрста – Претенденту и Претендента – курфюрсту. Вон лорды Оксфорд и Болинброк, второй наступает первому на пятки, – ему бы еще только один месяц, и он короновал бы в Вестминстере короля Иакова. Великие виги картинно кланяются и преклоняют колена, как им велит ритуал; но старый хитрый интриган знает цену их преданности. «Преданность – мне? – должно быть, думает он. – Абсурд. Есть полсотни более прямых наследников престола. Я – это случайность, и вы, блестящие господа виги, избрали меня не ради моих прав, а ради своих собственных. А вы, тори, меня ненавидите; и ты, архиепископ, умильно бормочущий на коленях о царстве божьем, отлично знаешь, что я плюю на ваши Тридцать Девять догматов и ни слова не понимаю в твоих дурацких проповедях. Вы, милорды Болинброк и Оксфорд, еще месяца не прошло, как вы злоумышляли против меня; а вы, милорд герцог Мальборо, с потрохами продадите меня, да и всякого, если только цена окажется сходная. Так что пошли-ка, добрая моя Мелюзина и честная София, в мои комнаты, будем есть устриц, запивать рейнвейном и покуривать трубочки; воспользуемся, как можем, нашим новым положением; будем брать, что сумеем, и предоставим этим крикливым, задиристым, лживым англичанам орать, драться и лгать на свой собственный лад».
Если бы Свифт не был лично связан с потерпевшей поражение стороной, какую он мог бы нам оставить великолепную сатирическую картину всеобщей паники в торийских рядах! До чего же они все вдруг стали кротки и молчаливы; как внезапно изменили курс и палата лордов, и палата общин; с какой пышностью приветствовали короля Георга!
Болинброк в своей прощальной речи к палате лордов позорил пэров за то, что несколько человек, сговорившись, одним общим голосованием добились осуждения всего, что до этого ими же было одобрено в многочисленных отдельных резолюциях. И это, действительно, был позор. Болинброк говорил убедительнее всех, но достиг самых плачевных результатов. Для него наступили плохие времена. Он цитировал философов и утверждал собственную невиновность. Он мечтал удалиться от дел и был готов пострадать за свои убеждения: но, узнав, что из Парижа прибыл честный малый Мэт Прайор с материалами о недавних переговорах, философ обратился в бегство и унес свою красивую голову подальше от уродливой плахи. Оксфорд, благодушный ленивец, оказался храбрее и ждал бури дома. Он и Мэт Прайор, оба некоторое время обитали в Тауэре и оба сумели уцелеть в этом опасном зверинце. Когда через несколько лет в этот же зверинец был брошен Эттербери, возник вопрос, что с ним делать дальше. «Что с ним делать? Да бросить на растерзание львам!» – ответил Кадоган, секретарь герцога Мальборо. Но в это время британский лев уже не так жаждал испить крови мирных пэров и поэтов и похрустеть костями епископов. За мятеж 1715 года были казнены только четыре человека в Лондоне и двадцать два в Ланкашире. Более тысячи с оружием в руках сдались на милость короля и покорнейше просили о депортации в американские колонии его величества. Я слышал, что их потомки в споре, приключившемся через шестьдесят лет после этого, приняли лоялистскую сторону. Тогда за сохранение жизни мятежникам высказался, как я с удовольствием узнал, и наш друг, честный Дик Стиль.
Право, забавно задуматься о том, что могло бы быть.
Мы знаем, как по зову лорда Мара обреченные шотландские джентльмены, нацепив на шляпы белые кокарды, с тех пор не раз фигурировавшие в нашей поэзии белим цветком печали, собрались под знамена злосчастного Стюарта у Бреймара. Map во главе восьми тысяч человек, имея против себя лишь полуторатысячнуго армию, мог бы отогнать противника за Твид и овладеть всей Шотландией, если бы только герцог, командующий силами Претендента, не смалодушничал и вовремя двинулся, пока военная удача была на его стороне. Эдинбургский замок мог бы оказаться в руках короля Иакова, если бы только люди, которые должны были овладеть им, не задержались в таверне, где пили за своего короля, и в результате явились в условленное место под стенами замка с опозданием на два часа. В городе им сочувствовали, – о предстоящем нападении, по-видимому было известно; лорд Магон ссылается на приведенный у Синклера рассказ некоего не замешанного в эти события господина: в тот вечер он оказался в одном питейном доме, куда восемнадцать заговорщиков как раз зашли выпить, или, как выразилась веселая трактирщица, «напудрить парики перед нападением на замок». А что если бы они не потратили время на пудрение париков? Эдинбургский замок, и весь город, и вся Шотландия были бы в руках Иакова. Поднимается Северная Англия и через Барнет-Хит движется на Лондон. В Сомерсетшире восстает Уиндем, в Вустершире – Пакингтон, в Корнуэ-ле Вивиан. Ганноверский курфюрст и его безобразные любовницы собирают в Лондонском дворце столовое золото и серебро и, может быть, драгоценности британской короны – и убираются вон – через Харвич и Хельветслюс в свою милую Германию. Король – спаси его бог! – высаживается в Дувре среди всеобщих восторженных рукоплесканий: крики толпы, гром пушек, герцог Мальборо проливает слезы умиления, и все епископы опускаются на колени прямо в грязь. Через несколько лет у святого Петра уже служат мессу; в Йоркском кафедральном соборе читают утреню и вечерню, а доктора Свифта выгоняют с кафедры и должности настоятеля собора святого Патрика, каковые освобождаются для отца Доминика с острова Саламанка. Все эти перемены были тогда вполне возможны, – тогда и еще раз, через тридцать лет, – все это вполне могло действительно произойти, если бы не малая щепоть пудры, ради которой шотландские заговорщики задержались в эдинбургской таверне.
Вы понимаете, какое различие я делаю между историей – знатоком которой я себя вовсе не считаю – и описанием жизни и нравов, содержащимся в этих очерках. На Севере начинается мятеж. Его историю вы можете прочитать в ста разных книгах; в том числе и в превосходном сочинении лорда Магона. В Шотландии восстают кланы; Дервентуотер, Нитсдейл и Форстер в Нортумберленде охвачены восстанием – это все материалы истории, которые можно найти в соответствующих хрониках. Гвардейцы патрулируют улицы Лондона и смотрят, чтобы люди не прикалывали к одежде белую розу. Я недавно читал, как двух солдат засекли чуть не насмерть за то, что они носили 29 мая дубовую ветку, которая тоже была эмблемой любимых Стюартов. Так вот, наш объект – эти два солдата, а не передвижения и битвы армий, к которым они принадлежали; нас интересуют государственные деятели; какой они вели образ жизни, как выглядели, – а не меры, предпринимавшиеся государством, которые составляют область интересов истории. Например, известно, что в конце царствования старой королевы герцог Мальборо покинул страну, а какие этому предшествовали угрозы и заклинания, какие обманы, подкупы предлагались, принимались, отвергались и совершались; какие темные плелись интриги, сколько было петляний и бросков из стороны в сторону, – это все пусть поведает, если сможет, история. Королева умирает; кто же теперь так рвется на родину, если не герцог? Кто кричит: «Боже, храни короля!» – с таким же самозабвением, как победитель при Бленгейме и Мальплакэ? (А между тем он украдкой пошлет Претенденту еще какую-то сумму.) Кто прижимает руку к голубой ленте у себя на груди и закатывает к небу глаза изящнее, чем этот славный герой? Он совершает в своей огромной золоченой карете нечто вроде триумфального въезда в город через ворота Темпл-Бар, но огромная золоченая карета где-то на Чансери-лейн вдруг ломается, и его светлость вынужден пересесть в другую. Вот здесь он наш. Мы теснимся вместе с толпой, а не пристраиваемся к процессии великих людей. Наша покровительница – не Муза Истории, а скромная служанка ее милости, собирательница слухов; для своего лакея никто не герой; и когда вельможа вылезает из огромной кареты и пересаживается в первый попавшийся экипаж, мы записываем себе номер извозчика, мы разглядываем этого важного господина, его звезды, лепты, позументы, и думаем про себя: «Ах ты, немыслимо хитрый интриган! Непобедимый воин! Ослепительный улыбчивый Иуда! Найдется ли для тебя такой хозяин, которого ты не облобызаешь и не предашь? Ни одна отрубленная за измену голова, чернеющая над теми воротами, не породила и десятой доли тех предательских замыслов, что зрели под твоим париком».
Мы привели наших Георгов в город Лондон, и теперь, если мы хотим узнать, как этот город выглядел, можно рассмотреть его на динамичном рисунке Хогарта, где изображена перспектива Чипсайда, а можно прочесть сотни сочинений той эпохи, живописующих тогдашние обычаи и нравы. Наш милый старый «Зритель» смотрит на лондонские улицы с улыбкой и описывает их бесконечные вывески в своей прелестной иронической манере: «Улицы наши кишат Синими Вепрями, Черными Лебедями и Красными Львами, не говоря уж о Летучих Свиньях и Боровах в Латах, а также прочих диковинных тварях, каких не сыщешь и в африканской пустыне». Кое-какие из этих экзотических созданий сохранились в городе по сей день. Над старым постоялым двором на Ладгет-Хилл можно и сегодня видеть «Прекрасную Дикарку», о которой «Зритель» тоже остроумно упоминает в своей заметке; по-видимому, это не кто иная, как любезная американка Покахонтас, спасшая жизнь отважному капитану Смиту. Существует и «Львиная Голова», в чью пасть попадали письма даже самого «Зрителя»; а на Флит-стрит над входом в крупную банкирскую контору – изображение кошелька, с которым ее основатель, простой деревенский парень, приехал в Лондон. Пустим по этой пестрящей вывесками улице вереницу качающихся портшезов, впереди каждого – слуга, он кричит: «Дорогу! Дорогу!»; а вот выступает господин Настоятель в рясе, впереди него тоже шествует лакей; а вот миссис Дина в саке торопится, семеня, к службе, и мальчик-слуга несет за ней большой молитвенник; и со всех сторон слышатся певучие возгласы торговцев-разносчиков. (Помню, сорок лет назад, в дни моего детства, на улицах Лондона звенели десятки знакомых зазывных выкриков, с тех пор давно уже смолкших.) Представим себе лондонских франтов: они спешат войти в кофейни или выходят обратно на улицу, постукивая ногтем по крышке табакерок, и в окнах, над алыми занавесками, мелькают их высокие парики. А из окон верхнего этажа пусть машет ручкой и нежно улыбается Сахарисса, в то время как внизу у дверей шумят, толкаются, дерутся солдаты – лейб-гвардейцы в алых мундирах с синими лацканами и золотым позументом, и конные гренадеры в небесно-голубых шапках с эмблемой Подвязки спереди, вышитой золотом и серебром, и стражники в долгополых красных кафтанах, в которые их облачил еще весельчак Гарри, с большими круглыми белыми воротниками и в плоских бархатных беретах. Быть может, как раз когда мы будем проходить мимо, в Сент-Джеймс прибудет сам его величество король. Если он отправляется на заседание парламента, то едет в карете восьмеркой, окруженный гвардейцами и сопровождаемый высшими должностными лицами государства. В прочих же случаях его величество обходится портшезом, впереди коего шагают шесть лакеев, а по бокам – шесть телохранителей. Придворные следуют за королем в каретах. То-то, должно быть, небыстрая процессия…
Наши «Зритель» и «Болтун» изобилуют восхитительными описаниями городских сцен того времени. В сопровождении этих милых спутников мы можем побывать в опере, в кукольном балагане, на аукционе, даже на петушиных боях; сядем в лодку у Темплской пристани и вместе с сэром Роджером де Коверли и мистером «Зрителем» отправимся в Весенний Сад – через несколько лет его переименуют в Воксхолл – и Хогарт потрудится над его украшением. Разве вам не хочется заглянуть в прошлое и быть представленным мистеру Аддисону? Не достопочтенному Джозефу Аддисону, эсквайру, члену кабинета Георга I, а великолепному описателю нравов своей эпохи, человеку, приятнее которого, когда он бывал в духе, не найти собеседника во всей Англии. Я бы с удовольствием зашел с Ним к Локиту и выпил кружечку вместе с сэром Р. Стилем (который только что получил от короля Георга баронетский титул и, по несчастью, не располагает сейчас мелочью, чтобы заплатить свою долю за выпивку). А в канцелярию министерства, что на Уайтхолле, я бы с мистером Аддисоном не пошел. Там царство политики. Область же наших интересов – это развлечения, городская Жизнь, кофейни, театр, улица Молл. Дивный «Зритель»! Добрый товарищ в часы досуга! Приятнейший спутник! Настоящий джентльмен и христианин! Насколько ты лучше и достойнее, чем король, перед которым преклоняет колена член кабинета мистер Аддисон.
А если угодно, сведения о старом Лондоне можно почерпнуть и из иностранных источников. Воспользуемся, например, для этой цели нашим выше процитированным знакомцем Карлом-Людвигом бароном де Пельницем.
«Человек умный, – пишет барон, – и благородный не испытывает в Лондоне недостатка в подходящем обществе, и вот как он проводит свои дни. Подымается поздно, надевает фрак и, оставив шпагу дома, с тростью в руке отправляется со двора. Обычным местом его прогулок является парк, эта биржа знати, наподобие Тюильри в Париже, только Лондонский парк обладает некоей прелестью простоты, каковая не поддается описанию. Главная аллея называется Молл; здесь тьма народу в любое время дня, особливо же утром и вечером, когда на прогулку часто выходят Их Величества с королевским семейством, сопровождаемые лишь полудюжиной телохранителей, и при этом публике дозволяется прохаживаться тут же. Гуляющие дамы и джентльмены все в богатых нарядах, ибо, в отличие от того, что было двадцать лет назад, когда англичане носили золотое шитье только на армейских мундирах, теперь они с ног до головы в позументах, кружевах и драгоценностях, не хуже французов. Я говорю о знати; а простой горожанин по-прежнему довольствуется кафтаном и штанами из тонкого сукна, хорошей шляпой, париком и тонким полотняным бельем. Здесь все хорошо одеты, и даже нищие выглядят не такими оборванными, как в других городах».
Погулявши запросто утром в Парке, наш приятель благородный джентльмен идет домой, переодевается и отправляется в кофейню, где рассчитывает увидеться со своими знакомыми.
«Ибо у англичан принято не менее раза в день посещать эти заведения, обсуждать там дела и новости, читать журналы, а подчас просто взирать друг на друга, не размыкая губ. И очень хорошо, что они так молчаливы, ибо будь они столь же разговорчивы, как другие народы, в кофейнях невозможно было бы находиться и нельзя было бы в таком многолюдном собрании расслышать, что говорит ваш собеседник. Кофейня на Сент-Джеймс-стрит, куда я захожу каждое утро скоротать час-другой, всегда так полна народу, что трудно повернуться».
Как ни хорош город Лондон, король Георг I предпочитал по возможности находиться вне его, а будучи в Лондоне, окружал себя одними немцами. Они, как старый вояка Блюхер сто лет спустя, вздыхали, глядя на город от собора Святого Павла: «Was fur Plundep! – Ах, сколько тут можно награбить!» Грабили немецкие дамы; грабили немецкие секретари; грабили немецкие повара и прислужники; даже Мустафа и Магомет, немецкие негры, получили свою долю награбленного. Хватай, что можешь, – таков был девиз старого немца-короля. Он, бесспорно, не был просвещенным монархом и не покровительствовал искусствам; но он не был лицемерен, не был мстителен и не любил пускать добро на ветер. У себя в Ганновере деспот, в Англии он был весьма умеренный правитель. Он стремился предоставлять эту страну по возможности самой себе и проводить в ней как можно меньше времени. Душа его оставалась в Ганновере. Неожиданно занемогши по пути через Голландию во время своего последнего путешествия на родину, он высунул голову из окна кареты и мертвенными губами произнес: «Оснабрюкке! Оснабрюкке!» Ему было уже за пятьдесят, когда он явился среди нас, мы приняли его, потому что он был нам нужен, это было в наших интересах; мы высмеивали его немецкую неотесанность и презирали его. Он не обманывался насчет нашей преданности, брал все, что плохо лежало, и уберег нас от папизма и французского засилия. Я лично в те дни был бы, безусловно, на его стороне. Пусть циник и эгоист, но он все же гораздо лучше, чем король из Сен-Жермена, правящий но указке Парижа и окруженный целой свитой придворных иезуитов.
Считается, что к судьбам венценосцев боги не безразличны; вот и этому были ниспосланы особые знаки, предзнаменования, пророчества. Говорят, более прочих его смущало прорицание о том, что он умрет вскоре после жены, и действительно, бледнолицая Смерть уцепила сначала несчастную принцессу Альденскую в ее замке, а затем набросилась и на его величество Георга I, совершавшего в карете путешествие по Ганноверской дороге. А от этого бледного всадника разве ускачешь на самых лучших лошадях? Еще говорят, что Георг посулился одной из своих неофициальных вдов явиться к ней после смерти, если ему дозволено будет посетить еще хоть на мгновение сей подлунный мир; и действительно, вскоре после его кончины в окно к герцогине Кендал в Твикнеме залетел или впрыгнул огромный ворон, и она вообразила под его черными перьями королевскую душу, по каковой причине окружила пернатого гостя особо нежной заботой. Подходящий метампсихоз – эта траурная королевская птица!







