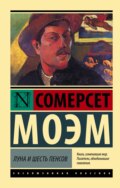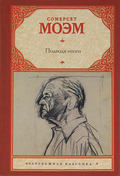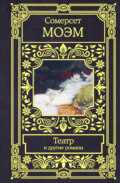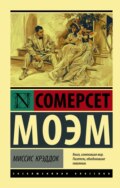Уильям Сомерсет Моэм
Пять лучших романов (сборник)
– Значит, я ничего не смогу сделать для вас? – спросил он.
– Вы можете прислать ему красок, больше он ничего не хочет.
– Он еще может работать?
– Он рисует на стенах дома.
– Какая страшная жизнь для вас, дитя мое.
Тогда она наконец улыбнулась, и сверхчеловеческая любовь засветилась в ее глазах. Доктор Кутра был потрясен. Благоговейное чувство охватило его. Он не нашелся что сказать.
– Он мой муж, – сказала Ата.
– Где ваш второй ребенок? – спросил он. – Прошлый раз я видел двоих.
– Он умер. Мы похоронили его под манговым деревом.
Ата прошла с ним еще немного и сказала, что ей пора возвращаться. Доктор Кутра понял, что она боится встретить кого-нибудь из деревни. Он повторил, что, если понадобится ей, пусть она пришлет за ним, он придет тотчас же.
Глава пятьдесят шестая
Прошло еще года два, может быть, и три, ибо время на Таити течет незаметно, и нелегко вести ему счет, когда к доктору Кутра пришла весть, что Стрикленд умирает. Ата остановила почтовую повозку на дороге в Папеэте и умолила возницу заехать к доктору. Но доктора не оказалось дома, и печальная весть дошла до него только вечером. Ехать в такой поздний час было немыслимо, и доктор пустился в дорогу следующим утром на рассвете. Он доехал до Таравао и в последний раз прошел пешком семь километров до дома Аты. Тропинка заросла, по ней явно никто не ходил в последние годы. Идти было трудно. Он то шел, спотыкаясь, по высохшему руслу ручья, то продирался сквозь заросли колючего кустарника; чтобы обойти осиные гнезда, свисавшие с деревьев над его головой, ему приходилось карабкаться на скалы. Вокруг стояла мертвая тишина.
У доктора вырвался вздох облегчения, когда он наконец увидел маленький некрашеный домишко, теперь совсем обветшавший и грязный; но и возле дома царила та же нестерпимая тишина. Он подошел поближе, и маленький мальчик, беспечно игравший на солнцепеке, испуганно шарахнулся от него – здесь любой незнакомец был враг. Доктору показалось, однако, что ребенок следит за ним из-за ствола пальмы. Дверь на веранду стояла настежь. Он крикнул – никто не отозвался. Он вошел. Постучался, но и на этот раз ответа не было. Он нажал ручку второй двери и открыл ее. От зловония, которым пахнуло на него, ему сделалось дурно. Он прижал платок к носу и заставил себя войти в комнату. Она тонула в полумраке, и после яркого солнечного света он в первую минуту ничего не видел. Потом он вздрогнул. Он не понимал, где находится. Какой-то сказочный мир окружал его. Ему смутно чудился девственный лес, в котором обнаженные люди расхаживали под деревьями. Потом он понял, что это так расписаны стены.
– Mon Dieu, неужто у меня солнечный удар, – пробормотал доктор.
Легкое движение в комнате привлекло его внимание, и он увидел Ату. Она лежала на полу и тихо плакала.
– Ата, – позвал он, – Ата!
Она не подняла головы. Его опять затошнило от омерзительного запаха, и он закурил сигару. Глаза его привыкли к темноте, и страшное волнение овладело им, когда он всмотрелся в расписанные стены. Он ничего не понимал в живописи, но здесь было что-то такое, что потрясло его. От пола до потолка стены покрывала странная и сложная по композиции живопись. Она была неописуемо чудесна и таинственна. У доктора захватило дух. Чувства, поднявшиеся в его сердце, не поддавались ни пониманию, ни анализу. Благоговейный восторг наполнил его душу, восторг человека, видящего сотворение мира. Это было нечто великое, чувственное и страстное; и в то же время это было страшно, он даже испугался. Казалось, это сделано руками человека, который проник в скрытые глубины природы и там открыл тайны – прекрасные и пугающие. Руками человека, познавшего то, что человеку познать не дозволено. Это было нечто первобытное и ужасное. Более того – нечеловеческое. Доктор невольно подумал о черной магии. Это было прекрасно и бесстыдно.
– Бог мой, он гений!
Эти слова вырвались у доктора помимо его воли.
Затем его взгляд упал на груду циновок в углу, он приблизился и увидел то страшное, изувеченное, безобразное, что когда-то было Стриклендом. Стрикленд был мертв. Доктор Кутра взял себя в руки и склонился над изуродованным трупом. Но тут же вздрогнул, сердце его на миг перестало биться от ужаса: кто-то стоял за ним! Это была Ата. Он не слышал, как она подошла. Она стояла рядом и смотрела на то же, на что смотрел он.
– Господи ты Боже мой, мои нервы никуда не годятся. Вы меня до смерти напугали.
Он еще раз бросил взгляд на жалкие останки того, что было человеком, и вдруг отшатнулся.
– Он был слеп!
– Да, он ослеп уже год назад.
Глава пятьдесят седьмая
Но тут наш разговор был прерван появлением мадам Кутра. Она делала визиты и теперь вернулась домой. Мадам Кутра вплыла, как корабль на всех парусах; весьма представительная дама, высокая, дородная, с пышным бюстом, с телесами, скованными устрашающе тугим корсетом. У нее был крупный нос крючком и тройной подбородок. Держалась она очень прямо. Она ни на мгновение не поддалась расслабляющему очарованию тропиков; напротив, была даже более деятельной, более светской и энергичной, чем можно представить себе даму в умеренном климате. Неистощимая говорунья, она тотчас же излила на нас поток новостей и сенсаций. С ее приходом разговор, который мы только что вели, стал казаться далеким и нереальным.
Наконец доктор Кутра прервал ее:
– У меня в кабинете все еще висит картина Стрикленда. Хотите взглянуть?
– С удовольствием.
Мы поднялись, и он повел меня на веранду, вернее, на галерею, окружавшую дом. Там мы постояли, любуясь буйной яркостью цветов в его саду.
– Я долго не мог отделаться от воспоминания о дивном мире на стенах дома Стрикленда, – задумчиво проговорил он.
Я думал о том же. Мне казалось, что Стрикленд наконец-то полностью выразил то, что бродило в нем. Работая в тиши, зная, что это последняя возможность, он, верно, сказал все, что думал о жизни, все, что разгадал в ней. И, кто знает, может быть, в этом он все-таки обрел умиротворение. Демон, владевший им, был наконец изгнан, и вместе с завершением работы, изнурительной подготовкой к которой была вся его жизнь, покой снизошел на его исстрадавшуюся мятежную душу. Он был готов к смерти, ибо выполнил свое предназначение.
– А что изображала эта роспись?
– Трудно сказать. Все было так странно и фантастично. Точно он видел начало света, райские кущи, Адама и Еву, que sais-je?[34] – это был гимн красоте человеческого тела, мужского и женского, славословие природе, величавой, равнодушной, прельстительной и жестокой. Дух захватывало от ощущения бесконечности пространства и нескончаемости времени. Стрикленд написал деревья, которые я видел каждый день: кокосовые пальмы, баньяны, тамаринды, аллигаторовы груши, – и с тех пор вижу совсем иными, словно есть в них живой дух и тайна, которую я всякую минуту готов постичь и которая все-таки от меня ускользает. Краски тоже были хорошо знакомые мне – и в то же время другие. В них было собственное, им одним присущее значение. А эти нагие люди, мужчины и женщины! Земные и, однако, чуждые земному. В них словно бы чувствовалась глина, из которой они были сотворены, но была в них и искра божества. Перед вами был человек во всей наготе своих первобытных инстинктов, и мороз подирал вас по коже, потому что это были вы сами.
Доктор Кутра пожал плечами и усмехнулся.
– Вы будете смеяться надо мной. Я материалист и вдобавок грузный, толстый мужчина – Фальстаф, что ли? Лирика мне не к лицу. Я выставляю себя на посмешище. Но даю вам слово, никогда в жизни искусство не производило на меня такого впечатления. Tenez[35], то же самое чувство я испытал в Сикстинской капелле. Я благоговел перед человеком, расписавшим этот потолок. Это было гениально и грандиозно. Я чувствовал себя ничтожным червем. Но к величию Микеланджело мы подготовлены. Нельзя было быть подготовленным к тому чуду, которое явилось мне в туземной хижине, вдали от цивилизованного мира, в горном ущелье над Таравао. Микеланджело здоров и нормален. В его творениях – спокойствие величия, но здесь что-то смущало душу. Не знаю, что именно. Но мне было не по себе. Как вам объяснить это чувство? Точно сидишь у дверей комнаты, наверное зная, что в ней никого нет, и в то же время с ужасом сознаешь, что в ней все-таки кто-то есть. В таких случаях бранишь себя: ведь это пустое, нервы… и тем не менее… Минута-другая – и ты уже не можешь бороться со страхом, непостижимый ужас душит тебя. Да, скажу по правде, я не был особенно огорчен, когда узнал, что эти странные шедевры уничтожены.
– Уничтожены! – воскликнул я.
– Mais oui[36], разве вы не знали?
– Откуда мне знать? Я никогда раньше не слыхал об этих вещах, но, слушая вас, надеялся, что они попали в руки какого-нибудь любителя-коллекционера. Ведь полного списка работ Стрикленда еще и поныне не существует.
– Когда он ослеп, он часами сидел в этих двух расписанных им комнатушках, незрячими глазами смотрел на свои творения и видел, может быть, больше, чем прежде, больше, чем за всю свою жизнь. Ата говорила мне, что он никогда не жаловался на судьбу, никогда не терял мужества. До самого конца дух его оставался ясным и добрым. Но он взял с нее слово, что когда она похоронит его – я, кажется, не сказал вам, что своими руками вырыл для него могилу, так как никто из туземцев не решался подойти к зараженному дому, мы с ней завернули его тело в три парео, сшитых вместе, и похоронили под манговым деревом, – так вот, он взял с нее слово, что она подожжет дом и не уйдет, покуда он не сгорит дотла.
Я довольно долго молчал и думал, потом сказал:
– Значит, он до конца остался таким, как был.
– Вы полагаете? А я считал своим долгом отговорить Ату от этого безумия.
– Даже после того, что вы мне рассказали?
– Да, я ведь уже понял, что это создание гения, и думал, что мы не вправе отнять его у человечества. Но Ата меня и слушать не хотела. Она дала слово. Я ушел, не мог я, чтобы это варварское деяние совершилось на моих глазах, и уже позднее узнал, что она исполнила его волю. Облила керосином пол, панданусовые циновки и подожгла. Через полчаса от дома остались только тлеющие угольки, великого произведения искусства более не существовало.
– По-моему, Стрикленд знал, что это шедевр. Он достиг того, чего хотел. Его жизнь была завершена. Он сотворил мир и увидел, что он прекрасен. Затем из гордости и высокомерия он уничтожил его.
– Ну, да пора уже показать вам картину, – сказал доктор Кутра и пошел к двери.
– А что сталось с Атой и ее ребенком?
– Они уехали на Маркизские острова. У нее там родственники. Я слышал, что ее сын служит на какой-то шхуне. Говорят, он очень похож на отца.
У самой двери в кабинет доктор остановился.
– Это натюрморт с фруктами, – улыбаясь, сказал он. – Вы скажете, сюжет не слишком подходящий для кабинета врача, но моя жена не желает терпеть эту картину в гостиной. По ее мнению, она слишком непристойна.
– Непристойна! Но ведь это натюрморт! – в изумлении воскликнул я.
Мы вошли в кабинет, и картина сразу бросилась мне в глаза. Я долго смотрел на нее.
Это была груда бананов, манго, апельсинов и еще каких-то плодов; на первый взгляд вполне невинный натюрморт. На выставке постимпрессионистов беззаботный посетитель принял бы его за типичный, хотя и не из лучших, образец работы этой школы; но позднее эта картина всплыла бы в его памяти, он с удивлением думал бы: почему, собственно? Но запомнил бы ее уже навек.
Краски были так необычны, что словами не передашь тревожного чувства, которое они вызывали. Темно-синие, непрозрачные тона, как на изящном резном кубке из ляпис-лазури, но в дрожащем их блеске ощущался таинственный трепет жизни. Тона багряные, страшные, как сырое разложившееся мясо, они пылали чувственной страстью, воскрешавшей в памяти смутные видения Римской империи времен Гелиогабала; тона красные, яркие, точно ягоды остролиста, так что воображению рисовалось Рождество в Англии, снег, доброе веселье и радостные возгласы детей, – но они смягчались в какой-то волшебной гамме и становились нежнее, чем пух на груди голубки. С ними соседствовали густо-желтые; в противоестественной страсти сливались они с зеленью, благоуханной, как весна, и прозрачной, как искристая вода горного источника. Какая болезненная фантазия создала эти плоды? Они выросли в полинезийском саду Гесперид. Было в них что-то странно живое, казалось, что они возникли в ту темную пору истории земли, когда вещи еще не затвердели в неизменности форм. Они были избыточно роскошны. Тяжелы от напитавшего их аромата тропиков. Они дышали мрачной страстью. Это были заколдованные плоды, отведать их – значило бы прикоснуться бог весть к каким тайнам человеческой души, проникнуть в неприступные воздушные замки. Они набухли нежданными опасностями, и того, кто надкусил бы их, могли обратить в зверя или в бога. Все здоровое и естественное, все приверженное добру и простым радостям простых людей должно было в страхе отшатнуться от этих плодов – и все же была в них необоримо притягательная сила: подобно плоду от древа познания добра и зла, они были чреваты всеми возможностями Неведомого.
Я не выдержал и отвел глаза. Теперь я знал, что Стрикленд унес свою тайну в могилу.
– Voyons, René, mon ami[37], – послышался громкий бодрый голос мадам Кутра. – Что вы там делаете так долго? Вас ждут аперитивы. Спроси мосье, не хочет ли он рюмочку дюбоннэ.
– Volontiers[38], мадам, – ответил я, выходя на веранду.
Чары были разрушены.
Глава пятьдесят восьмая
Пришло время моего отъезда с Таити. Согласно гостеприимному обычаю острова, все, с кем я здесь встречался, преподнесли мне подарки: корзиночки, сплетенные из листьев кокосовой пальмы, циновки из пандануса, веера. Тиаре подарила мне три маленькие жемчужины и три банки желе из гуавы, сваренного ее собственными пухлыми руками. Когда почтовый пароход, по пути из Веллингтона в Сан-Франциско на сутки заходивший на Таити, дал последний гудок, призывая пассажиров на борт, Тиаре прижала меня к своей могучей груди – я точно погрузился в зыблющиеся волны – и крепко поцеловала в губы. На глазах у нее блестели слезы. И когда мы медленно выбирались из лагуны, осторожно лавируя между рифами, и наконец вышли в открытое море, на душе у меня было печально. Бриз все еще доносил до нас чарующие ароматы острова. Таити – дальний край, и я знал, что больше никогда не увижу его. Еще одна глава моей жизни закончилась, и я почувствовал себя ближе к неизбежной смерти.
Через месяц я был уже в Лондоне; устроив свои наиболее неотложные дела, я написал миссис Стрикленд, полагая, что ей интересно будет послушать мой рассказ о последних годах ее мужа. В последний раз я виделся с нею задолго до войны, и теперь мне пришлось разыскивать ее адрес по телефонной книге. Она назначила мне день, и я пришел в ее новый нарядный домик на Кэмпден-Хилл. Ей, должно быть, было уже под шестьдесят, но она легко несла бремя своих лет, и больше пятидесяти никто бы ей не дал. Лицо ее, худое и не слишком морщинистое, принадлежало к тому типу лиц, что в старости становятся особенно благообразными. По теперешнему виду миссис Стрикленд можно было предположить, что в молодости она была очень хороша собой, чего на самом деле никогда не было. Волосы, не седые, но с проседью, она причесывала очень элегантно, и ее черное платье было сшито по последней моде. Кто-то мне говорил, и теперь я это вспомнил, что ее сестра, миссис Мак-Эндрю, пережившая мужа всего на два года, оставила ей свое состояние; судя по дому и нарядной горничной, которая открыла мне дверь, это была сумма, вполне достаточная для пристойного существования вдовы.
В гостиной я застал еще одного гостя и, узнав, кто он, понял, что меня не без умысла пригласили именно на этот час. Миссис Стрикленд представила меня мистеру ван Бюсе-Тэйлору с такой очаровательной улыбкой, что казалось, она извиняется за меня перед этим почтенным американцем.
– Мы, англичане, так ужасно невежественны. Вы уж простите меня за вынужденное объяснение. – С этими словами она обернулась ко мне. – Мистер ван Бюсе-Тэйлор – выдающийся американский критик. Если вы не читали его книги, это большой пробел в вашем образовании, и вам следует немедленно его восполнить. Сейчас мистер Тэйлор пишет о нашем дорогом Чарли и приехал ко мне с просьбой кое в чем помочь ему.
Мистер ван Бюсе-Тэйлор был весьма сухопарый мужчина с большим лысым черепом, отчего его желтое лицо, изборожденное глубокими морщинами, казалось совсем маленьким. Он говорил с американским акцентом и был необыкновенно учтив и сдержан. Глядя на его ледяное спокойствие, я невольно спрашивал себя, какого черта он заинтересовался Чарлзом Стриклендом. Меня позабавила нежность, с которой миссис Стрикленд упомянула о своем муже, и, покуда они оба разговаривали, я рассмотрел комнату. Миссис Стрикленд не отстала от времени. Обои Морриса и строгий кретон исчезли бесследно, равно как и гравюры Эренделя, некогда украшавшие ее гостиную на Эшли-Гарденз. Теперь здесь сверкали яркие краски, и я задавался вопросом, знает ли миссис Стрикленд, что эти фантастические тона, предписанные модой, обязаны своим возникновением мечтам бедного художника на далеком острове в Южных морях? Она сама ответила мне на этот вопрос.
– Какие у вас изумительные подушки, – сказал мистер ван Бюсе-Тэйлор.
– Вам они нравятся? – улыбаясь, спросила она. – Это Бакст.
А на стенах висели цветные репродукции с лучших картин Стрикленда, выпущенные в свет неким берлинским издателем.
– Вы смотрите на мои картины, – сказала миссис Стрикленд, проследив за моим взглядом. – Оригиналы, конечно, мне недоступны, но я рада и этим копиям. Мне прислал их издатель. Это большое утешение для меня.
– Должно быть, очень приятно жить среди этих картин, – заметил мистер ван Бюсе-Тэйлор.
– Да, они так декоративны.
– Мое глубочайшее убеждение, – сказал мистер ван Бюсе-Тэйлор, – что подлинное искусство всегда декоративно.
Глаза его и миссис Стрикленд остановились на обнаженной женщине, кормящей грудью ребенка. Рядом с ней молодая девушка, стоя на коленях, протягивала цветок не видящему ее младенцу. На них смотрела старая морщинистая ведьма. Это была Стриклендова версия святого семейства. Я подозревал, что моделями для этих фигур служили его таитянские домочадцы, а женщина и ребенок были Ата и ее первенец. «Но знает ли что-нибудь об этом миссис Стрикленд?» – спрашивал я себя.
Разговор продолжался, и мне оставалось только дивиться такту, с которым мистер ван Бюсе-Тэйлор обходил все, что могло бы смутить хозяйку, и ловкости миссис Стрикленд: не говоря ни слова лжи, она давала ему понять, что с мужем у нее всегда были наилучшие отношения. Наконец мистер ван Бюсе-Тэйлор поднялся и стал прощаться. Держа руку миссис Стрикленд, он рассыпался в изящнейших и изысканнейших благодарностях.
– Надеюсь, он не очень наскучил вам, – сказала она, едва только за ним закрылась дверь. – Конечно, это утомительное занятие, но я считаю себя обязанной рассказать людям о Чарли все, что могу рассказать. Быть женою гения – немалая ответственность.
Она посмотрела на меня открытым и ясным взглядом, таким же, как двадцать с лишним лет назад. «Уж не смеется ли она надо мною?» – подумал я.
– Вы, конечно, закрыли свое дело? – спросил я.
– О да, – небрежно отвечала миссис Стрикленд. – Я ведь тогда занялась этим больше от скуки, чем еще по каким-нибудь причинам, и дети уговорили меня продать контору. Они считали, что я переутомляюсь.
Миссис Стрикленд явно позабыла, что в свое время ей пришлось «унизиться» до того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Безошибочный инстинкт красивой женщины говорил ей, что жить прилично только на чужой счет.
– Мои дети сейчас здесь, – сказала она. – Я подумала, что им интересно будет послушать об отце. Вы помните Роберта? Могу похвалиться. Он представлен к «Военному кресту».
Она открыла дверь и позвала детей. В комнату вошел высокий мужчина в хаки, но с пасторским воротником, несколько тяжеловатый, красивый, все с теми же правдивыми глазами, которые были у него в детстве. Следом шла его сестра. Ей, верно, было столько же лет, сколько ее матери, когда я с ней познакомился, и она очень на нее походила. По ее виду тоже казалось, что в детстве она была очень хорошенькой, хотя на самом деле это было не так.
– Вы их, конечно, не узнаете, – горделиво улыбаясь, заметила миссис Стрикленд. – Моя дочь теперь миссис Роналдсон. Ее муж майор артиллерии.
– Он у меня настоящий солдат, – весело сказала миссис Роналдсон. – Потому он и не пошел дальше майора.
Мне вспомнилось, как я почему-то был уверен, что она выйдет замуж за военного. Это было неизбежно. У нее все повадки «военной» дамы. Очень любезная и скромная, миссис Роналдсон не могла скрыть своего убеждения, что она не такая, как все. У Роберта манеры были непринужденные.
– Как это удачно, что я оказался в Лондоне к вашему возвращению, – сказал он. – У меня отпуск всего на три дня.
– Он всей душой рвется назад, в свою часть, – заметила его мать.
– Не скрою, что я там отлично провожу время. У меня завелось много приятелей. Это настоящая жизнь. Война, конечно, ужасная штука и так далее и тому подобное, но она выявляет в человеке все лучшее, это несомненно.
Я рассказал им все, что слышал о жизни Чарлза Стрикленда на Таити. Говорить об Ате и ее сыне я счел излишним, но во всем остальном был по мере возможности точен. Кончил я рассказом о страшной его смерти. Минуту-другую в комнате царило молчание. Затем Роберт Стрикленд чиркнул спичкой и закурил.
– Жернова Господни мелют хоть и медленно, но верно, – внушительно сказал он.
Миссис Стрикленд и миссис Роналдсон благочестиво опустили глаза долу, они явно сочли эти слова цитатой из Священного Писания. Мне показалось, что и Роберт Стрикленд разделяет это заблуждение. Сам не знаю почему, я вдруг подумал о сыне Стрикленда и Аты. Мне говорили на Таити, что он веселый, приветливый юноша. Я словно воочию увидел его на шхуне, полуголым, только в коротких штанах. День у него проходит в труде, а вечером, когда шхуна легко скользит по волнам, подгоняемая попутным ветерком, матросы собираются на верхней палубе; покуда капитан с помощниками отдыхают в шезлонгах, попыхивая трубками, он неистово пляшет с другим юношей под визгливые звуки концертино. Над ним густая синева небес, звезды и, сколько глаз хватает, пустыня Тихого океана.
Цитата из Библии вертелась у меня на языке, но я попридержал его, зная, что духовные лица считают кощунством, если простые смертные забираются в их владения. Мой дядя Генри, двадцать семь лет бывший викарием в Уитстебле, в таких случаях говаривал, что дьявол всегда сумеет подыскать и обернуть в свою пользу цитату из Библии. Он еще помнил те времена, когда за шиллинг можно было купить даже не дюжину лучших устриц, а целых тринадцать штук.