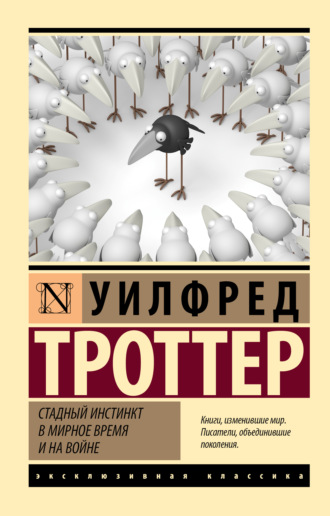
Уилфред Троттер
Стадный инстинкт в мирное время и на войне
IV. Ментальные характеристики стадных животных
(а) Современные взгляды в социологии и психологии
Если мы считаем, что стадность можно рассматривать как фундаментальное свойство человека, остается обсудить, как она могла воздействовать на структуру его мозга. Однако сначала попытаемся очертить, как далеко уже продвинулись исследования в этом направлении. Ясно, что здесь не удастся привести полный обзор всего, что сказано в отношении такой знакомой концепции, и даже если бы такое было возможно, вряд ли бы оно принесло пользу, поскольку большинство авторов не видели смысла в фундаментальном исследовании. Так что мы просто упомянем несколько представительных авторов и дадим обзор характерных черт их взглядов.
Насколько мне известно, первым, кто указал на не столь очевидную биологическую полезность стадности, был профессор Карл Пирсон[4].
Он пытался привлечь внимание к увеличению селективной единицы в результате появления стадности, а также к тому, что внутри группы естественный отбор начинает действовать модифицировано. Такое представление, как известно, ускользнуло от внимания Геккеля, Спенсера и Гексли; и Пирсон указал, к какой путанице в рассмотрении проблем общества привело эту троицу данное упущение[5]. В качестве примера можно привести знаменитое противопоставление «космических» и «этических» процессов, провозглашенное в Романизовской лекции Гексли «Эволюция и этика». Пирсон четко показал, что этический процесс, проявление, так сказать, альтруизма нужно рассматривать как непосредственный инстинктивный продукт стадности, а значит, столь же естественный, как любой другой инстинкт.
Впрочем, этот ясный и полезный подход, похоже, не привлек должного внимания биологов, и, насколько я знаю, его автор не предпринял дальнейшего изучения структуры стадного разума, которое, несомненно, обернулось бы в его руках новыми столь же ценными выводами.
Далее мы можем рассмотреть подход современного социолога. Я выбрал работу американского социолога Лестера Уорда и хочу кратко описать его позицию, изложенную в книге «Чистая социология» (Pure Sociology)[6].
Обобщить взгляды любого социолога, как мне кажется, достаточно сложно из-за определенной расплывчатости в изложении позиции и тенденции сводить описания фактов к аналогии, а аналогии – к иллюстрации. Невежливо сомневаться, что подобные тенденции нужны для плодотворного изучения объекта социологии, но, поскольку они бросаются в глаза при разговоре о стадности, необходимо указать, что человек отдает себе отчет в трудностях и чувствует, что они могут привести к неверной интерпретации.
С этой оговоркой можно утверждать: судя по работам Уорда, он считает, что стадность представляет лишь несколько точных и первичных характеристик человеческого сознания. Механизмы, через которые действует групповой «инстинкт», видятся ему разумными процессами, а сам групповой инстинкт рассматривается в качестве относительно позднего приобретения, довольно тесно связанного с рациональным знанием того, что он «окупается». Уорд говорит: «За неимением лучшего названия я охарактеризовал этот общественный инстинкт, или инстинкт видовой безопасности, как религию, отчетливо понимая, что он представляет собой первоначальную недифференцированную плазму, из которой впоследствии развились более важные человеческие институты. Это если не инстинкт, то, по крайней мере, человеческий аналог животного инстинкта и служил тем же целям после того, как инстинкты в основном исчезли, а эгоистичный разум в противном случае быстро привел бы к уничтожению расу в ее безумной погоне за собственными удовольствиями»[7].
То, что стадность следует отнести к числу факторов, формирующих тенденции человеческого разума, давно признано практическими психологами. Однако в целом ее рассматривали как свойство, проявляющееся в характеристиках реальной толпы – то есть скопления людей, действующих вместе. Такое представление послужило толчком к большому количеству ценных работ по исследованию поведения толпы[8].
Из-за того, что вопрос влияния стадности на мозг отдельного человека не исследовался в качестве наиболее существенного, теоретическая сторона психологии толпы осталась неполной и относительно бесплодной.
Впрочем, есть одно исключение: работы Бориса Сидиса. В книге под названием «Психология внушения» (The Psychology of Suggestion)[9] он описал определенные психические свойства, связанные с социальными привычками как индивида, так и толпы. Его позиция требует обсуждения. Базовый элемент позиции – концепция нормального существования подсознательного «я». Считается, что это подсознательное, подбодрственное «я» представляет «низшие», скорее звериные качества человека. Оно иррационально, подражательно, легковерно, трусливо, жестоко и лишено индивидуальности, воли и самоконтроля[10]. Такая личность приходит на смену нормальной личности под гипнозом или когда человек действует в толпе, например во время беспорядков, паники, линчевания, на митингах и так далее.
Из двух личностей – подсознательной и нормальной – только первая является внушаемой; успешное действие внушения предполагает, пусть и временный, распад личности, когда «подбодрственное я» берет управление над разумом. Именно внушаемость «подбодрственного я» позволяет человеку стать общественным животным. «Внушаемость – цемент стада, истинная душа примитивной социальной группы… Человек – общественное животное, без сомнения, но общественное в силу внушаемости. Внушаемость, однако, требует расщепления сознания, следовательно, общество предполагает расщепление разума. Общество и душевные эпидемии тесно связаны, поскольку социальное стадное «я» – это внушаемое подсознательное «я».
С нашей нынешней точки зрения особая ценность книги Сидиса в том, что она привлекает внимание к несомненно тесной связи стадности и внушаемости. Однако механизм, с помощью которого, по мнению Сидиса, действует внушаемость, вызывает вопросы. Сомнительно, что его доказательства заставляют согласиться с концепцией постоянного подсознательного «я»[11]. Существенным отличием взглядов Сидиса от представленных далее является то, что он рассматривает внушаемость как нечто вторгающееся в нормальный разум в результате дезинтеграции сознания, а не как обязательное качество любого нормального разума. Внимательное чтение книги Сидиса подталкивает к четкому выводу: автор рассматривает внушаемость как пагубное и позорное наследие дикаря и варвара, нежелательное в цивилизованном обществе, препятствующее правильному развитию индивида и никоим образом не связанное по происхождению с таким ценным качеством, как альтруизм. Более того, складывается впечатление, что автор считает, будто внушаемость проявляется чаще всего, если не всегда, в толпе, во время паники, на митингах и в условиях тесного общения.
(b) Дедуктивные рассуждения
Для биологического вида стадная привычка в широком смысле может выполнять атакующие или защитные функции, или и те, и другие. В любом случае она будет коррелировать с эффектами, которые можно разбить на два класса: общие характеристики социального животного и особые характеристики формы социальной привычки, которой обладает рассматриваемое животное. Собаки и овцы хорошо демонстрируют характеристики двух простых форм стадности: атака и защита.
1. Особые характеристики стадных животных
Здесь нет необходимости их рассматривать, поскольку эти качества по большей части исследованы психологами в работах о следствиях стадности у человека. Дело в том, что эти качества наиболее очевидны у человека, действующего в толпе, и представляются чем-то, что добавляется к возможностям изолированного индивида. Соответственно, они рассматривались как составляющие все стадное наследие человека, а возможность того, что это наследие может иметь столь же важные последствия для индивида, почти не рассматривалась.
2. Общие характеристики стадных животных
Главное свойство стада – однородность. Понятно, что огромным преимуществом социальной привычки является то, что она позволяет большому количеству особей действовать как единое целое; в случае охоты стая зверей в преследовании и нападении значительно превосходит в силе жертву[12], а в обороне чувствительность новой единицы к опасности значительно превосходит чувствительность отдельного животного в стаде.
Чтобы обеспечить преимущество однородности, члены стада должны обладать чувствительностью к поведению собратьев. Изолированный индивид не имеет никакого значения; индивид, входящий в стадо, способен передавать мощные импульсы. Каждый член стаи повторяет за соседом, и за ним, в свою очередь, повторяют; каждый в каком-то смысле способен стать лидером; однако поведение, слишком отклоняющееся от нормального, повторять не будут, а будут повторять только поведение, похожее на нормальное. Если вожак зайдет так далеко, что покинет пределы стада, его наверняка проигнорируют.
Оригинальность в поведении – противостояние, так сказать, голосу стада – будет подавлена естественным отбором; волк, не следующий импульсам стаи, обречен на голодание; овцу, которая не реагирует на стадо, съедят.
Опять-таки, индивид не только будет отвечать на импульсы, идущие от стада, но и будет воспринимать стадо, как нормальное окружение. Импульс всегда оставаться внутри стада будет иметь наибольший вес. Все, что грозит отделить индивида от его собратьев, будет решительно отвергаться.
До сих пор мы рассматривали стадных животных с объективной точки зрения. Мы видели, что они ведут себя так, словно стадо – это единственная среда, в которой они могут жить; что они особо чувствительны к импульсам от стада и совершенно иначе реагируют на поведение животных вне стада. Теперь давайте оценим ментальные аспекты этих импульсов. Представьте, что биологический вид, обладающий рассмотренными инстинктивными особенностями, обладает и самосознанием. Зададим вопрос: в какой форме эти феномены отразятся в его сознании? Во-первых, совершенно очевидно, что импульсы, порожденные стадным чувством, воспринимаются разумом как инстинктивные; они представляются «априорными синтезами самого совершенного сорта, не требующими подтверждения в силу самоочевидности». Однако нужно помнить, что они не обязательно придают это качество одинаковым отдельным действиям, но показывают отличительную характеристику, которая может сделать любое мнение интуитивной верой, превращая его в «априорный синтез». Так что мы можем ожидать действия, которые было бы абсурдно рассматривать как результат отдельного инстинкта – выполняемые с энтузиазмом инстинкта и демонстрирующие все признаки инстинктивного поведения. Неспособность распознать проявления стадного импульса как тенденцию, как силу, способную санкционировать любые убеждения и действия, не позволила социальной привычке человека привлечь внимание психологов, что было бы весьма полезно.
В попытке интерпретировать в ментальных терминах последствия стадности можно начать с простейшего. Сознательный индивид будет испытывать не поддающееся анализу первичное чувство комфорта в присутствии сородичей и такое же чувство дискомфорта – в их отсутствие. Для него является очевидной истиной, что человеку негоже быть одному. Одиночество – реальный ужас, с которым трудно справиться разуму.
Опять-таки, определенные условия образуют вторичную связь с присутствием или отсутствием стада. Возьмем для примера ощущения жары и холода. Животные сбиваются плотнее в кучу, чтобы избежать холода; холод связывается в сознании с отрывом от стада и приводит к ассоциации с вредом[13]. Аналогично ощущение тепла ассоциируется с безопасностью и пользой. Медицине понадобились тысячелетия, чтобы подвергнуть сомнению распространенное представление о вреде холода; и все же для психологов такие сомнения очевидны.
Немного более сложные проявления той же тенденции к однородности мы видим в стремлении к идентификации со стадом в вопросах формирования мнений.
Здесь мы находим биологическое объяснение неискоренимого стремления человечества делиться на классы. Любой из нас в своих мнениях, поведении, в выборе одежды, развлечений, религии и политики ищет поддержки класса – стада внутри стада. Можно быть уверенным, что самый эксцентричный во мнениях или поведении человек получает молчаливую поддержку класса, немногочисленность которого объясняет его кажущуюся эксцентричность, а ценность объясняет стойкость в несогласии с общим мнением. Опять-таки, все, что подчеркивает отличие от стада, неприятно. В мыслях индивида возникнет не поддающееся анализу отторжение новых действий и мыслей. Они будут восприниматься как «неправильные», «злые», «глупые», «ненужные» или, как говорится, «дурной тон» – в зависимости от обстоятельств. Относительно более простые проявления: страх быть на виду, стеснительность, боязнь сцены. Однако именно чувствительность к поведению стада больше всего влияет на структуру мышления стадного животного. Эта чувствительность тесно связана с внушаемостью стадных животных и в том числе человека. В результате воспринимаются внушения только от стада. Важно отметить, что эта внушаемость не всеохватывающая и только внушение от стада воспринимается благодаря инстинкту. Например, человек, увы, нечувствителен к урокам опыта. Это подтверждает вся история того, что напыщенно именуется прогрессом человечества. Если мы взглянем на создание, например, парового двигателя, то поразимся, насколько очевиден был каждый шаг и как его отказывались принять, пока машина как бы не изобрела сама себя.
Опять-таки, из двух внушений легче воспринимается то, которое представляет голос стада. Так что шансы на принятие утверждения можно выразить в терминах размеров части стада, которая его поддерживает.
Из сказанного следует: то, что противоречит внушению от стада, будет отвергнуто. Например, на властную команду индивида, не обладающего авторитетом, не обратят внимания, но если тот же человек сделает то же предложение косвенно, связывая его с голосом стада, он добьется успеха.
К сожалению, при обсуждении этих фактов приходилось использовать слово «внушаемость», которое подразумевает ненормальность. Если принять изложенное здесь биологическое значение внушаемости, то последняя обязательно должна быть нормальным свойством человеческого разума. Верить – неистребимая естественная склонность человека; иными словами, утверждение, позитивное или негативное, с большей готовностью принимается, нежели отвергается, если только его источник явно не отделен от стада. Следовательно, человек подвержен внушению не только приступами, не только в панике, в толпе, под гипнозом и так далее, а всегда и в любых обстоятельствах. Причудливый способ реакции человека на различные внушения объясняли различиями в его внушаемости. По мнению автора, налицо неверная интерпретация фактов, которые лучше объясняются, если вариации объяснить степенью, в какой внушения совпадают с голосом стада.
Сопротивляемость человека определенным внушениям и опыту, которая очевидна в реакции на все новое, становится таким образом еще одним доказательством его внушаемости, поскольку новое всегда сталкивается с сопротивлением традиций стада.
Явное снижение прямой внушаемости с возрастом, которое, например, Бине продемонстрировал у детей, хорошо известно у взрослых и обычно рассматривается как свидетельство постепенных органических изменений мозга. Хотя уместно и вполне правдоподобно рассматривать его как результат того, что с годами внушения стада накапливаются, постепенно закрепляя мнения.
На заре человечества появление речи, видимо, привело к резкому увеличению возможности распространять предписания стада и те сферы, где они действуют. Стремление к уверенности – одно из глубинных свойств человеческого разума, а возможно – любого разума. Вполне логично предположить, что это стремление в далекие дни привело к тому, что вся человеческая жизнь диктовалась инстинктивным одобрением стада. Жизнь индивида была окружена самыми суровыми санкциями. Он должен был знать, что делать можно, чего нельзя и что последует за неподчинением. И не столь существенно, подтверждались ли его убеждения или нет, поскольку гораздо больший вес имел голос стада. Этот период – единственный доступный биологу след Золотого Века, придуманного поэтом, когда все шло, как должно идти, и неопровержимые факты еще не начали тревожить душу человека. В подобных условиях сейчас мы видим аборигена Центральной Австралии. Всю его жизнь, до мельчайших подробностей, диктует ему голос стада, и он не может под угрозой жутких санкций отступить от заведенного порядка. Для него неважно, что за нарушением кодекса, которое он видел своими глазами, не следует наказания; ведь во внушении общества такие случаи не представляют сложности и не поколеблют его веры – так в более цивилизованных странах очевидные случаи злонамеренности правящего божества не считаются несовместимыми с его благожелательностью.
Таковы, должно быть, были первобытные условия жизни повсюду. А потом чуждой и злобной силой начал вторгаться разум, нарушая совершенство жизни и вызывая бесконечные конфликты.
Опыт, как показывает вся история человечества, встречает сопротивление, поскольку неизбежно наталкивается на решения, основанные на инстинктивной вере, и нигде этот факт не виден яснее, чем в прогрессе науки.
В действительно важных для себя вопросах человек не может довольствоваться отложенными суждениями, как наука. Он слишком нервничает, он не уверен, что ему хватит времени. То же мы видим в науках: сначала появилась математика, потом астрономия, физика, химия, биология, психология, социология… Новая сфера всегда требовала нового метода, и мы до сих пор отказываемся считать социологию наукой. Сегодня вопросы национальной обороны, политики, религии все еще слишком важны для знания и остаются объектами веры; иначе говоря, мы предпочитаем ради комфорта в них верить, поскольку не обладаем достаточными знаниями для предсказаний.
Наблюдение за человеком сразу показывает, что очень многие его убеждения иррациональны – это очевидно без особых исследований. Если мы исследуем содержание сознания среднего человека, мы обнаружим огромное количество очень точных суждений по огромному количеству вопросов, довольно сложных и запутанных. У человека есть твердые взгляды на происхождение и природу Вселенной, на то, что он называет ее смыслом, он твердо знает, что происходит с ним во время смерти и после нее, что является и что должно являться основой поведения. Он знает, как управлять страной и почему она катится к чертям собачьим, какой закон хорош, а какой – плох. У него свои взгляды на стратегию армии и флота, принципы налогообложения, употребление алкоголя и вакцинацию, лечение гриппа, профилактику бешенства, на муниципальную торговлю, преподавание греческого, на то, что допустимо в искусстве, приемлемо в литературе и перспективно в науке.
Большинство этих взглядов, несомненно, не имеют рациональной основы, поскольку многие из них касаются проблем, признанных экспертами пока не решенными, а в остальных обучение и опыт обычного среднего человека не позволяют ему составить обоснованное мнение. Правильно примененный рациональный метод подсказал бы ему, что по большинству этих вопросов возможно только одно мнение: отложенное решение.
В свете приведенных выше соображений полное принятие нерациональных убеждений нужно рассматривать как норму. Механизм его действия требует некоторого изучения, поскольку невозможно отрицать, что факты значительно противоречат современным взглядам на то, как разум участвует в формировании мнений.
С самого начала ясно, что человек, придерживающийся таких взглядов, неизбежно считает их рациональными и защищает их, признавая носителей противоположного мнения неправыми. Верующий обвиняет атеиста как поверхностного и неразумного – и получает аналогичный ответ; консерватора ошеломляет в либерале неспособность видеть суть вещей и принимать единственно возможное решение общественных проблем. Исследование показывает, что различия вызваны не простыми логическими ошибками – их легко избежать даже политикам; и нет оснований обвинять одну из сторон противостояния в меньшей логичности. Различия скорее обусловлены изначальными предположениями о враждебности антагонистов, а эти предположения порождены внушением стада; для либерала определенные базовые концепции приобрели свойство интуитивной истины, стали «априорными синтезами» благодаря накопившимся внушениям, которым он подвергался; те же объяснения годятся и для атеиста, и для христианина, и для консерватора. Нужно помнить, что каждый, следовательно, считает свою позицию безупречной и совершенно неспособен найти в ней изъяны, очевидные для его оппонента, который считает серию предположений неприемлемой в силу внушения своего стада.
Чтобы продолжать анализ нерациональных мнений, следует заметить, что разум редко оставляет без критики предположения, внушенные стадом, пытаясь найти им более-менее разумное обоснование. Это согласуется с весьма преувеличенным значением, которое придают разуму в формировании мнений и поведения, и хорошо видно на примере того, как альтруизм объясняют тем, что он «окупается».
Очень важно признать, что в процессе рационального обоснования инстинктивной веры именно вера является первичной, а объяснение, хоть и маскируется под причину верования, под цепь разумных свидетельств, на которых основывается вера, все же вторично, и без веры о нем не было бы и речи. Такие рациональные объяснения в случае с разумными людьми весьма искусны и могут вводить в заблуждение, если не понять истинную инстинктивную основу этих мнений.
Этот механизм позволяет английской леди, желающей избежать «позора» нормальных ног, подвергать их чудовищному боковому сжатию и не замечать логического противоречия, записываясь в миссию по разъяснению китайским женщинам, как нелепо подвергать ноги продольному сжатию; этот механизм позволяет европейским женщинам, носящим кольца в ушах, смеяться над варварством цветных женщин, носящих кольцо в носу; он позволяет англичанину, которого забавляет отношение африканского вождя к цилиндру как обязательному знаку государственного отличия, не замечать, что ведет себя так же, отправляясь в церковь под тем же великим стягом.
Объективист вынужден рассматривать эти и сходные совпадения в поведении цивилизованного человека и варвара не просто как забавные курьезы, но как феномены в высшей степени идентичные; однако такой подход возможен, только если понят механизм рационализации обычаев.
Проиллюстрированный на простых примерах, процесс рационализации лучше всего виден в больших масштабах и в самой развитой форме в псевдонауках – политической экономии и этике. Обе выводят оправдания массы нерациональных убеждений из вечных принципов, которые считаются неизменными, просто потому, что существуют. Отсюда и пресловутые кульбиты обеих дисциплин перед лицом значительных отклонений стадных верований.
Может показаться, что препятствиям для рационального мышления, описанным в приведенном обсуждении, уделяется меньше внимания, чем следовало бы. Чтобы сохранить подход, который можно назвать в полном смысле научным, кардинально важно признать, что вера в утверждения, санкционированные стадом, – это нормальный механизм человеческого разума, независимо от того насколько эти утверждения противоречат очевидности; что разум не в состоянии преодолеть внушение стада; и наконец, что фальшивое мнение может представляться его носителю вполне обоснованной истиной и подтверждается вторичными процессами рационализации, с которыми невозможно спорить.
Однако нужно отметить, что и проверяемые истины могут обретать силу стадного внушения, так что внушаемость человека не обязательно и не всегда препятствует развитию знания. Например, для студента-биолога принципы дарвинизма могут приобрести силу стадного внушения, поскольку их поддерживает класс, который он больше всего уважает, с которым больше контактирует и который, следовательно, оказывает наибольшее внушение. Положения, согласующиеся с этими принципами, теперь для него более приемлемы независимо от обоснований, чем для того, кто не подвержен этому влиянию. На самом деле можно сомневаться, что принятие любого положения, истинного или ложного, является результатом внушений и что баланс внушений обычно на стороне ложных; ведь при любом образовании научный метод – то есть основанный на опыте – имеет мало шансов стать внушающей силой.


