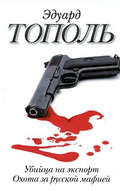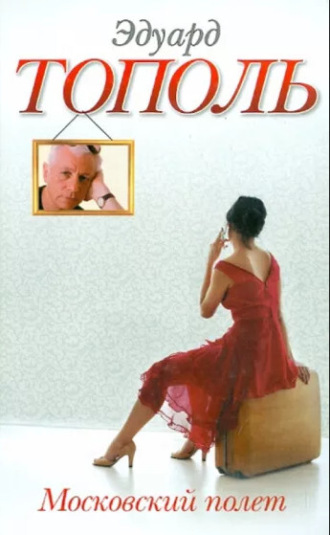
Эдуард Тополь
Московский полет
6
Теперь я каждое утро бегал делать зарядку под мост Джорджа Вашингтона. По крутому спуску к Гудзону с битым стеклом на грязной бетонной дорожке Сто восьмидесятой улицы – мимо угнанных, разворованных и дотла сожженных автомобилей, каждый день других. Затем – по стальному ржавому виадуку над Риверсайд-драйв. Потом – по щербатой лестнице, поросшей пыльной травой. Далее – по гулкому каменистому туннелю под Генри-Гудзон-Парк-вэй, в этом туннеле на кусках картона почти всегда валялся черный заспанный бродяга с расстегнутой ширинкой и громадным черным членом наружу. После этого туннеля – еще одна каменная лестница, и – наконец! – я попадаю в зеленый парк вдоль Гудзона, к опорным колоннам гигантского моста Джорджа Вашингтона.
Здесь царит идиллия. На кортах, разгороженных металлическими сетками, мужчины в белых шортах играют в теннис – их стремительные ракетки отсвечивают на солнце, как шпаги. За кортом в росистой траве змеится беговая дорожка, по ней, громко дыша, бегут высокие потные атлеты с цветными повязками на лбу. За дорожкой, в аллее, под широкими кронами деревьев, молоденькие няни-бэбиситерши выгуливают черных и белых детишек и пьют воду из каменного фонтанчика. Рядом, на бейсбольной площадке, какой-то молодой отец учит сына отбивать мяч тяжелой для малыша битой.
А снизу, с юга, из тонущего в летнем мареве Манхэттена, медленно плывет по слепящему берегу Гудзона баржа, нафаршированная новенькими разноцветными автомобилями. Над баржей в ожидании еды летят тяжелые, как гуси, гудзонские чайки, но, когда баржа приближается к мосту Вашингтона, чайки отваливают в сторону, к нью-джерсинскому берегу. Гигантский, как Асуанская плотина, мост вздымается из воды стометровыми стальными опорами и ажурно, как космическая гусеница, змеится на этих опорах от берега до берега, наполняя воздух мощным гулом сотен машин, катящих по открытым жилам его ребристого туловища.
Утреннее невысокое солнце, слепящая зыбь воды, постоянный рокот машин и дрожь резонирующих стальных опор создают впечатление, что мост живет, пульсирует, извивается и плывет.
В тени береговой опоры, на росистой зеленой лужайке, почти всегда торчит полицейская машина с распахнутыми дверцами. Два здоровенных полицейских, лениво развалясь на передних сиденьях, жуют сандвичи, пьют кофе из термоса и наблюдают, как я, стервенея от собственной слабости, отжимаюсь от земли на своих муравьиных руках, бегаю, приседаю, выжимаю булыжники и, расставив скобкой ноги, с гортанным криком выбрасываю вперед руку как бы с клинком – отрабатываю приемы дзюдо. Когда-то, тридцать лет назад, меня обучали этим приемам в Советской Армии, и теперь, готовя себя к встрече с московским КГБ, я пытаюсь вспомнить все, что может защитить, если она состоится. Особенно – как локтем бить под дых, если тебя схватили сзади…
О, конечно, я согласился с предложением «Токио ридерз дайджест» поехать в Россию. Но, Боже мой, как я боюсь этой поездки! По ночам мне снятся допросы на Лубянке и камеры лефортовской тюрьмы, в которых сидели Матиас Руст и Николас Данилофф. Снятся отравленные зонтики и архивы московского КГБ, в которых лежат «Гэбэшные псы», «Кремлевские лисы», «Атака на Швецию» и другие мои антисоветские книги, изданные на двенадцати языках.
Но чем страшнее по ночам, тем яростнее я отжимаюсь по утрам на набережной Гудзона и тем подозрительнее смотрят на меня полицейские. Может быть, своими ожесточенными тренировками я напоминаю им Ли Освальда или героя фильма «Taxi driver», который в течение всего фильма тренировался, чтобы убить президента.
Но мне плевать на этих ментов. Япония, страна восходящей Иены, скупающая за миллионы долларов картины Ван Гога, Гогена, Пикассо и т. д., назвала мою сегодняшнюю цену – пять тысяч долларов. Дешевле шемякинского эстампа, дешевле самой дешевой корейской машины. Пять тысяч за Вадима Плоткина, автора бывших бестселлеров «Гэбэшные псы» и «Кремлевские лисы»! Пять тысяч – раз! Пять тысяч – два! The call, леди и джентльмены? Кто больше? Никто! Запад дал мне последнюю цену – пять тысяч долларов! Еб… мать! Пять тысяч – моя красная цена в базарный день!
Ладно! Я возьму эти деньги. Возьму. Но поеду в Россию вовсе не за ними. О нет! Где-то там, под Москвой, на пыльных полках Госфильмофонда в поселке Белые столбы, или на темных складах рязанской кинокопировальной фабрики, или в запасниках Министерства кинематографии лежит моя последняя козырная карта – мой фильм «Зима бесконечна». Я найду его! И как знаменитый теперь на Западе «Комиссар» вытащил из небытия Витю Аскольдова, так моя «Зима» вернет меня на орбиту жизни. Этого «Комиссара» гэбэшники арестовали 20 лет назад, а режиссера Аскольдова выбросили из кино, и он все 20 лет проработал администратором какой-то филармонии. Год назад гласность сняла запрет с десятков фильмов, и теперь Аскольдов ездит со своим «Комиссаром» по всем международным кинофестивалям, собирая призы и лавровые венки.
И если Аскольдов раскопал свой фильм двадцатилетней давности, неужели я не найду свой – арестованный всего одиннадцать лет назад? Может быть, именно сейчас, в этот момент, когда я отжимаюсь тут под взглядами нью-йоркских ментов, там, в Москве, на Лубянке какой-нибудь гэбэшник как раз смотрит этот фильм.
Почему бы и нет? Ведь они уже получили из Вашингтона запрос на визы для делегации американских журналистов, они уже наткнулись в этом списке на твою фамилию, затребовали из своего архивного отдела твое личное дело и с интересом читают твою первую публикацию на Западе.
…Но вот наконец вся советская власть осталась внизу, на первом этаже шереметьевского аэровокзала, за границей паспортного контроля. А здесь, на втором этаже, импортной чистотой сияют паркетные полы и стеклянные стены, импортно растут цветы и пальмы в просторных кадках, импортно, без суеты, прогуливаются чистенькие иностранцы и с импортной вежливостью их обслуживают русские сувенирные магазины. И все это должно помочь почувствовать смятому и минуту назад ограбленному эмигранту, что он уже почти за границей. Но он озирается, еще не веря своей удаче. Он боится шагнуть по натертым до зеркального блеска полам, он с опаской, на краешек, садится в эти мягкие кресла, он осторожно делает первый глубокий вдох и ждет объявления посадки в свой самолет.
А рядом – балкон или, точнее, широкая балюстрада, нависающая над первым этажом вокзала. О, этот знаменитый балкон, о нем даже песни написаны! Потому что отсюда пассажиры могут последний раз махнуть рукой своим провожающим, остающимся внизу, в Советском Союзе. Можно даже крикнуть «Прощайте!», «До свидания!» или даже «В будущем году в Иерусалиме!» Правда, сегодня этот балкон почему-то огорожен канатом, а перед ним стоят два солдата-пограничника с автоматами на груди…
Измочаленная таможенным досмотром шатенка в рыжей куртке из кожзаменителя берет за руку свою пятилетнюю дочку и направляется к балкону. Но молодой пограничник преграждает им дорогу.
– Стоп! Туда нельзя!
– Почему? – округляет глаза шатенка. – Ведь недавно было можно.
– А теперь нельзя! – И второй солдат подходит к первому, и они становятся рядом, с автоматами на груди, словно готовясь отразить вооруженную атаку.
Шатенка смотрит в глаза этим восемнадцатилетним русским парням и говорит просительно:
– Ну, ребята! Пожалуйста, пропустите!.. Ну, хорошо, я не пойду туда, но разрешите моей дочке, у нее там внизу стоит отец. Пусть она ему хоть рукой помашет! Ася, – и шатенка наклоняется к дочке, – попроси дядю, чтобы он пустил тебя сказать папе «до свидания».
И девочка – не по годам серьезный ребенок – говорит этим солдатам:
– Дяди, пожалуйста, пропустите меня. У меня там папа. Он русский, он не едет в Израиль.
И я вижу, что эти ребята колеблются под просящим взглядом ребенка и даже делают какое-то движение, собираясь расступиться. Но в этот миг подходит женщина в форме капитана таможенной службы и суровым тоном говорит шатенке:
– А ну отойдите от государственной границы! Не положено тут стоять! Идите отсюда! – И, прямая, уверенная в непререкаемости своего приказа, удаляется с гестаповским стуком хромовых сапожек, подбитых стальными подковками.
Круглое лицо шатенки вдруг заостряется злостью. Быстрыми нервными движениями она открывает футляр детской скрипки, сует эту скрипку своей дочке, повязывает ей на плече крохотную подушечку и говорит с яростью:
– Играй! Сыграй им, Ася! Только громко! Полным звуком! Чтобы твой папа услышал! Он услышит! Он услышит и поймет, что это ты играешь для него! Играй, Ася! Вот смычок!
– А что играть, мама? – Девочка устраивает скрипочку на плече, на подушечке, и опломбированным смычком трогает струнки своей опломбированной скрипки.
– Генделя! Шестую сонату! – нетерпеливо говорит ей мать.
Но девочка вдруг отводит смычок от скрипки:
– Третья струна расстроена, слышишь?
– Не важно! – нервно торопит мать. – Ты играй!
– Нет, я так не могу играть, – говорит ребенок, и видно, что она не капризничает, а просто обучена относиться к музыке профессионально. И только когда ее мать подтянула струну, провела по ней смычком и спросила у дочки: «Так?» – девочка кивнула и заиграла.
– Полнее! – требует мать. – Полнее звук! Громче!
И я вижу торжество на ее лице – она ответила таможне за все унижения!
Звуки детской скрипки заполнили разом зал. Они были такие не по-детски мощные, что, конечно, легко преодолели Государственную границу СССР – никакие солдаты не смогли их остановить. И уже иностранцы стали останавливаться возле шатенки, недоуменно глядя на крохотную девочку, игравшую Генделя, и на двух солдат, возвышающихся над ней с автоматами на груди.
В это время по радио объявили посадку на рейс номер 228 «Москва – Вена». Стоявшая поодаль, у лестницы, группа эмигрантов подхватила свои сумки, детей и старух и поспешила на посадку. Девочка отняла смычок от скрипки, перестала играть, вопросительно посмотрела на мать.
– Играй! – торжествующе сказала шатенка. – Играй, Ася!!!
Но из глубины зала поспешной солдатской походкой уже возвращалась к месту происшествия все та же женщина-капитан. Ее лицо пылало от гнева. Она подошла к шатенке и спросила зажатым голосом, чтобы не слышали иностранцы:
– Это что за концерт?!
– Это не концерт, – громко ответила шатенка. – Это репетиция. У нее режим – она должна каждый день заниматься, сейчас как раз время ее урока.
Они стояли друг против друга: прямая, как штык, женщина, офицер таможенных войск КГБ в сером кителе с натертыми до блеска пуговицами, и сутулая шатенка в рыжей куртке из кожзаменителя и в стоптанных сапогах. И между ними – пятилетняя девочка с маленькой скрипкой на плече и замершим в воздухе смычком. А они, две взрослые женщины, все смотрели друг другу в глаза – долго, упорно, с ненавистью. Несколько иностранцев стояли в стороне и ждали, чем это закончится.
На часах в зале было 12.20, через двадцать минут мы должны были улететь в эмиграцию, это были наши последние минуты на советской земле.
– Это вам объявили посадку? – спросила у шатенки женщина-капитан.
– Да!
– Вот и летите! Там будете концерты давать.
– Да! – победно усмехнулась шатенка. – Там будем концерты давать! Для того и летим.
Женщина-капитан ничего ей не ответила. Она взяла у ребенка скрипку и смычок, осмотрела пломбочки на них. Все было в порядке, не придерешься – маленькие свинцовые пломбочки с печатью Министерства культуры СССР висели на тонких стальных проволоках, обжимая гриф скрипки и смычок, как маленькие кандалы. Капитан положила скрипку и смычок в футляр и ушла, бросив взгляд на иностранцев, стоявших рядом.
«Заканчивается посадка в самолет, следующий рейсом номер двести двадцать восемь по маршруту «Москва – Вена», – снова прозвучало по радио.
Боже, подумал каждый из нас, неужели сейчас мы действительно улетим от всего этого? От проверок, досмотров, запретов и фашистских охранников этого коммунистического рая?
Девочка взяла свою скрипку и пошла с матерью к выходу на посадку. Но здесь был затор. Оказывается, наши испытания еще не кончились. Оказывается, даже здесь, в последнюю минуту уже при выходе на посадку, нас подстерегала еще одна ловушка. Таможенники, стоявшие при арке микроволновой проверки на металл, остановили молодую актрису.
– Стойте! Что у вас на руке?
– Как что? Обыкновенное кольцо. Обручальное.
– Но вы же едете одна!
– Да, я развелась с мужем. Но вывезти кольцо я имею право.
– Нет, это контрабанда.
– Какая контрабанда? Что вы! Нам разрешено иметь при выезде женских украшений не дороже 250 рублей.
– Это кольцо стоит дороже.
– Что вы! Оно стоит 120 рублей.
– У вас есть справка из магазина? Ах, нет справки? Значит, вы не летите. Мы снимаем вас с рейса за провоз контрабанды.
– Но у меня же билет!
– Это нас не касается. Можете оставить кольцо и лететь. Иначе – нет.
Что делать? Что делать людям, когда у них уже отобрали все еще раньше, а самолет в Вену – вот он, за окном, и до отлета всего восемь минут, а эти молодые таможенники смотрят на вас спокойными глазами мародеров? Да подавитесь вы этим кольцом, нате!
И красивая актриса, ломая пальцы и морщась от боли, рвет кольцо с тонкой руки и швыряет им, собираясь идти наконец на посадку.
– Нет! – усмехаются они. – Это не все. Раз вы отдали кольцо, значит, вы признали, что это контрабанда. И в таком случае платите штраф за попытку провоза контрабанды – сто рублей. И спешите, самолет сейчас улетит. А за вами люди стоят…
– Но у меня нет рублей! – отчаянно восклицает актриса. – Откуда? Ведь советские деньги нельзя вывозить!
– Платите долларами. Вы же поменяли на доллары девяносто рублей. Вам дали за них в банке сто тридцать шесть долларов. Вот и платите сто тридцать шесть долларов. И быстрее, мы из-за вас самолет задерживать не будем. Давайте ваши доллары, быстро!
И растерянная актриса какими-то заторможенными, как в ступоре, движениями отдает им последние деньги, а они прячут за щеки свои ухмылки, а в карманы ее кольцо и ее доллары. И если вы не были ярыми антисоветчиками до отлета, то вы станете ими в эти дни, когда это «прекрасное» государство, уже не стесняясь, показывает вам свое истинное лицо мародера.
А часы идут – шесть минут до отлета, пять…
Мы нетерпеливо топчемся у спуска на летное поле, как вдруг на лестнице, ведущей из таможенного зала, появляется странная процессия: два грузчика, сцепив руки замком, несут сидящую на их руках девяностолетнюю старушку, седую и легкую, как одуванчик. Они вносят ее на второй этаж, сажают в кресло, подходят к таможенникам и объясняют, что старуха летит к своим детям в Израиль, но она парализована, вот справка от врача, а вот квитанция об уплате за «сервис» – они отнесут ее прямо в самолет. Конечно, мы все понимаем, что эта старушка заплатила грузчикам бешеные деньги за сервис и они поделятся с таможенниками. Потому те согласно кивают, грузчики возвращаются к старушке, берут на руки и вне очереди, впереди всех нас, несут ее на посадку.
И вот когда мы выходим на летное поле, а потом подъезжаем автобусом к самолету и до трапа остается десять шагов, старушка-одуванчик вдруг властно останавливает своих носильщиков:
– Отпустите меня! Отпустите!
Недоумевая, они приспускают ее к земле, а она вдруг с мучительной натугой разгибает свои тонкие парализованные ножки, становится на них и идет, шатаясь, к самолету. Мы все бросаемся к ней, боясь, что она упадет, кто-то подхватывает ее под локоть, но она отнимает свой старческий локоток и жестко говорит:
– Не надо! Я сама уйду с этой земли!
И сама, поверьте, сама – мы только шли по бокам старухи, – поднялась в самолет по трапу.
Господи, подумал я, какую же силу ты даешь порой этому маленькому народу и какую же ненависть надо было скопить к этому государству, чтобы он мог вот так разогнуть парализованные ноги, встать наконец и уйти с этой земли!..
– He! You are workin hard [Эй ты, надорвешься]!
Отжимаясь от земли, я увидел перед собой шнуровку тупоносых черных ботинок и задрал голову вверх. Надо мной, заслонив солнце, стоял полицейский в отглаженных брюках; на его широком поясе висели пистолетная кобура, резиновая дубинка, коробка с патронами, уоки-токи, стальные наручники и кожаный планшет.
– В чем дело? – спросил я не вставая.
– Встань…
Я встал, краем майки утер пот со лба. Полицейский был выше меня на голову и вдвое шире в плечах.
– Твое гражданство?
– США. А в чем дело?
– Ты живешь в этом районе?
– Да. На Cто восьмидесятой улице. А что?
– Ты видел этого мужика? – Полицейский достал из планшета фоторобот – портрет не то негра, не то испанца.
– No, – сказал я.
– Посмотри внимательно! – приказал он.
– Тут не на что смотреть. Вы даже не знаете, он черный или испанец.
Полицейского это озадачило.
– Откуда ты это знаешь?
– Глянь на эти губы, – сказал. – Это губы черного или испанца?
Полицейский посмотрел на фоторобот.
– Well… – сказал он в затруднении. – Н-да… Кажется, ты прав. Ты кто по профессии?
– Я писатель.
– Писатель? Если ты писатель, чего ты надрываешься, как спортсмен?
– Я собираюсь в командировку в Россию.
– Ясно. У них там столько же преступности, сколько у нас?
– Больше.
– Да ладно! – не поверил полицейский. – Я видел Горбачева по телику. Он замечательный мужик, не так ли?
Я поглядел на полицейского снизу вверх. Ему было лет сорок, у него была красная шея и конопатое лицо огайского фермера, но акцент негритянский – скорее всего от постоянной работы в Гарлеме. Прочесть ему лекцию о России и Горбачеве или не ввязываться в дискуссию? Эти американцы знают о России столько же, сколько я о Тунисе или Индонезии.
– Может быть… – сказал я уклончиво и кивнул на фоторобот, который полицейский уже прятал в планшет. – А кто это?
– Насильник и перевозчик наркотиков. А наркоманы есть в России?
– Конечно. Наркоманы, насильники, грабители, рэкетиры и даже мафия. И плюс – КГБ.
– Так зачем туда ехать в таком случае?
– Я должен.
– Ладно. Желаю удачи. Только будь там осторожен.
– Thanks, – сказал я и побежал домой – через туннель, где валялся черный бродяга с вывалившимся из ширинки членом, по загаженной бетонной дорожке вверх – мимо разворованных и сожженных автомобилей, по Сто восьмидесятой улице, мимо ватаги черных и испанских подростков, которые при красном светофоре стремительно набрасываются на машины и мыльной пеной замазывают стекла еще до того, как водители успевают сказать, нужно ли им мыть машину… Потом, задыхаясь, я взбежал по пыльной лестнице дома, где я жил теперь у Максима, – мимо груды мусорных мешков на каждой лестничной площадке…
Еще не вставив ключ в замочную скважину, я услыхал за дверью телефонный звонок. Никто не снимал трубку – Максим еще с ночи ушел в церковь к утренней службе. Второй звонок, третий. Наверно, это Лиза по поводу денег или у Ханочки простуда. Быстрей!
Наконец я открыл три замка на обшарпанной двери, вбежал в квартиру, огляделся – где же этот f… телефон? С некоторых пор я обнаружил, что стоит мне поговорить даже недолго по-английски, как я мысленно перехожу на английский, и особенно на мат.
Телефон стоял в кухонной раковине. Я схватил трубку.
– Алло!
– Mister Plotkin? – сказал бодрый мужской голос.
– Yes.
– Это Барри Вудстон из Вашингтона, из Международной ассоциации журналистов. Поздравляю! Я был в советском посольстве, хотел получить визы для нашей делегации. И – вы не поверите! – ни одна виза не готова, кроме вашей! Только ваша! Так что готовьтесь! Вполне может случиться, что вы поедете один и будете представлять там всех нас! Ха! Ха! Ха! Вы рады?
– Yes, thank you [Да, спасибо]… – сказал я помертвевшим голосом и сел на стул. Я все понял. Еще ни одному туристу, а тем более русскому эмигранту, советское посольство не давало въездной визы так быстро. Обычно они тянут до последнего дня и даже натуральным американцам дают визу лишь за несколько часов до вылета. А мне – за неделю! Все ясно, они оформили мне визу раньше всех, потому что для КГБ я «the Most Wanted Man» – тот, кого разыскивают. То есть все мои ночные страхи подтвердились! КГБ хочет заполучить меня в СССР, а эти девчонки-секретари в посольстве случайно прокололись и выдали своих боссов. Но как же мне теперь отказаться от поездки? Ведь японцы уже заплатили три тысячи долларов за мой билет и за отель в России. Где я возьму деньги, чтобы вернуть им такую сумму?
– Так что увидимся в аэропорту! – бодро сказал в трубке голос Барри Вудстона из Вашингтона. – Пожалуйста, приезжайте туда за два часа до вылета, хорошо?
– All right… – без голоса отозвался я. И сидел, не опуская трубку и не слыша, что в ней уже давно гудят гудки отбоя.
…Он уже был в автобусе, который подъехал к выходу на летное поле, чтобы везти нас к самолету. Высокий крупный шатен лет тридцати восьми – стальные глаза, квадратный подбородок боксера, нос, как у Хруща – картошкой, политбюрошная шляпа, узкий серый галстук и потертый пиджак на бычьей груди, расширенный пистолетной кобурой, спрятанной под мышкой, – стоял в этом промороженном, в белом инее на заклепках, автобусе, стоял, возвышаясь у первого ряда кресел, и молча наблюдал, как мы рассаживаемся. Ася, маленькая скрипачка, влезла в автобус первая и побежала вперед, чтобы сесть у окошка, как это любят дети. Но он жесткой, сильной рукой отодвинул девочку назад – без единого слова, как вещь. Он стоял лицом к нам, как статуя на площадях народных гуляний, все эти пятьсот метров между аэропортом и самолетом. А в самолете прошел в самый конец салона и сел в последнем ряду, чтобы видеть нас на протяжении всего полета.
Но нам уже было наплевать на него!
Мужчина, у которого отняли серебряные вилки, сказал громко и вызывающе:
– Я не понимаю! Они что – боятся, что мы угоним этот самолет обратно в Россию?
Жена испуганно дернула его за рукав:
– Тихо! Не дразни их. Черт с ними!
– Но я уже свободный человек! – воскликнул он.
– Этого я еще не знаю… – осторожно ответила она.
И действительно, почему даже в самолете нас посадили отдельно от остальных пассажиров… СССР – страна всеобщего равенства, и в советских самолетах теоретически нет деления на первый и второй класс. Тем не менее в первом салоне огромного «Ту-124» летели всего четыре советских дипломата, отстраненно-надменных, в одинаковых серых костюмах (даже проходя через наш салон в туалет, они старательно избегали встречаться с нами глазами, делая вид, что нас не существует). В третьем салоне были только иностранцы – австрийцы и немцы. А мы, двадцать семь измочаленных эмигрантов, включая грудного ребенка, парализованную старуху, умирающего от лейкемии одесского сварщика, 16-летнюю девчонку с распухшими от поцелуев губами и пятилетнюю скрипачку, оказались в полупустом среднем салоне. Единственным советским пассажиром, который летел с нами, был наш вышибалоподобный страж. Он сидел в одиночестве на шести задних сиденьях. Между нами было несколько рядов пустых кресел, и через эту нейтральную полосу он, словно лагерный часовой, молча наблюдал, как из третьего салона к нам приближались два австрийца – они оказались врачами и примчались спасать умирающего от лейкемии. Таможня так и не разрешила отцу этого парня взять для него лекарства. Теперь этот обреченный гигант лежал на двух сиденьях с откинутыми спинками, припав к кислородной подушке, а его отец и мать каждые пять минут трогали его желтые, как из слоновой кости, босые ноги, торчащие из штанин, – проверяли, не холодеют ли.
Австрийцы-врачи, открыв свои докторские чемоданчики, бессильно лепетали что-то по-немецки, отец больного отвечал им на идиш, а позади них, в следующем ряду, сидела молодая толстая жена сварщика с младенцем. Почему-то этот крикливый ребенок, часами изводивший нас своим ором на вокзале, мгновенно умолк, едва мы вошли в самолет. Возможно, он родился антисоветчиком и там, в СССР, от всего советского у него были колики в животе. Или, может быть, с молоком матери ему передавалась и ее нервозность – то-то в Шереметьеве он с отвращением выталкивал изо рта ее большую синюю грудь. Едва мы зашли в самолет, как малыш вдруг смачно засосал эту же грудь своими плотоядными губами и через минуту уснул, зарозовев щечками…
Девять семей, двадцать семь человек, включая двух старух и младенца, – неужели в КГБ считали, что мы представляем опасность для других пассажиров? И в чем, собственно, могла заключаться эта опасность?
– Интересно, у него пистолет справа под мышкой, – вдруг громко сказал задира мужчина, у которого отняли серебряные вилки. – Значит, он левша!
– Заткнись! – локтем толкнула его жена.
Но тот продолжал как ни в чем не бывало:
– Понимаешь, я читал в «Неделе», в рубрике «Люди редких профессий»: такие охранники самолетов должны заранее наметить, в кого они начнут стрелять в случае инцидента. Он просто обязан это сделать – это азбука его работы! Поэтому он и был с нами в автобусе. Интересно, кого он выбрал?
– Тебя, конечно! – сказала жена.
– А я думаю, что он может начать с детей. Чтобы сразу потрясти нас всех…
– Идиот! – сказала его жена, увидев, как мать младенца и мать девочки-скрипачки непроизвольно повернулись к гэбэшнику.
– А что я такого сказал? – Мужчина пожал плечами. – Они нас всех держали под прицелом с момента рождения, разве нет? И для каждого грели под мышкой пули…
– Слушайте, прекратите! – вдруг раздраженно бросил этому задире отец умирающего сварщика. – Нам тут только скандала не хватает! Если они задержат вылет еще на двадцать минут, я не довезу сына живым…
Мужчина с обидой на лице отвернулся. Неутоленная месть за отнятые вилки еще клокотала в нем, но спорить с отцом умирающего он не стал. Тем более что тот добавил примирительно:
– Мы уже выше этого, понимаете? Мы уже улетаем… Посмотрите в окно!
Мы посмотрели в окно и увидели, что наш самолет на взлетной полосе. В этот миг двигатели взревели, сотрясая самолет лихорадочной дрожью, потом сорвали его с места и…
Последние метры советской земли побежали за иллюминатором, съедаемые скоростью. Тяжелый, как гусь, «Ту-124», казалось, еле отрывался от щербатой бетонки взлетной полосы. А мы, сидя в креслах, мысленно подталкивали его вверх: «Ну! Ну! Ну же!..» И вдруг – тряска кончилась, мы – взлетели!
– Ур-р-ра! – заорал мужчина, у которого отняли вилки, и обнял свою жену.
– Ура! – подхватили мы, а я подумал: Господи, ведь мы и вправду уже улетаем от них! От ГУЛАГа, погромов, психбольниц, допросов КГБ, доносов в парткомы, прописок, пятого пункта, процентной нормы, принудительного распределения на работу, профсоюзных, комсомольских и партийных поручений, «добровольных» субботников, подписки на «Правду», уборки картошки за колхозников, изучения брежневских речей и «Морального кодекса строителя коммунизма». Теперь от всего этого набора позади нас оставались всего-навсего девять граммов свинца под мышкой у этого гэбэшника! Да плевать нам на это – мы взлетели, ВЗЛЕТЕЛИ!
И тут все, даже мужчина, у которого отняли серебряные вилки, стали громко шутить и еще громче хохотать, вспоминая шереметьевских таможенников, изображая их в лицах, как в пьесе. Даже отец умирающего сварщика показал, как я взбесился, когда Алеша сломал первую клавишу у моей пишущей машинки. «Я решил – все, золотые клавиши, сейчас рейс задержат! – сказал он. – А оказалось! Да я вам их в Вене на спичках припаяю!..» Мужчина-задира вдруг сам стал хохмить по поводу своих пропавших вилок: «Вообще-то это тещины вилки, а она мне никогда не приносила счастья! Так что даже хорошо, что тещино несчастье осталось!
Сейчас, вспоминая эти шутки, я не нахожу в них ничего смешного. Но я хорошо помню, что там, в самолете, мы смеялись так, словно накурились марихуаны. А может, мы и вправду были пьяны свободой, как зеки, удачно бежавшие из тюрьмы. Мы хохотали, хлопали друг друга по плечам, делились бутербродами и настойчиво угощали австрийцев шоколадом «Аленка» и конфетами «Мишка косолапый», которые все-таки удалось пронести в самолет. При этом мы с нелепой гордостью говорили австрийцам: «Русские конфеты! Russian чоколадо!» – по советской привычке считая, что русский шоколад самый лучший в мире.
Австрийцы вежливо откусывали подтаявшую, в мятой обертке «Аленку», с интересом посматривали на нашу актрису, сидящую у окна, и уже через полчаса полета уговорили командира самолета радировать в Вену, чтобы прямо в аэропорту, у трапа, нас встречала ambulance с аппаратом переливания крови. При этом все мы вызывающе демонстративно игнорировали теперь этого гэбэшника в конце салона. После двух суток совместного пребывания в шереметьевском аэропорту мы, совершенно незнакомые люди, вдруг стали одной семьей. Ведь мы уже все знали друг о друге: кто откуда, с кем прощался, куда летит, в Америку или в Израиль, и что каждый везет в своих чемоданах, – мы даже видели нижнее белье нашей актрисы! Два инвалида – парализованная старушка и умирающий сварщик – стали теперь нашими общими родственниками, а двое детей – грудной ребенок сварщика и Ася-скрипачка – нашими общими детьми. Мы поминутно смотрели на них: младенец спал на руках матери, а Ася – уронив голову набок, на свою белую кроличью шубку. Оба дышали глубоко и спокойно, губы были полуоткрыты. И видя этих сладко спящих детей, мы гордо переглядывались, как бы говоря: да, все-таки мы добились своего, главного – мы вывезли с этой гибельной земли юные еврейские корни! Конечно, там, на Западе, их ждут проблемы роста – мы знаем, мы читали в газетах про наркотики и все прочее. Но мы верили, что никто там не станет внушать нашим детям любовь к дедушке Ленину, никто не заставит их доносить на родителей, не бросит в ГУЛАГ или в психбольницу и не будет всю жизнь держать их затылки под прицелом холодных гэбэшных глаз.
Кажется, даже врачи-австрийцы поняли, о чем мы думаем, глядя на наших детей.
– Мазл тов, – вдруг сказал нам один из австрийцев, и мы дружно расхохотались, и я еще раз и с удовольствием попробовал на языке это давно забытое еврейское слово, которое слышал только в далеком детстве, от дедушки: мазл тов, счастливчик…
В Вене, в аэропорту, едва к самолету подали трап, наш охранник первым пошел к выходу – его миссия закончилась! Он пробежал вниз по трапу и вошел в пустой австрийский автобус, сияющий чистотой, как концертный рояль. Но не мог уехать сразу, потому что этот автобус ждал нас, а не его. И теперь этот гэбэшник был вынужден наблюдать, как мы выходим из самолета в новый мир.
Здесь, в этом новом мире, было удивительно тепло и солнечно, словно мы перелетели на другую планету. Только значительно позже я сообразил, что Вена просто много южнее Москвы. А в те минуты я лишь изумлялся.
Здравствуй, новый мир! Какой ты?
Поодаль от самолета, метрах в двухстах, виднелось стеклобетонное здание аэропорта с надписью «Вена». А под самолетом рядом с автобусом стояли белые машины «скорой помощи», и два санитара с носилками уже бежали по трапу, чтобы забрать нашего умирающего.
И мы, все еще ощущая себя одной семьей, первым делом вынесли из самолета наших детей и старуху. Я помог шатенке спустить разморенную сном скрипачку из самолета в автобус и, полный знобяще-веселого возбуждения, тут же – навстречу красивой актрисе – взбежал обратно в самолет, поднял там на руки парализованную старушку и понес вниз по трапу. Старушка обняла меня за шею – она была легче перышка. А может быть, это Бог дал мне тогда силы даже не почувствовать ее тяжести. Я посадил старушку на кресло в автобусе и опять побежал вверх по трапу, но внезапно ощутил какой-то холодок в затылке.
Я оглянулся и встретил холодные, светлые гэбэшные глаза. О, это были еще те глаза! Теперь наконец в них появилось выражение – выражение чистой, как шведская водка «Абсолют», ненависти. С каким удовольствием, нет, с наслаждением, он вытащил бы сейчас свой теплый пистолет и разрядил в меня всю обойму! Почему? Да потому, что я таки ушел от их власти, да еще помогаю теперь уходить другим, и открыто, победоносно радуюсь свободе!
Я прочел его взгляд, улыбнулся ему и побежал вверх по трапу с новой энергией.
Внутри самолета санитары укладывали гиганта-сварщика на высокую тележку-носилки. Его отец и мать молча стояли рядом, а толстая жена рыдала в своем кресле, держа проснувшегося младенца на животе.
Я взял, а точнее, выхватил у нее ребенка и сказал жестко:
– Пошли!
Когда женщины плачут, необходим строгий повелительный тон. Она встала и послушно пошла за мной к выходу, уронив с колен детскую соску и запасную пару крохотных белых детских ботиночек.
Я вышел из самолета, держа на руках еврейского младенца. И уже сам нашел взглядом этого гэбэшника. Я демонстративно выносил еще одного ребенка с советской территории, как выносят из радиоактивной зоны, и не было в тот момент на земле мужчины сильней и счастливей меня! Я чувствовал себя сионистом, солдатом, бойцом, гранитным памятником в Трептов-парке! Если бы этот гэбэшник поднял сейчас пистолет, я с ликующим криком прикрыл бы этого ребенка своей грудью. Да, есть вещи, о которых люди пишут с гордостью, а есть – о которых умалчивают от скромности. Я же горжусь, что в тот момент чувствовал себя стопроцентным евреем и стопроцентным мужчиной.
Я шел по трапу с ребенком на руках и смотрел этому гэбэшнику прямо в глаза. И было такое напряжение в нашей молчаливой дуэли, что все обратили на это внимание и замолчали на миг, а мать девочки-скрипачки сказала мне:
– Умоляю, не дразните его!
– Почему? – улыбнулся я и, не отводя взгляда от светло-голубых глаз гэбэшника, передал жене сварщика ее грудного ребенка.
И тут гэбэшник отвернулся.
Он отвернулся с полным безразличием на лице, но мы-то с ним уже поняли друг друга!
Он отвернулся, вышел из автобуса и направился к служебному мини-автобусу, который прикатил за советским экипажем – пилотами и стюардессами.
Он присоединился к ним, к советской команде, и мини-автобус повез их куда-то в глубину аэропорта. Но в самый последний миг, когда автобус уже сворачивал за угол аэровокзала, гэбэшник вскинул глаза и глянул на меня с таким прищуром – именно прищуром! – с каким смотрят сквозь прицел снайперской винтовки.
* * *
Тут с Бродвея ворвалась в окно очередная не то полицейская, не то медицинская сирена. Я посмотрел на телефонную трубку в руке, она уже давно пищала короткими гудками. Я вспомнил, что советское посольство выдало мне визу на поездку в СССР. Мне, единственному из всей делегации.