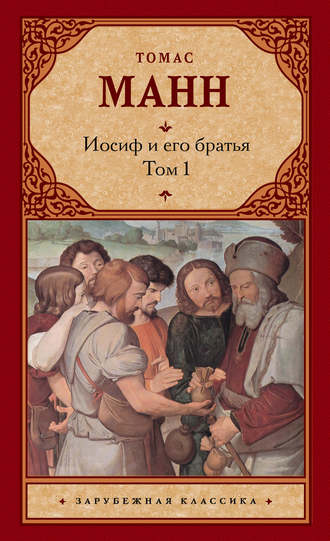
Томас Манн
Иосиф и его братья. Том 1
Отец
Со стороны холма и жилищ донеслось его имя: «Иосиф! Иосиф!», донеслось дважды и трижды, каждый раз с меньшего расстоянья. Он услыхал этот зов на третий раз, во всяком случае, только на третий раз признал, что слышит его, и, быстро опомнившись, пробормотал: «Вот я». Глаза его вернулись, он опустил руки и голову и застенчиво улыбнулся, прижав подбородок к груди. Это был мягкий и, как всегда, полный чувств, слегка жалующийся голос отца. Он звучал уже совсем рядом. Отец повторил, хотя уже увидел сына у колодца: «Иосиф, где ты?»
Так как на нем было длинное платье и еще потому, что неверность и призрачная ясность лунного света способствуют преувеличенным представленьям, Иаков – или Иаков бен Ицхак, как он подписывался, – казался человеком величественного, чуть ли не сверхъестественного роста, когда стоял между колодцем и деревом наставленья, ближе к дереву, испещрившему его одежды тенями своих листьев. Еще большую внушительность – то ли сознательно, то ли безотчетно – приобретал он благодаря своей позе: он опирался на длинный посох, обхватив его пальцами очень высоко, отчего просторный рукав его крупносборчатой, в узкую бледную полоску, верхней одежды, плаща из подобия шерстяного муслина, сполз с поднятой выше головы, уже стариковской руки, украшенной на запястье медным браслетом. Предпочтенному близнецу Исава было тогда шестьдесят семь лет. Его борода, негустая, но длинная и широкая, сливаясь с волосами головы у висков, торчала на щеках тонкими прядями и падала на грудь во всю ее ширину; нестриженая, незавитая, никак не причесанная и не приглаженная, она серебрилась на лунном свету. Узкие губы были видны в ней. Глубокие морщины уходили в бороду от крыльев тонкого носа. Глаза, глядевшие из-под куколя темно-узорчатой ханаанской ткани, который, закрывая наполовину лоб, падал на грудь складками и был переброшен через плечо – маленькие, карие, блестящие глаза, с дряблыми, в прожилках, нижними веками, вообще-то уже ослабевшие от старости и зоркие только душевной зоркостью, озабоченно следили за мальчиком у колодца. Подобравшийся и распахнувшийся из-за поднятых рук плащ открывал одеянье из крашеной козьей шерсти, край которого, с длинной бахромой, доставал до носков матерчатых туфель, косо спускаясь к ним слоями складок, создававшими впечатление нескольких, выглядывающих один из-под другого нарядов. Одет старик был, таким образом, плотно и основательно, хотя довольно прихотливо и неоднородно: черты восточной культуры сочетались в его платье с признаками, свойственными скорее измаильтянско-бедуинскому быту и миру пустыни.
На последний оклик Иосиф по праву не отозвался, поскольку вопрос был задан явно после того, как отец заметил его. Мальчик ограничился улыбкой, которая разомкнула его полные губы и показала блеск зубов – очень белых, какими всегда кажутся зубы при смуглом лице, но не частых, а с просветами, – и прибавил к улыбке обычные приветственные телодвиженья. Он снова поднял руки, как прежде – к луне, покачал головой и, в знак восторга и восхищенья, прищелкнул языком. Затем коснулся рукою лба, чтобы, выпрямив пальцы, опустить ее оттуда к земле, изящным и округлым движеньем; полузакрыв глаза и запрокинув голову, прижал обе ладони к сердцу, после чего, не разнимая рук, несколько раз протянул их к старику и снова приложил к сердцу, словно отдавая его отцу. Не преминул он указать пальцами и на свои глаза, а также коснуться ими колен, темени и ступней, каждый раз повторяя благоговейно-приветственное движение рук. Все это было красивой игрой, которая исполнялась, как того требовали правила хорошего воспитания, непринужденно и заученно, но в то же время с особой ловкостью и грациозностью – в них сказывался услужливый, приветливый нрав – и с неподдельным чувством. Эта задушевная, благодаря сопровождавшей ее улыбке, игра была пантомимой благочестивой покорности родителю и господину, главе рода, но оживлялась искренней радостью по поводу того, что представился случай почтить отца. Иосиф знал, что отец не всегда играл в жизни героическую и полную достоинства роль. Его тягу к величественности в речах и повадке посрамляла порой кроткая пугливость его души; он знавал часы униженья, бегства, отчаянного страха, такие переделки, в каких его не хотел представлять себе тот, кого он любил, хотя в них-то как раз и проглядывала милость господня. И даже если в улыбке этого любимца и была доля кокетства и победительной самоуверенности, то улыбался он в общем-то от радости, которую доставляли ему и приход отца, и прикрасы освещенья, и выигрышно-царственная поза старика, опершегося на длинный посох; и в ребяческом этом удовлетворенье проявилась большая слабость к внешней эффектности, независимо от ее подоплеки.
Иаков не сошел с того места, где стоял. Может быть, он заметил и хотел продлить удовольствие сына. Голос его, который мы назвали полным чувств, потому что в нем слышалась дрожь внутренней озабоченности, раздался снова. На этот раз он полувопросительно сказал:
– Дитя сидит у бездны?
Странные слова, они были произнесены неуверенно и как бы в мечтательной оплошности. Они прозвучали так, словно говорящий находит что-то неподобающее или удивительное в том, что в столь юном возрасте человек сидит у какой бы то ни было бездны; словно понятия «дитя» и «бездна» несовместимы. В действительности в этих словах звучало и хотело заявить о себе нянечье, если можно так сказать, опасение, что Иосиф, который в глазах отца был гораздо меньше и ребячливее, чем на самом деле в то время, упадет ненароком в колодец.
Мальчик улыбнулся еще шире, отчего стало видно еще больше редких его зубов, и кивнул головой вместо ответа. Но он быстро изменил выраженье своего лица, ибо второе замечанье Иакова прозвучало строже. Тот приказал:
– Прикрой свою наготу!
Подняв и округлив руки, Иосиф оглядел себя с полушутливым смущеньем, потом поспешно распутал связанные узлом рукава полотняной рубахи и натянул ее на плечи. Теперь и в самом деле могло показаться, что старик держался на некотором расстоянье от сына из-за его наготы, ибо сейчас он подошел ближе. При этом он усиленно опирался на длинный посох, поднимая и опуская его, потому что хромал. Вот уже двенадцать лет, после одного дорожного приключенья, которое он претерпел при довольно плачевных обстоятельствах, в пору великого испуга и страха, Иаков хромал на одно бедро.
Некто Иевше
Они виделись не так уж давно. Как обычно, Иосиф ужинал в благоухавшем мускусом и миррой шатре отца, с теми своими братьями, точнее сказать – сводными братьями, что как раз находились на месте: другие, присматривая за другими стадами, жили несколько поодаль, на полночь, в долине, на которую глядели горы Гевал и Гаризим, близ одного укрепленного города и священного места, называвшегося Сихем или Шекем, «затылок», а также Мабарфа, то есть «проход». С жителями Шекема Иакова связывали и религиозные дела; ибо хотя почитаемое там божество было разновидностью сирийского овчара и прекрасного владыки Адониса и того изуродованного вепрем цветущего юноши, Таммуза, которого внизу звали Усири, жертвой, но уже очень давно, во времена Авраама и сихемского первосвященника царя Мелхиседека, божество это приобрело особый духовный облик, закрепивший за ним имя Эль-эльон, Баал-берит, то есть Всевышний, Глава завета, Творец и Владыка неба и земли. Такой взгляд казался Иакову правильным и приемлемым, и он был склонен видеть в шекемском растерзанном сыне истинного всевышнего бога, бога Авраама, а в сихемитах своих единоверцев, тем более что, согласно надежному, переходившему из поколенья в поколенье преданию, сам первопришелец назвал однажды в разговоре – это была ученая беседа с содомским старостой – познанного им бога «Эль-эльон», а значит, отождествил его с Баалом и Адоном Мелхиседека. Сам Иаков, духовный внук первопришельца, много лет назад, возвратясь из Месопотамии и раскинув свой стан перед Сихемом, поставил там жертвенник этому богу. Он построил там также колодец и купил право выпаса, хорошо заплатив за него шекелями серебра.
Позднее между Сихемом и людьми Иакова пошли нелады, последствия которых оказались ужасны для города. Но мир был восстановлен, и прежние связи возобновились, так что часть скота Иакова всегда паслась на шекемских выгонах, а часть его сыновей и пастухов всегда находилась вдали от лица его из-за этих стад.
В ужине, кроме Иосифа, участвовали два сына Лии, костлявый Иссахар и Завулон, который ни во что не ставил пастушескую жизнь, но и не хотел быть землепашцем, а желал только одного – стать моряком. С тех пор как он побывал на море, в Аскалуне, он не представлял себе ничего более высокого, чем это занятие, и любил рассказывать всякие небылицы о приключеньях и о двуполых чудовищах, что жили по ту сторону вод, куда можно было добраться на корабле: о людях с бычьими или львиными головами, двуглавых, двуликих, у которых были сразу и человеческое лицо, и морда овчарки, так что они попеременно лаяли и разговаривали, о ластоногих и о всяких других диковинках… Еще ужинали в шатре Иакова расторопный Неффалим, сын Валлы, и оба отпрыска Зелфы, прямодушный Гад и Асир, который, как обычно, старался захватить лучшие куски и всем поддакивал. Что касалось единоутробного брата Иосифа, ребенка Вениамина, то он жил еще при женщинах и был слишком мал, чтобы ужинать с гостями; а сегодня в доме был гость.
Человек по имени Иевше, который называл свое место Таанак и рассказывал за едой о голубях тамошнего храма и о рыбках в его прудах, уже несколько дней находившийся в пути с черепком, поскольку таанакский градоправитель Ашират-яшур – его называли царем, но это было преувеличеньем – сплошь исписал этот черепок посланьем своему «брату», князю Газы, по имени Рифат-Баал; пожелав Рифат-Баалу, чтобы тот был счастлив в жизни и чтобы все сколько-нибудь влиятельные боги дружно воспеклись о его благе, а также о благе его дома и его детей, Ашират-яшур сообщал, что не может послать «брату» леса и денег, которых тот более или менее справедливо от него требует, поелику первого у него нет, а вторые крайне нужны ему самому, но зато посылает ему с Иевше необычайно могущественное глиняное изваяние своей личной и общетаанакской покровительницы, богини Ашеры, дабы таковое принесло ему благодать и помогло преодолеть потребность в деньгах и лесе, – так вот, этот Иевше, человек с козлиной бородкой, от шеи до лодыжек закутанный в яркую шерсть, завернул к Иакову, чтобы узнать его суждения, преломить его хлеб и переночевать у него перед дальнейшим путешествием к морю, а Иаков радушно принял гонца, попросив его только, чтобы изваянье Аштарты, фигурку женщины в шароварах, с венцом и покрывалом, охватившей обеими руками крошечные свои груди, тот держал в некотором отдалении от него, Иакова. Вообще же он встретил гостя без предубежденья, памятуя старинное предание об Аврааме, который в гневе прогнал от себя в пустыню одного дряхлого идолопоклонника, но получил за свою нетерпимость выговор от господа и вернул в свой дом ослепленного старика.
Обслуживаемые двумя рабами в свежевыстиранных полотняных балахонах, старым Мадаи и молодым Махалалиилом, сотрапезники, сидя на подушках вокруг циновки (Иаков твердо держался этого обычая отцов и слышать не хотел о том, чтобы сидеть на стульях, как то было заведено у городской знати по образцу великих царств Востока и Юга), поужинали маслинами, жареным козленком и добрым хлебом кемахом, а запили эту еду отваром из слив и изюма, поданным в медных кружках, и сирийским вином, разлитым в чаши цветного стекла. Хозяин и гость вели рассудительные беседы, к которым, во всяком случае, Иосиф прислушивался очень внимательно, – беседы частного и общественного характера насчет божественных и земных дел, а также по поводу политических слухов; о семейных обстоятельствах Иевше и его служебном положении при Ашират-яшуре, владыке города; о его путешествии, для которого он воспользовался дорогой, идущей через Изреельскую равнину и нагорье, причем по горному водоразделу ехал верхом на осле, а продолжать путь отсюда вниз, к стране филистимлян, намерен был на верблюде, приобретя его завтра в Хевроне; о ценах на скот и на зерно у него на родине; о культе Цветущего Шеста Ашеры Таанакской, и о ее «персте», то есть оракуле, через посредство которого она разрешила отправить в путь одно из своих изваяний в качестве Ашеры Дорожной, чтобы оно усладило сердце Рифат-Баала в Газе; о ее празднике, отмеченном недавно всеобщими, весьма необузданными плясками и съедением огромного количества рыбы, а также тем, что мужчины и женщины поменялись одеждами в знак провозглашенной жрецами двуполости Ашеры, ее причастности и к женской, и к мужской стати. Тут Иаков погладил бороду и перебил гостя несколькими каверзными вопросами: кто защитит место Таанак, покуда изваяние Ашеры будет в пути; как понимать отношение путешествующего изваяния к владычице города и не нанесет ли отсутствие части ее естества заметного урона ее могуществу? На это Иевше отвечал, что если бы дело действительно так обстояло, то вряд ли бы перст Ашеры велел отправить ее в дорогу, и что по учению жрецов вся сила божества заключена в любом его изваянии. Еще Иаков мягко указал на то, что если Аширта является и мужчиной и женщиной, то есть сразу и Баалом и Баалат, и матерью богов, и царем небесным, ее следует приравнять не только к почитаемой в Синеаре Иштар, не только к Исет, почитаемой в нечистой земле Египетской, но также к Шамашу, Шалиму, Адду, Адону, Лахаме и Даму, короче говоря, к владыке мира и высочайшему богу, и получается, что дело идет в общем-то об Эль-эльоне, боге Авраама, создателе и отце, а его ни в какое путешествие отправить нельзя, потому что он царит надо всем, и служат ему вовсе не тем, что едят рыбу, а только тем, что живут в чистоте и падают перед ним ниц. Но такое соображение не встретило у Иевше особого сочувствия. Подобно тому как солнце, возразил он, всегда оказывает свое действие через какое-то путеводное светило и в нем предстает, подобно тому как оно уделяет от своего света планетам, а уж они, каждая на свой лад, влияют на судьбы людей, так и божественное начало сказывается в отдельных божествах, среди которых владыка-владычица Ашират, например, являет божественную силу, как известно, в земном плодородье и выходе природы из преисподней, ежегодно превращаясь из сухого шеста в цветущий, а по такому случаю вполне уместны некоторая необузданность в еде и плясках и даже кое-какие иные, связанные с праздником Цветущего Шеста утехи и вольности, поскольку чистота присуща лишь Солнцу и неделимой прабожественности, но отнюдь не ее планетным ипостасям, и четко разграничивая понятия «чистый» и «священный», разум обнаруживает, что священность не связана или не обязательно связана с чистотой… Иаков отвечал на это очень вдумчиво: он, Иаков, не хочет никого обижать, а тем более гостя своей хижины, закадычного друга и посла могущественного царя, порицая взгляды, внушенные тому родителями и писцами таблиц. Но и Солнце – это только творенье Эльэльона, и как таковое хоть и божественно, но не является богом, что разуму и надлежит различать. Тот не в ладу с разумом и рискует прогневить ревнивого господа, кто поклоняется какому-либо его творению, а не ему самому, и гость Иевше сам расписался в том, что местные боги – это производные бога, – от более обидного обозначения, он, Иаков, из любви к гостю и вежливости воздержится. Если бог, сотворивший Солнце, путеводные знаки, планеты и землю, – бог высочайший, то он также и единственный бог, а о других в этом случае лучше вообще не говорить, не то их пришлось бы обозначить этим нежелательным именем, поскольку понятие «высочайший бог» разум должен приравнять к понятию бога единственного… Вопрос о различье и тождестве этих двух понятий, высочайшего и единственного, вызвал долгие словопрения, которые хозяин готов был вести до бесконечности и, дай ему волю, продолжал бы до полуночи или даже всю ночь. Однако Иевше перевел разговор на дела мира и его царств, на раздоры и происки, о которых он как друг и родственник ханаанского градодержца знал больше, чем обыкновенный человек: речь пошла о том, что на Кипре, который он называл Алашией, свирепствует чума, что она унесла множество людей, но не всех, как то утверждал правитель этого острова в своем письме фараону преисподней, чтобы оправдать почти полное прекращение поставок меди; что царь государства Хетта или Хатти носит имя Шуббилулима и располагает столь большой военной силой, что грозится захватить богов митаннийского царя Тушратты, хотя тот состоит в свойстве с великой фиванской династией; что вавилонский кассит стал как огня бояться ассурского первосвященника, стремящегося выйти из-под власти законодателя и основать на реке Тигре особое государство; что благодаря сирийской контрибуции фараон сильно обогатил жречество своего бога Аммуна и на эти же деньги построил Аммуну новый храм с тысячью колонн и ворот, но что довольно скоро приток этих средств уменьшится, так как города Сирии страдают от опустошительных набегов разбойников-бедуинов, а на севере все шире распространяется хеттская держава, оспаривающая у людей Аммуна господство в Ханаане, и многие аморитские князья поддерживают этих чужеземцев в их борьбе против Аммуна. Тут Иевше подмигнул одним глазом, вероятно, затем, чтобы по-дружески намекнуть слушателям, что и Ашират-яшур не чурается такой политики, но как только перестали говорить о боге, интерес хозяина к беседе заметно убыл, разговор заглох, и сидевшие поднялись: Иевше – чтобы удостовериться, что с Астартой Дорожной ничего не стряслось, и затем лечь спать; Иаков – чтобы с посохом обойти свой стан, взглянуть на женщин и на скот в стойлах. Что касается его сыновей, то у шатра Иосиф отделился от остальных пятерых, хотя сначала собирался пойти с ними. Прямодушный Гад внезапно сказал ему:
– Убирайся, шалопай и паскудник, ты нам не нужен!
Иосифу не понадобилось долго думать, чтобы ответить:
– Ты похож на бревно, Гад, по которому еще не прошелся струг, и на бодливого козла в стаде. Если я передам твои слова отцу, он накажет тебя. А если я передам их Рувиму, нашему брату, он, по своей справедливости, задаст тебе жару. Но пусть будет так, как ты говоришь: если вы пойдете направо, я пойду налево, и наоборот. Я-то вас люблю, но вам я, увы, внушаю отвращение, а сегодня – особенно, потому что отец подал мне кусок козленка и ласково на меня поглядывал. Поэтому я одобряю твое предложение, чтобы избежать свары и чтобы вы нечаянно не впали во грех. Прощайте!
Гад слушал это с презрительным выражением лица, не поворачивая головы, но все же ему было любопытно, какой сейчас опять найдется у мальчишки ответ. Затем он сделал грубый жест и ушел с остальными, а Иосиф пошел один.
Он совершил небольшую вечернюю прогулку – если только то удрученное состоянье, в каком из-за грубости Гада, при всей удовлетворенности удачным своим ответом, находился сейчас Иосиф, позволяет назвать это хожденье словом «прогулка», обозначающим нечто все же приятно-увеселительное. Он побрел вверх по холму, по отлогому восточному склону, и, быстро достигнув гребня, откуда открывался вид на юг, увидел слева в долине белый от лунного света город, его толстые стены с четырехгранниками угловых башен и ворот, колоннаду его дворца, окруженный широкой террасой массив его храма. Он любил смотреть на город, где жило так много людей. Смутно видна была отсюда и усыпальница его семьи, купленная некогда по всем правилам Авраамом у хеттеянина Двойная Пещера, где покоился прах предков, праматери-вавилонянки и позднейших старейшин: карнизы каменных ворот двойного склепа вырисовывались у обводной стены в левой ее части; и благоговейные чувства, источником которых является смерть, смешались в его сердце с симпатией, которую внушил ему вид многолюдного города. Потом он вернулся, отыскал колодец, освежился, вымылся и умастил свое тело, после чего и начал то несколько вольное заигрывание с луной, за которым застал его озабоченный каждым его шагом отец.
Доносчик
Теперь он подошел к нему, старик, положил правую руку ему на голову, взяв посох в левую, и заглянул своими старыми, но проницательными глазами в прекрасные, черные глаза юноши, которые тот сначала поднял к нему, снова блеснув финифтью редких своих зубов, но потом опустил – и просто из почтительности, и в то же время из смутного чувства вины, связанного с приказаньем одеться. Он и вправду помешкал с одеваньем не ради приятной воздушной ванны или не только ради нее и подозревал, что отец понял, какие побужденья и представленья заставили его приветствовать небеса полуголым. Ему было действительно радостно и заманчиво открыть свою юную наготу луне, с которой он и благодаря гороскопу и по разным другим догадкам и соображениям чувствовал себя связанным, он был убежден, что это ей понравится, и рассчитывал подкупить и расположить к себе этим ее – или высшую силу вообще. Ощущение прохладного света, коснувшегося с вечерним воздухом его плеч, он воспринял как успех ребяческих своих действий, которые нельзя назвать бесстыдными по той причине, что они имели целью жертвоприношенье стыдливости. Нужно иметь в виду, что обряд обрезания, перенятый как внешний обычай в царстве Египетском, давно приобрел в роду и кругу Иосифа особый мистический смысл. Он был установленным по требованию бога бракосочетанием человека с божеством и совершался над той частью плоти, которая представлялась средоточием ее сущности и участвовала во всех связанных с телом обетах. Мужчины часто носили или писали имя бога на своем детородном члене перед совокупленьем с женщиной. Союз с богом был половым, он заключался с вожделеющим, стремящимся к безраздельному обладанию творцом и владыкой, а потому усмирял и ослаблял человеческую мужественность, сводя ее к женственности. Кровавый жертвенный обряд обрезания в идее еще ближе к оскоплению, чем физически. Освящение плоти – это символ одновременно девственности и жертвоприношения девственности, то есть начала женского. Кроме того, Иосиф был, как он знал и ото всех слышал, красив и прекрасен, а в сознании своей красоты есть уже и без того что-то женское; и так как «прекрасный» было прилагательным, которое относили обычно прежде всего к луне, луне полной, не затемненной и чистой, так как оно было эпитетом луны, определеньем из небесной, собственно, сферы и к человеку могло быть отнесено, строго говоря, только метафорически, то для Иосифа понятия «прекрасный» и «нагой» почти сливались, и ему казалось, что он поступает умно и благочестиво, отвечая прекрасной красоте светила собственной наготой, чтобы удовольствие и восхищенье были взаимны.
Мы не беремся судить, сколь тесно или сколь отдаленно связана была известная вольность его поведения с этими туманными мыслями. Шли они, во всяком случае, от первоначального смысла культового обнажения, свидетелем которого ему еще то и дело случалось бывать, и как раз потому вызвали у него при виде отца и после отцовского замечанья смутное чувство вины. Ибо он любил духовность старика и боялся ее, прекрасно зная, что она отвергает, как греховный, почти весь тот мир представлений, с которым он, Иосиф, пусть только баловства ради, был еще связан, что она проникнута гордым сознанием доавраамовской его отсталости и всегда готова заклеймить его словом самого страшного своего осужденья, ужасным словом «идолопоклоннический». Иосиф ждал решительного и резкого выговора такого рода. Но из забот, которые, как всегда, задавал ему этот сын, Иаков выбрал другие. Он начал так:
– Право, было бы лучше, если бы дитя уже сотворило молитву и спало под защитой хижины. Мне неприятно видеть его одного среди ночи, которая становится все более глубокой, и под звездами, которые светят добрым и злым. Почему оно не присоединилось к сыновьям Лии и не пошло туда, куда пошли сыновья Валлы?
Он знал, конечно, почему Иосиф опять этого не сделал, а Иосиф знал, что только озабоченность этими известными обстоятельствами заставила отца задать подобный вопрос. Он отвечал, надув губы:
– К такому уж полюбовному соглашенью пришли мы с братьями.
Иаков продолжал:
– Случается, что лев пустыни и тот, что живет в камышах реки, ближе к соленому морю, наведывается сюда, когда бывает голоден, и ищет добычи в загонах, когда его тянет на кровь. Не далее как пять дней назад пастух Альдмодад лежал передо мною на брюхе и признался, что ночью какой-то хищный зверь задрал из молодняка двух ярок и одну уволок, чтобы сожрать. Альдмодад был чист предо мною без клятвы: он представил зарезанную овцу в крови ее, и разуму ясно было, что другую утащил лев, так что урон этот падет на мою голову.
– Он невелик, – польстил отцу Иосиф, – и ничего не значит при том богатстве, каким наделил моего господина в Месопотамии возлюбивший его господь.
Иаков опустил голову и вдобавок склонил ее несколько набок в знак того, что он не кичится благословением, хотя оно дало себя знать не без мудрого содействия с его стороны. Он ответил:
– Кому много было дано, у того может быть и отнято многое. Если господь сделал меня серебряным, то он может сделать меня глиняным и бедным, как выброшенный черепок; ибо прихоть бога могущественна и пути его справедливости нам непонятны. У серебра бледный свет, – продолжал он, стараясь не смотреть на луну, на которую зато Иосиф сразу же бросил косой взгляд. – Серебро – это печаль, а самый жестокий страх страшащегося – это легкомыслие тех, о ком он печется.
Мальчик сопроводил просительный взгляд утешающим и ласковым жестом, которого Иаков не дал закончить, сказав:
– Подкравшийся лев растерзал ягнят старой матери вон там, на выгоне, в ста шагах отсюда или двухстах. А дитя ночью в одиночестве сидит у колодца, сидит неосторожно, нагое, беспечное, беззащитное, забыв об отце. Разве ты создан для опасности и снаряжен для сраженья? Разве ты похож на своих братьев Симеона и Левия, да хранит их бог, которые с криком на устах и с мечом в руках бросаются на врагов и уже сожгли город аморитян? Или ты, как твой дядя Исав, живущий на диком юге в Сеире, степняк и охотник, и у тебя красная кожа, и ты космат, как козел? Нет, ты благочестивое дитя хижины, ибо ты плоть от плоти моей, и когда Исав подходил к броду с четырьмя сотнями человек и душа моя не знала, чем все это кончится перед господом, впереди я поставил служанок с детьми их, твоими братьями, за ними Лию с ее сыновьями, а тебя – тебя я поставил позади всех вместе с Рахилью, твоею матерью…
Глаза его были уже полны слез. Имя жены, которую он любил больше всех на свете, Иаков не мог произнести без слез, хотя прошло уже восемь лет с тех пор, как ее непонятным образом отнял у него бог, и голос его, и так-то всегда взволнованный, всхлипнул и задрожал.
Юноша протянул к нему руки, а потом поднес сложенные ладони к губам.
– Ах, как напрасно, – сказал он с нежным упреком, – тоскует сердце папочки моего и милого господина и ах, как преувеличены его опасенья! Когда гость простился с нами, чтобы проведать драгоценное свое изваянье, – он насмешливо улыбнулся, чтобы порадовать Иакова, и прибавил: – которое показалось мне довольно бедным, бессильным и жалким, ничем не лучше грубых гончарных изделий на рынке…
– Ты его видел? – перебил сына Иаков. Даже это было ему неприятно и омрачило его.
– Я попросил гостя показать его мне перед ужином, – сказал Иосиф, презрительно выпячивая губы и пожимая плечами. – Работа средней руки, и бессилье прямо-таки написано у этой фигурки на лбу… Когда вы закончили беседу, ты и гость, я вышел с братьями, но один из сыновей Лииной служанки – кажется, это был честный и прямодушный Гад – предложил мне держаться от них подальше и причинил мне некоторую душевную боль, назвав меня не моим именем, а ненастоящими, дурными именами, на которые я не отзываюсь…
Нечаянно и вопреки своему намерению сбился он на наушничество, хотя знал за собой эту самому же ему неприятную склонность, искренне желал ее побороть и только что было успешно превозмог. При его неладах с братьями безудержность его сообщительности как раз и создавала порочный круг, отделяя его от братьев и сближая с отцом, эти нелады ставили Иосифа в промежуточное, подстрекавшее к ябедничеству положенье, ябедничество, в свою очередь, обостряло разрыв, так что трудно было сказать, в чем корень зла – в неладах или в ябедничестве, но как бы то ни было, старшие уже не могли глядеть на сына Рахили, не исказившись в лице. Первопричиной раздора было, несомненно, пристрастие Иакова к этому ребенку – такой объективной справкой мы не хотим обидеть этого человека чувства. Но чувство по природе своей склонно к необузданности и к избалованному самоублажению; оно не хочет таиться, оно не признает умолчания, оно старается показать себя, заявить о себе, «выставиться», как мы говорим, перед всем миром, чтобы занять собой всех и вся. Такова невоздержность людей чувства; а Иакова еще поощряло в ней господствовавшее в его преданьях и в его роду представление о невоздержности самого бога, о его величественной прихотливости во всем, что касается чувств и пристрастий: предпочтение, оказываемое Эль-эльоном отдельным избранникам совсем незаслуженно или не совсем по заслугам, было царственно, непонятно и по человеческому разумению несправедливо, оно было высшей волей, которую надлежало слепо, с восторгом и страхом, чтить, лежа во прахе; и сознавая, – сознавая, правда, в смиренье и страхе, – что и сам он является предметом такого пристрастия, Иаков в подражание богу всячески потрафлял своему пристрастью и давал ему полную волю.
Избалованная несдержанность человека чувства была наследством, доставшимся Иосифу от отца. Нам придется еще говорить о его неспособности обуздывать свои порывы, о недостатке у него такта, оказавшемся для него таким опасным. Это он, девяти лет, ребенком еще, пожаловался отцу на буйного, но доброго Рувима, когда тот, вспылив из-за того, что после смерти Рахили Иаков раскинул постель не у матери Рувима Лии, которая с красными своими глазами притаилась, отвергнутая, в шатре, а у ставшей тогда любимой женой служанки Валлы, сорвал отцовское ложе с нового места и с проклятьями его истоптал. Это было сделано сгоряча, ради Лии, из оскорбленной сыновней гордости, и раскаянье не заставило себя ждать. Можно было тихонько водворить постель на прежнее место, так что Иаков ни о чем не узнал бы. Но Иосиф, оказавшийся свидетелем провинности Рувима, поспешил сообщить о ней отцу, и с этого часа Иаков, который и сам обладал первородством не от природы, а лишь номинально и юридически, подумывал о том, чтобы проклясть Рувима и лишить его первородства, передав, однако, этот чин не следующему по старшинству, то есть не Симеону, второму сыну Лии, а по полному произволу чувства – первенцу Рахили, Иосифу.







