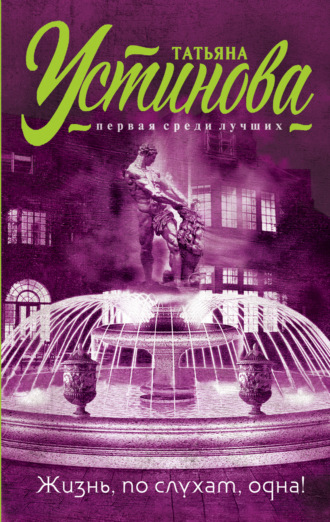
Татьяна Устинова
Жизнь, по слухам, одна!
– Зачем? – выговорила она, преодолев тесноту в горле. – Зачем ты так со мной?!
Он молчал.
– Я же тебе ничего плохого, никогда!.. А ты!.. Ты!.. Ты меня никогда не жалел и до сих пор не жалеешь! Ну зачем ты мне звонишь?! Чтобы я плакала?! Плакала, да?!
– Нина, прекрати истерику!
– Все было так хорошо, пока ты не позвонил! – прорыдала она. – Просто отлично! Я в гости собиралась и в магазин с Катькой! А ты все испортил! Ты все время мне все портишь!..
– Я ничего не портил. – Как всегда, когда она начинала рыдать, он становился увереннее, словно ее слезы придавали ему силу. – Я просто позвонил!
– Зачем?!
– Чтобы пригласить тебя.
– Куда?!
– На свидание, – тихо сказал он. – Я хочу пригласить тебя на свидание.
Ниночка перестала реветь – глаза моментально высохли – и села в золоченое креслице. Она помнила, что где-то там чашка и роза, и села осторожненько, на самый краешек.
– Как – на свидание? – уточнила она. В носу было колко и мокро, она пошарила сзади, потащила голубой шелк и вытерла нос краем кружевного пеньюара.
– Как, как! – вспылил муж. – Как люди ходят на свидания?!
– Я не знаю, – растерялась Ниночка. – Я сто лет уже не ходила.
– Ну да, – протянул муж. Бывший, бывший, конечно! – Можно подумать!..
– Не ходила, – зачем-то подтвердила Ниночка. – А… куда мы пойдем?
– А куда ты хочешь?
– В Екатерининский парк, – выпалила Ниночка.
– Бац, – сказал бывший муж негромко. – Один-ноль.
– Ну да, – подтвердила Ниночка, зачем-то встала с кресла, подошла к зеркалу и взялась за лоб. Чашка упала на пол, покатилась, загремела, но не разбилась. – А потом на улицу Куйбышева.
– В кафешку?
– Ну да, – повторила она. – Ну, если, конечно, ты имеешь в виду настоящее свидание!
– Самое настоящее, – подтвердил он, вздохнул и добавил: – Два-ноль.
– Да что ты там считаешь?! – вдруг возмутилась она. – Иди на свой футбол и считай там!
Он захохотал. Громко и радостно, как когда-то давно. Она сто лет не слышала, чтобы он так хохотал.
Все-таки она сильно его любила – в те времена, когда они ездили гулять в Екатерининский парк, а потом ели курицу в кафешке на Куйбышева.
Он потом говорил, что женился на ней как раз из-за курицы, и это тоже было смешно.
Он говорил: «Съесть курицу в общественном месте, да еще на свидании, – это целая история! Как ее есть и не выглядеть при этом людоедом или, в крайнем случае, пожирателем ни в чем не повинных зверей и птиц?! А ты ее ела так красиво, что я сразу решил на тебе жениться!»
– Значит, Екатерининский и курица, – подытожил бывший муж в трубке. – Общий счет два-ноль. Когда?
– Завтра?
Она думала, он скажет: у меня расписание. Ну, ты же знаешь, как я занят! У меня встречи расписаны на месяц вперед. Давай пятнадцатого числа, но четырнадцатого контрольный звонок для подтверждения. Только ты мне обязательно напомни, что мы договаривались!
Она думала, он скажет: что это ты так моментально согласилась, да еще хочешь прямо завтра?! Или ты на самом деле поверила, что у нас свидание?!
Он сказал:
– А чего не сегодня?
– Да я на вечеринку иду! – с досадой воскликнула Ниночка. – Московская знаменитость приезжает, только один концерт, и всякое такое! Я обещала!
– А знаменитость… какого рода?
– Господи, да никакого! Никас, певец, ты таких не слушаешь!
Муж почему-то опять захохотал:
– Певец Никас?! Ну, ты даешь! А ты что, фанатка, что ли?!
– Дим, ну слушаю я его, ну и что?! Он про любовь поет! А что ты так веселишься-то?!
– Ты вроде никогда не была дурой, – сказал муж весело.
– Да почему сразу дурой, я не понимаю?! Его все слушают! А тебе бы только ржать!..
– Да нет, нет, – спохватился он, – я не ржу! Так просто, смешно немного. Я тебе потом расскажу. А концерт этого Никаса сегодня, что ли?
– Он еще не приехал! Концерт завтра, и приезжает он завтра! А сегодня пре-пати, будет весь бомонд!
– Что сегодня?! – поразился муж.
– Ах, боже мой, пре-пати! Ну, вечеринка такая! Вечеринка – «пати», по-английски! «Пре», потому что перед! Перед концертом! Будет его продюсер, какие-то журналисты. Телевидение будет!
– Оно тебе очень нужно!
– Нужно, представь себе! И вообще, зачем ты меня приглашаешь на свидание?! Чтобы издеваться, да?!
– Нет, – быстро сказал он. – Завтра так завтра, я согласен. Я за тобой заеду. Во сколько?
– В пять. Нормально?
Он сказал, что нормально, потом неуверенно добавил, что целует, и положил трубку.
Ниночка посмотрела на себя в зеркало. Щеки горели, и глаза были яркие, как будто накрашенные. Она наклонилась вперед, чтобы рассмотреть получше, хотя точно знала, что не красилась сегодня.
Все-таки она сильно его любила!..
Он учился в Москве, приезжал только по выходным, и они сразу мчались гулять в Екатерининский парк – ни в его, ни в ее квартире никак нельзя было «встречаться».
Ее родители считали, что он «неподходящая партия» – мальчик из коммуналки с Обуховской обороны, голь перекатная! Его родители тоже считали Ниночку неподходящей – избалованная девочка, дочка большого чиновника, которого никакая перестройка не утопила!
Родители могли считать все, что им заблагорассудится, а они гуляли в парке, поддавали ногами охапки осенних листьев, останавливались и слушали, как они шуршат, медленно опускаясь на землю. Однажды дворник их разогнал как раз за то, что поддавали листья ногами, и долго ругался и кричал им вслед, что вот сейчас наряд вызовет, надо же такому быть, никакого уважения к труду! Метешь, метешь эти листья, а потом какие-то малолетки их по всему парку разбрасывают, сами бы попробовали мести!..
Они убежали от дворника и долго хохотали за каким-то гротом – тогда Дима любил хохотать и делал это как-то на редкость вкусно, вот как сегодня по телефону, когда услышал про певца Никаса!
И поженились они тоже «своевольно» – пошли в загс и расписались, подумаешь, делов-то! И потом с независимым, гордым, испуганным видом сносили громы и молнии, которые оба семейства обрушили им на голову.
Монтекки и Капулетти из родителей все равно не вышло. Ниночкин отец вздохнул и купил «молодым» квартиру на Фонтанке, а Димочкин отец вздохнул и сказал: «Живите, чего уж теперь, раз поженились!»
Ниночкин муж быстро пошел в гору – папа помогал немного, да и Дима сам был не дурак. Ему понравилось зарабатывать, понравились деньги и простор, появившийся вместе с ними, вон как горизонты расширились!
Они много ездили, и все в экзотические страны, покупали машины, часы и колечки – Ниночка любила колечки! Все было устойчиво и незыблемо – и чудилось, что так будет всегда.
Должно быть, любителям морских круизов тоже казалось, что у них на «Титанике» все устойчиво и незыблемо и ничего не может случиться!
То, что было потом, Ниночка не могла вспоминать – сразу начинала плакать и задыхаться, как сегодня. Должно быть, и тогда она сильно Диму любила, потому что ей думалось, что как только он выйдет из квартиры на Фонтанке и его водитель отнесет в «Мерседес» чемоданы, она упадет замертво и задохнется – непоправимо, навсегда!..
Он вышел, и она не задохнулась.
Ниночка сидела на полу, на шелковом ковре, который они вместе когда-то долго выбирали в турецкой лавке. Она сидела, держалась обеими руками за ножки кресла, чтобы не завалиться на бок. Она была уверена, что, как только упадет на ковер, горе навалится сверху и задавит ее, как убийца наваливается на жертву и душит, пока та не перестает дышать.
Она сидела и смотрела на сложные шелковые узоры и силилась вспомнить, сколько узлов приходится на сантиметр. Турок, продавший им ковер, говорил, что очень много – сто, а может, тысяча, что ли! В Ниночкиной жизни нынче тоже все завязалось узлом – а может, сотней или тысячей узлов, и развязать их нельзя, невозможно!..
– Я от тебя ухожу, – сказал ей поутру муж после чашки кофе. – Я больше так не могу! Все это вранье мне надоело!
Ниночка даже не поняла, какое именно вранье!.. Она настолько ничего не поняла, что засмеялась, обняла его за голову, звонко чмокнула в макушку и спросила, когда они поедут к родителям. Была суббота, родители ждали их в Парголове на шашлыки.
Дима сказал, что к родителям они не поедут, зато он поедет к женщине, которую полюбил. Он так и сказал Ниночке – я полюбил женщину, как будто до этого любил мужчину!
Ниночка смотрела на него недоверчиво, пока не поняла, что он всерьез собрался уходить! Должно быть, любители морских круизов на том самом «Титанике» тоже недоверчиво смотрели на океан, не понимая, что именно этот самый океан собирается с ними сделать.
А он всего лишь собирался… убить. Непоправимо, навсегда.
Говорят, что ничего не бывает «просто так», что любая женщина непременно чувствует «эти вещи» – если не знает точно, то догадывается «спинным мозгом».
Ниночка не догадывалась. И он ушел.
Его нечем было остановить – отец давно уже не имел на него никакого влияния, а детей, которые могли бы хватать папочку за колени и кричать «Не бросай мамочку!», у них не было.
Впрочем, остановить человека, который хочет уйти, невозможно, а Ниночкин муж очень хотел уйти.
Кроме того, он еще очень хотел, чтобы Ниночка осталась виноватой. Должно быть, собственное чувство вины оказалось для него непосильной ношей и он никак не мог с ней справиться! Он пыхтел под ношей, вздыхал, силился ее сбросить, и ничего у него не получалось.
Они прожили вместе почти десять лет. Говорят, что с возрастом люди меняются, и мир вокруг меняется, и очень сложно, почти невозможно остаться вместе, ибо нет никаких гарантий, что второй будет меняться точно так же, как и первый, в ту же сторону, с тем же креном, поворотом, радиусом – черт знает, с чем еще!.. Ниночка и ее муж ничего такого не знали ни про крены, ни про повороты, они просто жили вместе, и им было весело!..
Пусть это очень глупо – но правда. Так оно и было.
Екатерининский парк и курица в кафешке на углу улицы Куйбышева остались в прошлом, но и парк, и кафешка как будто грели их, подбадривали, утешали, словно два старика, провожающие молодых добрыми понимающими взглядами!..
Ничего, обойдется, ведь есть же мы, а мы все на свете знаем, знаем, как бывает нелегко, почти невыносимо, но потом ведь налаживается!..
Пока есть «мы», есть и все остальное – опавшие холодные растопыренные листья, и очень синее осеннее небо, и лужа, в которую, помнишь, она провалилась, и ты все хотел отдать ей свои носки и стеснялся, потому что они были бумазейные, истончившиеся на пятках, а она – фея! Разве фею можно нарядить в такие носки?! И собака, шуршавшая носом в этих самых листьях, тоже была. Вы все мечтали, что у вас когда-нибудь будет собственная квартира и собака. Обе, и квартира и собака, непременно громадные и очень уютные! И какие-то последние денежки мелочью, которые ты наскреб ей на книжку в магазине Зингера на Невском! Ей понадобилась книжка по русскому искусству, она тогда, кажется, какой-то экзамен сдавала, а книжки не было. Вы зашли в магазин просто так, ни на что не надеясь, и книга там стоит! И вам подали ее с полки, тяжелую, глянцевую, немного самодовольную и очень красивую, и стоила она бешеных денег! У тебя никогда не было денег, и твоя девушка всегда была гораздо богаче, но – странное дело! – тебя это почти не волновало, словно уже тогда ты был уверен, что настанет день, когда ты сможешь купить ей не просто книжку, а целый книжный магазин вместе с покупателями и продавцами!.. Но тогда ты наскреб на эту книжку и был страшно горд собой, и она приняла ее у тебя, прижала к себе и прошептала, как нечто очень интимное, что непременно расскажет маме, какой царский подарок ты ей сделал сегодня!..
Есть «мы», и есть то самое главное, чего нет почти ни у кого, – интерес друг к другу!.. Пока интересно, можно жить, не опасаясь, что все кончится в одночасье, ведь это такая редкая штука – интерес!..
Вот как раз в одночасье все и кончилось!
Муж ушел, а Ниночка осталась сидеть на ковре с единственной мыслью – как бы не упасть на пол, чтоб не задохнуться!..
Он ушел, она осталась, а он стал придумывать себе оправдания – из-за чего ушел! Никто его ни о чем не спрашивал, но он все равно придумывал! Поначалу Ниночке казалось, что самое трудное – это сидеть на ковре, в страхе, что вот-вот задохнешься, а выяснилось, что самое трудное – узнавать, как сильно он ее не любил все эти десять лет!..
Ты разрушила. Ты не понимала. Ты никогда!.. Ты только о себе!..
Я даже не знал, что ты такая! Я думал, что!.. Я больше так не мог!..
Мы больше не можем вместе! Мы должны отдохнуть! Мы стали другими!
И вообще, никаких «нас» нет. И не было никогда.
В довершение всего пришла бумага из райсуда. В этой бумаге, написанной его рукой, было сказано, что «взаимопонимание утрачено», «совместная жизнь фактически не ведется с такого-то числа такого-то месяца», «имущественных претензий не имеется».
Про то, что «не ведется и утрачено», Ниночка читала весь день. Притягательная, как орудие убийства, бумага лежала на столе. Ниночка подходила и читала снова и снова – «имущественные претензии… непонимание… прошу дать развод».
Потом откуда-то взялась Катька Мухина, оттащила ее от этой бумаги, надавала по щекам, потому что Ниночка все рвалась перечитывать. Ей казалось страшно важным запомнить все формулировки!
Словно мало было ему бумаги, он звонил и вновь и вновь повторял, что любит другую. Давно и сильно. Она талантлива, умна, хороша собой, и той, другой, очень нужна его поддержка.
Я все равно с тобой разведусь, ты можешь даже ничего не придумывать!
Ниночка ничего не стала придумывать. И они развелись.
Судье, усталой молодой женщине с приятным равнодушным лицом, Ниночка сказала, что не возражает против развода.
– Может, подумаете еще немного? – предложила судья. – Никто вас не торопит! Какая разница, когда разводиться, можно ведь и через месяц?!
Ниночка сказала, что они разведутся именно сейчас. Ее муж должен поддерживать молодых и талантливых.
– Да бросьте вы дурака валять, – негромко сказала судья, потом оглянулась на какую-то барышню преклонного возраста, кутавшуюся в неаппетитный коричневый платок, и велела не записывать это в протокол. – Ну, побегает он и перестанет, в первый раз побежал, что ли!
Ниночка была снисходительна к усталой молодой судье – та ведь не знала про парк, про собаку, про книжку и про то, что все десять лет им было интересно друг с другом!..
Ее родители сказали: наплевать и забыть! Ты молодая, красивая, у тебя все впереди! Хочешь в Париж, девочка? Тебе обязательно нужно в Париж, чтобы немного прийти в себя!
Его родители сказали: мы так и знали! Все равно ничего путного бы не вышло! Сын вкалывает день и ночь, а жена, бездельница, только тратит, только тратит! Да и ушел он по-мужски, все ей оставил! Чего еще надо! Может, хоть теперь он будет счастлив, заслужил!..
Но словно и этого всего было мало, муж, как-то моментально и необратимо ставший бывшим, продолжал Ниночке звонить, говорить, как хорошо ему нынче, как он от нее устал. Еще он говорил, что она всю жизнь прожила за его спиной, что тянула из него жилы, что она всегда умеет удобно устраиваться на чужом горбу – это Ниночка уже слышала от свекрови, именно ее интонации вибрировали в голосе бывшего мужа!..
Ее привела в себя, как ни странно, Катька Мухина. Катька, вечно несчастная, шмыгающая носом от хронического питерского насморка, потерявшая родителей, а вместе с ними, казалось, всякий интерес к жизни.
Катька приходила и сидела с Ниночкой, словно с больной, днями и ночами. Сначала она сидела молча, а потом стала рассказывать, как живет. Будто Ниночка этого не знала!..
В конце концов, они вместе выросли – когда-то Ниночкин папа руководил министерством, в котором начинал Катькин папа, или наоборот, впрочем, неважно!.. В детстве Ниночку часто привозили в Белоярск на каникулы, и Любовь Ивановна, Катькина мать, угощала их диковинным вареньем из крыжовника. Варенье называлось «брежневским». Из каждой ягодки была вынута сердцевинка, а на ее место вложен грецкий орешек. Ягоды были прозрачными, янтарными, варенье тягучим, остреньким, кисло-сладким – кажется, в сироп еще добавляли лимон. Любовь Ивановна заставляла девчонок «чистить ягоду», и они часами сидели на террасе, залитой солнцем, и прилежно ковыряли ножиками крыжовник, и руки у них были липкие и сладкие, с прилипшими крыжовенными хвостиками. Ниночка с Катькой маялись, ныли, ягоды на громадном подносе как будто совсем не убавлялись! Девчонки ныли, но знали, что потом, после ягод, их отпустят купаться, и они побегут наперегонки к Енисею, а Любовь Ивановна вслед им будет кричать, чтобы ни в коем случае не заплывали на стремнину – опасно!
Катька как-то очень неудачно вышла замуж, Митька, ее брат, вырос и стал попивать, и все пошло наперекосяк. Митю Ниночка почти не знала, он был старше, рано уехал в Москву и в Белоярск наезжал редко. Но когда приезжал, у девчонок был праздник – никто лучше его не умел придумывать интересные штуки, например отпроситься у матери в ночное с конюхами. На губернаторской даче всегда держали лошадей, и в ночном было таинственно, загадочно и немного страшновато.
Огонек бакена покачивался на темной реке, звезды мигали, как будто неведомый ветер вечности ерошил их. Сладко пахло какой-то травой, местные называли ее «медуницей» или «божьей метелкой». Лошади хрупали, вздыхали и переходили с места на место.
Никогда потом Ниночка не видела такой темной реки с бакеном и плотом, под которым шумела вода, не слышала такого теплого шелеста летнего ветра в старом осокоре, потрескивания веток в костре, мирного, успокаивающего хрупанья лошадей!..
Все было – сады Ватикана, развалины Рима, пляжи Варадейро, скальные монастыри Кападокии, а такого – никогда.
Катька после университета осталась с мужем в Питере, и они с Ниночкой стали было изо всех сил дружить, теперь уже как взрослые замужние дамы, но это оказалось сложно – Генку Зосимова Ниночка очень быстро возненавидела лютой ненавистью!..
Катьке он не давал никакой жизни, считал ее деревенской дурой, очень быстро стал обманывать – Ниночка обман замечала, а Катька нет, как будто жила с завязанными глазами и заткнутыми ватой ушами! Ниночка сердилась и пыталась «открыть подруге глаза на правду», что, как известно, дело гиблое и неблагодарное. Катька сердилась, не верила ни одному ее слову и считала, что Ниночка хочет «разрушить ее счастье»!
Счастье очень быстро разрушилось само по себе.
Ниночкин муж ушел к молодой и талантливой.
Катин муж, наоборот, изо всех сил старался, чтоб жена ушла сама – ему некуда было деваться, он жил в квартире, купленной тестем, и на денежное довольствие, выдаваемое тем же тестем!.. Катя все не уходила, и Генка совершенно ее извел.
Тогда, после Ниночкиного развода, Катя приходила к ней и рассказывала, как именно Генка ее изводит. Она рассказывала очень просто, словно не о себе, ну, вот будто кинокартину пересказывала!.. Поначалу Ниночка не слушала, сидела или лежала на диване совершенно безучастно, а потом стала слушать, и вдруг оказалось, что ее, Ниночкина, жизнь не идет ни в какое сравнение с Катькиной!.. Вдруг выяснилось, что Ниночкин муж – молодец, умница, честный человек и практически герой-мужчина, хотя бы потому, что бывшую жену из квартиры не выживал, делиться не требовал, новую «молодую и талантливую» подругу Ниночке не демонстрировал! Из Катькиных историй следовало, что развод значительно лучше, чем ежедневная пытка жизнью «вместе», когда один день и ночь изводит другого, а другой вяло сопротивляется!..
Наслушавшись историй, Ниночка принималась Катьку утешать и строить планы избавления от Генки, один замысловатее другого, – развестись просто так было почему-то нельзя. Кажется, из-за квартиры, огромной квартиры на Каменноостровском, которую покойный Анатолий Васильевич, Катькин отец, купил дочери на свадьбу.
Вроде бы были составлены и подписаны документы, согласно которым квартира целиком и полностью завещалась Кате на вечные времена, но… с отсрочкой. То есть пока был жив губернатор Мухин, квартира была его собственностью, а после его смерти по наследству переходила к Катьке, только не сразу, а спустя несколько лет. В этой квартире можно было жить сколько угодно, но ее решительно нельзя было ни продать, ни поделить, по крайней мере до той поры, пока не закончится «отсрочка», а папаша Мухин срок назначил – дай боже! Лет семь, что ли!.. Анатолий Васильевич, громогласный, решительный, прямолинейный, как проспект в только что отстроенном микрорайоне, да к тому же еще и губернатор огромного сибирского края, был совершенно уверен, что все отлично придумал!.. Он собирался жить вечно, и ему казалось, что даже если он чего-то там недодумал, в случае необходимости он исправит, нажмет на кнопки, задействует нужных людей, и девочка без защиты уж точно не останется!
Он умер, и Любовь Ивановна умерла тоже, и девочка осталась одна, без всякой защиты и с братом-алкоголиком на руках!..
У Кати не было сил и решительности, чтобы развестись с Генкой. Ему нужна была квартира его дурищи-жены, которая оценивается в миллион! А может, и в два! Ее можно было продать и поделить только по истечении отсрочки, и никак иначе, вот как все придумал изверг-губернатор! Разводиться раньше Генке было нельзя – он пролетел бы мимо квартиры, не получил бы ничего, вообще ничего, а сумма была огромной! Да что там говорить, половина стоимости квартиры и то была столь велика, что у Генки от сладких мыслей о таких деньгах захватывало дух.
Ниночка сто раз твердила – разводись да разводись, но Катя боялась Генки, по-настоящему боялась, и только охраняла свои бумажки, подтверждавшие право на наследство, втягивала голову в плечи, молчала, пряталась и о разводе даже думать страшилась, и Ниночкины планы избавления от Генки никак не могли осуществиться!..
Ниночка легко вздохнула от воспоминаний, рассматривая в зеркале собственное неприлично веселое и счастливое лицо.
Нужно срочно звонить Катьке. Объявить, что они едут в магазин за нарядами, а потом на вечеринку! Она, конечно, заартачится, но Ниночка ее уговорит. И еще нужно рассказать про бывшего мужа, который назначил ей свидание! Самое настоящее свидание, как когда-то, вот Катька удивится!..
Ниночка позвонила, быстро обработала подругу на предмет похода по магазинам, еще полюбовалась на себя в зеркало – хороша, хороша, ничего не скажешь! – и стала собираться.
Обратный отсчет начался. Времени у нее осталось совсем немного, но она, конечно, не знала об этом. А если бы узнала – не поверила.
У костюмерши так тряслись руки, что перья, которыми был по рукавам обшит пиджак, медленно колыхались, словно от ветра.
– Сколько раз можно говорить?! Ну, сколько?! Ну почему вы все такие скоты?! Я плачу вам зарплату, я вас из грязи тащу, а вы не люди, вы животные! Жи-вот-ные!..
Кажется, ему понравилось это слово, потому что он вдруг бросился в соседнюю комнату и заголосил оттуда:
– Жи-вот-ны-еее!
И еще матом, так и сяк и наперекосяк!..
– Чтоб ты сдох, – в неизбывной тоске пробормотал водитель Владик, и костюмерша отшатнулась от него в испуге. Ее слезы капали прямо на сценический костюм, обшитый перьями.
– Сопли подбери, – брезгливо посоветовала Хелен. – Пиджак изгваздаешь, а в нем вечером выступать!
Хелен работала директором у Никаса, восходящей звезды эстрады, и при ней пожелать звезде сдохнуть, хоть бы и шепотом, было равносильно самоубийству! Поговаривали даже, что у звезды с директрисой роман, но точно было неизвестно, и свечку никто не держал!
– Я не виновата, – прошептала костюмерша и торопливо вытерла слезы. – Я правда не виновата!.. Я когда у них спросила, брать или не брать фиолетовые ботфорты, они мне сказали, что не брать! Ну, я и не взяла!
– А своих мозгов вообще нет, – констатировала Хелен ядовито. – То есть в принципе отсутствуют!
Наташа опять залилась слезами, а Владик посмотрел в окно. Там в холодном осеннем небе неслись облака, и макушка какого-то храма сияла золотом, крест отражал солнце.
«Должно быть, хорошо там, на воле, – подумал Владик и почесал за ухом. – Много машин, людей, интересных дел!.. И город живет, нервничает, опаздывает и успевает, не справляется с делами, суетится, тоскует и веселится. В парках уже листья полетели, и по утрам, когда еще мало машин, в воздухе тонко пахнет прелой осенней прелестью, и от реки свежо, и хочется гулять с милой по этим самым паркам, думать о хорошем, ждать холодов!..
А у нас тут сплошные фиолетовые ботфорты, слезы в три ручья и уж вовсе ничего хорошего.
Уйду я с этой работы, пропади она пропадом, вдруг решил Владик. Вот в Питер слетаем, получу зарплату и уйду, ей-богу!..»
Ему вдруг моментально полегчало, даже в глазах просветлело, и он ткнул локтем в бок опростоволосившуюся костюмершу. Она глянула несчастными, зареванными кроличьими глазами.
– А чего, сейчас-то нельзя упаковать? – спросил Владик быстрым шепотом. – Мы же еще не улетели!
– Самый умный, да? – Хелен захлопнула ежедневник с такой силой, что из него вывалились какие-то бумажки и упали на пол. Наташка кинулась поднимать, и поверх ее головы директриса и водитель посмотрели друг на друга.
Она – с ледяным, равнодушным, гадливым презрением. Он – простовато, виновато, глуповато.
Болван – вот что означал ее взгляд.
Врешь, не возьмешь – означал его!..
– Так я что, Елена Николавна, – весело сказал Владик. – Я только в том аксепте, что ботфорты эти гребаные можно еще в чемодан подпихнуть!
– Говорить сначала научись, – посоветовала Хелен и почти вырвала у Наташи листочки, – а потом меня учи! Не в аксепте, а в аспекте!.. И сколько раз я говорила, за нецензурщину буду штрафовать беспощадно! С тебя десять баксов.
– За что?!
– За гребаные, – не моргнув глазом сообщила Хелен. – Давай.
– Да елкин корень! Да нету у меня с собой баксов, Елена Николавна!
– Давай деревянные, по курсу. Или двух сотен тоже нету? Обеднел совсем?
Владик сверху вниз посмотрел на нее, желваки прошлись по скулам, и в глазах появилось нечто совсем нехорошее, куда хуже «нецензурщины». Наташа вдруг за него испугалась.
Наговорит сейчас лишнего, и они его уволят – эта мегера и тот истерик, что завывает из соседней комнаты!.. Его уволят, и вообще ни одного нормального человека не останется, все сплошь… нильские крокодилы!
Испугавшись, Наташа ринулась поднять еще что-то с пола – якобы листочек за диван завалился, – споткнулась и носом ткнулась в могучее водительское предплечье. Он аккуратно поддержал ее, и то опасное, что было в его глазах, спряталось, слава богу!
– Деньги давай и проваливай в машину. Мы через пятнадцать минут поедем! Если тачка опять грязная, как третьего дня, будешь ее на моих глазах языком вылизывать. Всю! Как начнешь с ковриков, так на крыше и закончишь, понял?
– Понял, – помедлив, сказал Владик Щербатов. – Чего ж тут непонятного! Языком, значит, как начну, так и… закончу.
Почему-то это прозвучало на редкость неприлично, настолько неприлично, что Наташка вся закраснелась и выпустила его руку, а Хелен вдруг сообразила, что это он ее так… послал. Именно ее, и именно послал, и если бы он сделал это матом, было бы совсем не так оскорбительно!..
– Да сколько можно, мать вашу!.. – донеслось из соседней комнаты, потом что-то упало, и всхлипнул рояль. – Сколько я буду терпеть этот базар, так вас и разэдак!.. Хелен, разгони придурков и зайди ко мне!..
Директриса замахала руками на подчиненных, зашипела, стала делать знаки лицом. На водителя она не смотрела.
– Убирайтесь к чертовой матери отсюда!
– А… а ботфорты?
– Чего ботфорты?! Багаж уже отправлен! Пошла вон!!
– Может, мне их… к себе… в чемодан, а?
– Да эти ботфорты стоят, как твоя малая родина вместе с папашей и мамашей! В чемодан к себе она их засунет! Дура!
Костюмерша прижала руки к груди, словно умоляя дать ей последний шанс, позволить исправиться, но Владик вытолкал ее в коридор, а оттуда на лестничную площадку.
– Ну!.. Ну, Владик, что ты делаешь?! Ну, что мне теперь из-за этих ботфортов, повеситься, что ли?! Правда же, можно их в чемодан положить, и все!
Наташа оглядывалась умоляюще, бормотала, порывалась вернуться, а он все подталкивал и подталкивал ее в спину до тех пор, пока сзади не бабахнула тяжеленная бронированная дверь. Бабахнула так, что внизу, у консьержа, что-то запищало на пульте комариным писком.
– Владик!
– Давай-давай, двигай!..
– Нет, ну правда же можно!..
– Можно, можно. Шевелись, говорю!
Рысью они сбежали по широкой лестнице на первый этаж, и охранник выглянул из своей стеклянной будочки.
– А, Владь, здоров!
– И тебе не хворать!
И они с охранником с размаху пожали руки, не просто так, а со значением, весело и внимательно глядя друг другу в глаза.
– Что там у вас? Опять концерт на дому?
– У нас каждый день концерт, елкин корень! Ты пищалку-то выключи!
– Да она от каждого шороха срабатывает, а у вас сегодня шороху много что-то!
Владик покивал, и все той же рысью он и Наташка выскочили на широкое мраморное крыльцо под козырьком в палладианском стиле[1], тут только остановились и посмотрели друг на друга.
– Ты чего меня утащил? Я бы ей сказала…
– Сказала! Да ты уж сказала! И она тебе сказала, и он тоже, все сказали!..
– Владь, ну я не виновата! Она мне про эти ботфорты ни одного слова, а он вообще!..
Водитель неторопливо достал из кармана сигареты, поковырялся в пачке, как будто выбирал ту, что получше, нашел и сунул в рот.
– Да нет, ну я и вправду не виновата, Владь! Ты мне веришь?!
– Февю, – невнятно из-за сигареты ответил Владик.
– А они не верят! Я же никого не обманываю! Я всю ночь костюмы гладила, по кофрам развешивала, бирки пришивала, а тут эти ботфорты!..
– Дура ты, Наташка, – необидно перебил Владик и зачем-то дернул ее за нос. – Балда.
– Почему… я балда? Ты тоже меня ругать будешь, да?
– У тебя мамка с папкой где? – душевно спросил Владик и помахал у нее перед носом, разгоняя дым. Наташа глазами проводила его руку – широченную, загорелую, с обручальным кольцом.
– Ну, приезжая я, ну и что?! Подумаешь, какой москвич выискался!
– Где родители?..
Наташка всхлипнула и отвела глаза, словно собиралась признаться в чем-то постыдном.
– В… в Козельске.
И быстро посмотрела на него, не засмеется ли. Он не смеялся, смотрел сочувственно, только все равно какая-то чертовщина была у него в глазах. Наташа уже не первый раз замечала эту чертовщину и не могла найти ей определения.
– Это за Калугой где-то, да? Лжедмитрий, что ли?
Она понуро пожала плечами.
– Татары Козельск разорили. Это нам еще в школе рассказывали! Какой-то хитростью заманили князя в Орду и там убили.
– А князя как звали?
Наташка моргнула. Глаза у нее были серые, прозрачные до самого донышка, как осенняя вода в чистом озере.
– А тебе зачем?! Кажется… кажется, Михаил Всеволодович его звали. Князь Черниговский! А потом эти земли к Литве отошли, в четырнадцатом веке. – Она улыбнулась. – Я, когда маленькая была, часто думала – вот бы хорошо, если бы мы в Литве остались. Представляешь? Чистенько, аккуратненько, никаких тебе пьяниц-алкоголиков, ни драк, ничего!.. Цветы на подоконниках, занавески кружевные, кофем пахнет.







