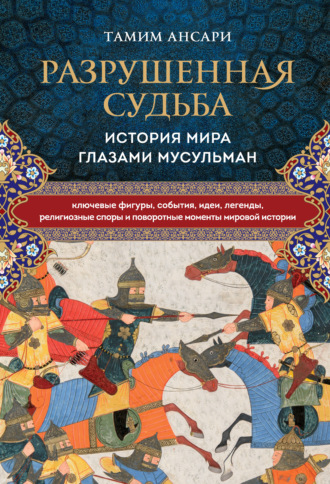
Тамим Ансари
Разрушенная судьба. История мира глазами мусульман
5. Империя Омейядов
40–120 годы п. Х.
661–737 годы н. э.
Разумеется, Муавия не объявлял, что намерен окончить религиозную эру. Он именовал себя халифом и клялся, что продолжит великую миссию своих предшественников. К концу жизни, однако, он созвал совет арабских племенных лидеров, чтобы решить, кто станет его преемником; эта встреча представляла собой некую внешнюю форму шуры, консультативного комитета, вроде учрежденного Умаром. Вожди, полагая, что он искренне интересуется их мнением, принялись обсуждать достоинства того или другого кандидата. Но вдруг один из подручных халифа вскочил на ноги и ворвался в их круг.
– Сейчас, – взревел он, – этот повелитель правоверных! – И указал на Муавию. – А когда он умрет, повелителем станет этот! – И указал на Язида, старшего сына халифа. – А кто будет возражать, получит вот это! – И выхватил из ножен свой меч[17].
Вожди поняли намек. Формально они исполнили все требования мусульманской демократии, произнесли все положенные слова и сделали положенные жесты, однако следующим халифом избрали, как им и сказали, Язида; и, возвращаясь домой тем вечером, все понимали, что подвергнуть сомнению принцип наследования больше не удастся.
Однако, восходя на престол, Язид знал, что его отец не уничтожил мятежные элементы, а лишь подавил. Поэтому он не спускал глаз с тех, кто мог бросить ему вызов, в особенности с родственников и потомков Али. Хасан к тому времени уже скончался, но жив был его брат Хусейн, и правитель решил – просто ради безопасности – убить этого человека во время его следующего паломничества в Мекку.
Хусейну было уже за сорок. Он знал, что сторонники его отца считают истинным халифом его; знал, что ревностные мусульмане ждут от него продолжения духовной революции; однако не стремился принимать на себя столь серьезную ответственность. Хусейн отстранился от политики и все эти годы вел тихую жизнь, полную молитвы и созерцания, размышляя о великой миссии своего деда.
Однако, услышав, что против него готовится заговор, что убийцы Язида намерены расправиться с ним прямо в Каабе, Хусейн понял, что с него довольно. У него не было ни войск, ни военного опыта. А у Язида была армия, казна и целая сеть соглядатаев. Однако в 60 году п. Х. (680 год по обычному календарю) Хусейн объявил, что бросает вызов Язиду, и вместе с семьюдесятью двумя людьми покинул Медину.
Конечно, эти силы нельзя было назвать «армией» – тем более что в число семидесяти двух входили жена Хусейна, дети и несколько престарелых родственников. Лишь горстка людей из этой компании были мужчины боеспособного возраста. О чем думал этот человек? Неужто и вправду надеялся такими крохотными силами победить империю Омейядов? Быть может, он полагал, что, начав свой поход, разожжет огонь революции и побудит другие племена к нему присоединиться?
Может быть, и нет. В прощальной проповеди перед отъездом Хусейн сказал своим сторонникам: он не сомневается, что погибнет, но не боится этого, ибо смерть «окружает потомков Адама, как ожерелье – шею девушки»[18]. Вспомнил он и стих из Корана, призывающий людей противостоять неправедным правителям, таким, как Язид. Если сын Али и Фатимы, внук самого Пророка, не будет противостоять тирании – кто же останется? Мусульманские предания повествуют, что Хусейн решил собственной жизнью подать пример другим: с самого начала он наделил свое паломничество ритуальным значением. В сущности, он шел на смерть и знал это.
Услышав, что младший внук Пророка пустился в путь, Язид выслал ему навстречу армию. Реальной угрозы для империи Хусейн не представлял, но Язид хотел сокрушить и раздавить его в качестве предупреждения другим радикалам, которым вздумалось бы разыгрывать карту «богоизбранности». Армия Язида настолько превышала числом небольшую группировку Хусейна, что о сражении не могло быть и речи. Легенда гласит, что против четырех сотен Язид выставил сорок тысяч.

Путь имама Хусейна в Кербелу
Каковы бы ни были размеры этой имперской армии, она настигла Хусейна в пустыне к югу от Кербелы, города вблизи южной границы Ирака. Если вы взглянете на сводки погоды в этой части света в летние дни, то увидите, что температура там поднимается до 115 градусов по Фаренгейту (около 46 °C. – Прим. ред.) и выше. В такой-то знойный день императорская армия окружила маленький отряд Хусейна на берегу Евфрата, отрезав его от воды. Хусейн, однако, сделал то, на что не хватило духу его отцу. Он отказался мириться, договариваться, искать компромиссы. Бог, сказал он, избрал его, чтобы возглавить общину добродетельных – и он не может отказаться от миссии, порученной ему Богом.
Один за другим выходили воины Хусейна, чтобы сразиться с воинами Язида. Один за другим они гибли в бою. Тем временем женщины, дети и старики умирали от жажды. Когда погиб последний из этого отряда, победоносный полководец ворвался в лагерь, отрубил Хусейну голову и отослал ее императору вместе с хвастливым письмом.
Отрубленная голова прибыла во дворец в то самое время, когда Язид угощал ужином византийского посла, и сильно испортила пир.
– Так-то поступаете вы, мусульмане? – спросил посол. – Мы, христиане, никогда так не обошлись бы с потомком Иисуса!
Эта критика разъярила Язида, и он приказал бросить «римлянина» в темницу. Позднее, однако, и сам он понял, что отрубленная голова делает ему дурную рекламу, и отослал ее обратно в Кербелу, чтобы там ее захоронили вместе с телом.
Язид, несомненно, верил, что разрешил проблему: никто из потомков Али больше не осмелится бунтовать! Однако он жестоко ошибся. Сокрушив Хусейна в Кербеле, император зажег искру, из которой разгорелось пламя. Страстная борьба за дело Али, получившая имя шиизма, охватила страну, как степной пожар. Что такое шиизм? Об этом часто рассказывают как о простой династической распре, вроде войны между королем Стефаном и претенденткой Матильдой (Мод) в Англии XII века. Но будь это так, после смерти Али движение угасло бы само собой. Кто сейчас назовет себя «модистом» или «стефанистом»? Кому в наше время интересно, кто из этих двоих имел больше прав на английский престол? Но у Али новые сторонники появлялись и после смерти. Ряды шиитов пополнялись и росли. Люди, при жизни Али еще даже не родившиеся, принимали его дело как свое, строили свою идентичность на убеждении, что первым халифом должен был стать он. Как такое возможно?
Ответ, разумеется, в том, что спор о халифате был не просто династической распрей. В нем были заключены ключевые богословские вопросы, поскольку требовалось ответить на вопрос не только о том, кто будет лидером, но и что лидер будет собой представлять. Сторонники Али видели в нем нечто такое, чего не видели в прочих претендентах на халифат: некое Богоданное духовное достоинство, делавшее его чем-то большим, чем простой смертный, то же, что видели они и в Мухаммеде. Никто не говорил, что Али – новый Посланник Божий. Такое заявление (по крайней мере, на том этапе) было просто невозможно, так что Али дали новый титул. Его стали называть имамом.
Изначально «имамом» назывался просто человек, возглавляющий общую молитву. Для большинства мусульман это слово и сейчас означает то же самое. Это именование свидетельствует об уважении и значит примерно то же, что наше «достопочтенный» или «глубокоуважаемый». Всякий раз, когда несколько мусульман собираются, чтобы вместе помолиться, кому-то из них приходится возглавлять молитву; он не делает ничего такого, чего не делали бы и остальные, просто становится перед ними и, так сказать, задает тон и ритм. В каждой мечети есть свой имам; и, когда он не возглавляет молитву, он вполне может подметать пол или чинить крышу.
Но шииты, говоря об «имаме», имеют в виду нечто намного более возвышенное. Для шиитов в мире существует лишь один имам – никогда не больше. Они исходят из мысли, что Аллах облек Мухаммеда некоей ощутимой мистической субстанцией, своей энергией или светом, именуемым барака Мухаммеда. Когда Пророк умер, этот свет перешел к Али, и в этот миг Али стал первым имамом. Когда умер Али, тот же свет перешел к его сыну Хасану, и он стал вторым имамом. Позже та же искра перешла младшему брату Хасана Хусейну, и он стал третьим имамом. Когда Хусейн пал мученической смертью при Кербеле, сама идея «имама» развилась в глубокую богословскую концепцию, обращенную к религиозной жажде, которую не принимали во внимание мейнстримовые учения того времени.
Мейнстримовое учение, как формулировали его Абу Бакр и Умар, гласило, что Мухаммед всего лишь передал людям наставления, как жить. Его наставления велики, но, кроме них, ничего нет. Кроме Корана, религиозное значение в жизни Мухаммеда имеет лишь его сунна – пример, который он задал собственной жизнью и которому могут последовать и другие, желающие обрести благоволение Божье. Те, кто приняли это учение, со временем стали называться суннитами; сейчас они составляют девять десятых мусульманского сообщества.
Шииты, напротив, чувствовали, что не могут стать достойны небес собственными усилиями. Для них наставлений было недостаточно. Они хотели верить, что прямое руководство от Бога по-прежнему изливается в мир через неких избранных, способных передать народу спасительную благодать, через живого человека, хранящего мир теплым и чистым. Таких святых людей они и начали называть имамами. Присутствие имама в мире подтверждает, что в нем по-прежнему могут совершаться чудеса.
Когда Хусейн отправился в Кербелу, у него не было шансов победить. Единственная его надежда была на то, что, быть может, Бог совершит чудо – и в этой мысли о возможности чуда и состоял принцип его веры. Вместе со своим отрядом он выбрал смерть, как символический отказ отречься от этой возможности; и для шиитов при Кербеле действительно произошло чудо – чудо мученичества Хусейна.
И по сей день шииты всего мира отмечают годовщину смерти Хусейна, одеваясь в траур и погружаясь в скорбь. Они собираются вместе в «домах скорби», чтобы вспомнить историю его мученичества, религиозный нарратив, в котором Хусейн превращается в искупительную фигуру апокалиптического масштаба. Своим мученичеством Хусейн заслужил место одесную Бога и получил право заступничества за грешников. Те, кто принимает его и верит в него, будут спасены и пойдут на небеса, какие бы прегрешения не пятнали их жизненный путь. Хусейн открыл для шиитов дверь к чуду, на которое они все это время надеялись. Вера в Хусейна не принесет тебе золота, важной должности, удачи в любви – зато вознесет на небеса: в этом и чудо.
Вернемся теперь к политической истории, развернувшейся после того, как к власти пришел Муавия. Восхождение Омейядов, быть может, положило конец рождению ислама как религиозному событию, однако начало развитие ислама как цивилизации и политической силы. В анналах привычной нам истории Запада Омейяды обозначают собой начало «золотой эры» ислама. Именно они поместили ислам на карту мира – и открыли золотой век, продолжавшийся и задолго после их падения.
Святым Муавия, конечно, далеко не был – однако оказался искусным политиком. Именно те качества, что помогли ему победить измученного Али, сделали его успешным монархом; и при его правлении установились практики и процедуры, сохранявшие целостность исламской империи на протяжении столетий.
Во всем этом чувствуется ирония судьбы: ведь, не забудем, когда Мухаммед начал пророчествовать, Омейяды были ведущим кланом богатой мекканской элиты. Когда Мухаммед как Посланник Божий гневно обличал богачей, что презирают бедных и пожирают дома вдов и сирот – он говорил, быть может, в первую очередь об Омейядах. Пока Мухаммед жил в Мекке, Омейяды стремились превзойти друг друга в преследовании и притеснении его последователей. Они участвовали в заговоре с целью убийства Мухаммеда перед Хиджрой, а после того, как мусульмане удалились в Медину, возглавляли войска, призванные уничтожить Умму в колыбели.
Однако, едва ислам начал показывать зубы, Омейяды обратились, присоединились к Умме и взобрались на вершину нового общества: среди новой элиты они тоже заняли ведущее место. Даже более: до ислама они были всего лишь первыми людьми в городе – теперь стали первыми людьми в мировой державе! Не сомневаюсь, многие из них чесали в затылках, тщетно пытаясь припомнить, чем же им так не нравилась новая вера!
Как правители Омейяды обладали мощными политическими инструментами, унаследованными от предшественников, прежде всего от Умара и Усмана. Умар оказал им огромную услугу, освятив и назвав джихадом агрессивную войну, если она ведется против неверных и за дело ислама. Такое определение джихада давало новым повелителям мусульман возможность вести постоянную войну на границах, что приносило им немалую выгоду.
Прежде всего, вечная война оттягивала агрессию к рубежам империи и помогала сохранять внутренний мир, поддерживая теорию о разделении на территорию мира (ислам) и территорию войны (все остальное), созданную в дни первых халифов.
Вечная война на границах помогала укрепить такое представление о войне и мире, прежде всего, потому, что в результате оно выглядело истинным: на границах в самом деле постоянная война, а внутри страны в самом деле мирно и спокойно, и во-вторых, потому что помогала ему стать истиной. Объединяя арабские племена против окружающих Чужих, такая концепция джихада снижала уровень междоусобных распрей, характерных для арабской племенной жизни до ислама, и в самом деле помогала сделать исламскую империю местом относительно мирным.
Это проще понять, если представить себе, кто и как сражался в этих ранних завоевательных войнах. Как правило, это были не профессиональные военные, дисциплинированно выполняющие любой приказ императора. Эти кампании вели племенные войска, которые вступали в битву, когда им этого хотелось, и сражались за веру, следуя скорее собственным желаниям, чем приказам халифа. Если бы они не воевали на границах, расширяя мусульманскую империю – очень вероятно, принялись бы грабить соседей у себя дома.
Кроме того, постоянная война – пока оставалась победоносной – подтверждала притязания мусульман на то, что Бог на их стороне. Основным чудом, утверждающим правоту ислама, с самого начала служил его поразительный военный и политический успех. Иисус, как говорят, исцелял слепых и воскрешал мертвых. Моисей превратил жезл в змею и во время исхода евреев из Египта заставил расступиться воды Красного моря. Именно видимые чудеса такого рода подтверждали притязания этих пророков на божественность или связь с Богом.
Но Мухаммед никогда не совершал подобного рода сверхъестественных чудес. Не привлекал к себе сторонников, демонстрируя силы, противоречащие законам природы. Единственным чудом, случившимся с ним, было то, что однажды он перенесся в Иерусалим, а потом на белом коне взлетел на Небеса – и это свершилось вовсе не при множестве зрителей. Никто этого не видел – лишь сам Мухаммед позже рассказал об этом своим товарищам. Люди могли верить ему или нет, по собственному желанию; но на его миссии это не отражалось, поскольку он никогда не использовал вознесение на Небеса как доказательство своей правоты.
Нет, чудо Мухаммеда (помимо самого Корана и необычайной убедительности его проповеди для многих, кто ее слышал) состояло в том, что мусульмане выигрывали битвы, даже сражаясь с втрое большими армиями. Это чудо продолжалось и при первых халифах: территория ислама расширялась с умопомрачительной быстротой – и чем можно было это объяснить, если не вмешательством Бога?
Это чудо не прекращалось и при Омейядах. Теперь победы не приходили так быстро, бывали не столь драматичны – но это и понятно: со временем мусульманам всё реже случалось значительно уступать врагу числом. Важно то, что победы продолжались, территория расширялась и никогда не сокращалась. Пока это оставалось так, каждая победа подтверждала истину ислама и возбуждала религиозный жар, благодаря которому становились возможны новые победы, а они тоже подтверждали истину ислама и возбуждали религиозный жар… и так далее, и так далее, по кругу.
Были у постоянной войны и побочные благотворные эффекты. Она приносила прибыль. Сами мусульмане говорили так: пусть властитель, презирающий Аллаха, собирает с подданных налоги, пока казна не переполнит его сундуки – тогда явятся мусульмане, скинут его с трона, освободят подданных от его жадности, а сокровища заберут себе! Освобожденный народ будет счастлив, а мусульмане богаты: всем, кроме самого свергнутого властителя, это пойдет на пользу!
Пятая часть военной добычи неизменно отсылалась в столицу – и поначалу распределялась среди Уммы, в первую очередь среди самых бедных и нуждающихся. Но с каждым халифом всё больший процент отправлялся в общественную казну. А Омейяды, придя к власти, начали забирать в казну практически всю прибыль и оплачивать из нее государственные расходы, в том числе возведение роскошных дворцов, благоустройство городов и экстравагантные благотворительные проекты. Так прибыль от постоянной войны на границах позволила правительству Омейядов стать для народа благотворной силой: оно улучшало жизнь простых граждан, не обременяя их новыми налогами.
Прецедент для Омейядского порядка заложил еще халиф Усман, разрешавший мусульманам тратить деньги, как вздумается, если только они соблюдают ограничения, наложенные исламом. Основываясь на законах Усмана, Омейяды ссужали мусульманам деньги из казны и позволяли приобретать землю на завоеванных территориях. Разумеется, чтобы получить такой заем, нужно было иметь серьезные связи – куда более серьезные, чем во времена Усмана; а поскольку ислам запрещает ростовщичество, займы были беспроцентными, то есть очень выгодными.
Умар приказывал, чтобы арабские воины-мусульмане на новых территориях жили в гарнизонах, не смешиваясь с местными жителями – отчасти для того, чтобы избежать неизбежных столкновений и недовольства местных, отчасти для того, чтобы мусульман не соблазняли языческие удовольствия, отчасти для того, чтобы мусульманское меньшинство не растворилось в местном большинстве. Во времена Омейядов эти гарнизоны превратились в укрепленные арабские города, где обитала новая аристократия, владеющая огромными земельными угодьями в окрестностях.
Однако исламское общество ничем не напоминало феодальную Европу, где поместья, как правило, были самостоятельными экономическими единицами и находились на самообеспечении. Омейядская империя гудела от торговцев и ремесленников; все уголки ее связывали воедино сложные торговые пути. Богатство, которое источали огромные поместья, не оседало в них: его вкладывали в товары, которые отправлялись в самые дальние страны, а взамен им оттуда приходили другие товары. В городах-гарнизонах постепенно смягчался режим, они превращались в точки торговли и коммерции. Весь исламский мир был испещрен процветающими городами. Это было городское общество.
Сам Муавия, хоть благочестивые мусульмане и клеймили его за моральное несходство с Праведными Халифами, показал себя успешным управленцем и в политике, и в экономике. Безжалостный, но умеющий быть обаятельным, он привлек на свою сторону мятежных арабских вождей – в основном убеждением, но, когда требовалось, не чурался подавлять мятежи и восстанавливать закон и порядок и силой. Действовал в своих личных интересах – но и в интересах общества, жизнь в котором становилась все более цивилизованной.
Взглянем, например, как использовалось сочетание кнута и пряника в предостережении жителям Басры, которое выпустил сводный брат Муавии Зияд, назначенный губернатором Басры: «На первое место вы поставили родство, а религию – лишь на второе; вы извиняете и прячете своих грешников, нарушая законы, установленные исламом ради вашей защиты. Смотрите за тем, чтобы не оказываться на улицах после наступления темноты. Я буду убивать каждого, кто крадется в ночи. Не пытайтесь взывать о помощи к родным: я отрежу язык каждому, кто издает подобный зов… Я правлю всемогуществом Божьим и одаряю вас богатством от Бога. Я требую от вас повиновения – вы требуете от меня праведности… В трех вещах я не согрешу: всегда буду готов выслушать любого из вас. Буду пунктуально выплачивать вам ваши пенсии. Не стану отсылать вас в поле слишком далеко или слишком надолго. Итак, не позволяйте гневу и ненависти против меня уносить вас слишком далеко: это повредит лишь вам самим. Я уже вижу, как катится множество голов. Пусть же каждый из вас сам позаботится о том, чтобы голова осталась у него на плечах!»[19]

Империя Омейядов
Омейяды, сами люди вполне светские и далеко не праведники, пестовали религиозные институты ислама. Они поддерживали ученых и религиозных мыслителей, строили мечети, вводили законы, поощряющие исламский образ жизни.
При Омейядах мусульманский мир наполнила не только арабская деловая энергия, но и социальные идеалы, внушенные исламом. «Новые богачи» делали огромные пожертвования в религиозные благотворительные фонды, так называемые вакфы. Делали они это и под давлением общества, и из религиозных побуждений: любой из нас хочет, чтобы в обществе его ценили, и богатый человек мог добиться всеобщего уважения, покровительствуя вакфу.
Теоретически основатель вакфа не мог его закрыть. Едва возникнув, вакф становился самоуправляемым и получал независимость. По мусульманским законам с вакфов не взимались налоги. Вакфы принимали пожертвования у богатых и раздавали бедным, строили мечети и управляли ими, организовывали школы, больницы, сиротские приюты, и в целом давали высшим классам возможность, даже купаясь в богатстве, удовлетворять свои религиозные и благотворительные потребности и чувствовать себя достойными людьми.
Разумеется, вакфом кто-то должен был руководить. Кому-то приходилось вести дела, устанавливать правила, управлять денежными потоками; и это не мог быть любой человек с улицы. Чтобы вакф заслуживал доверия, работать в нем должны были люди, известные своим благочестием и религиозной ученостью. Чем более прославлены они были своей религиозностью, тем престижнее становился вакф, тем больше уважения получал он от попечителей и спонсоров.
Поскольку в распоряжении вакфов со временем оказывались крупные земельные владения, здания, огромные денежные средства, управление вакфом предлагало в мусульманском обществе карьерную лестницу (хотя многие вакфы стали просто уловкой, с помощью которой богатые семьи защищали свое богатство от налогов). Приобретя репутацию благочестивого и ученого человека, можно было надеяться занять видное положение в вакфе: это давало если не богатство, то, по крайней мере, статус. А чтобы стать известным религиозным ученым, вовсе не обязательно происходить из богатой семьи. Достаточно иметь мозги и желание учиться и следовать исламу.
С другой стороны, для этого необходимо было знать арабский – священный язык. Для мусульман сам Коран, написанный по-арабски, являет присутствие Бога в мире; но переводы Корана – не Коран. Кроме того, по-арабски писались все научные труды. И, разумеется, необходимо было быть мусульманином. Более того: вскоре Омейяды объявили арабский официальным государственным языком, заменив им персидский на востоке, греческий на западе и различные местные языки в других местах. Так времена Омейядов стали периодом арабизации и исламизации мусульманских территорий.
Говоря об исламизации, я имею в виду, что всё больше людей на растущей территории халифата оставляли свои прежние религии – зороастризм, христианство, язычество и так далее – и обращались в ислам. Некоторые, без сомнения, делали это, чтобы избавиться от налога на немусульман; но это точно была не единственная причина – ведь, став мусульманами, эти люди вместо прежних поборов начинали платить новые, мусульманские налоги на благотворительность.
Некоторые, быть может, обращались в надежде на карьерные возможности; но и эта причина не объясняет всего, поскольку обращение открывало только возможности религиозной карьеры. Необращенные по-прежнему могли владеть землей, лавками или мастерскими, торговать, заниматься коммерцией. Могли и работать на правительство, если обладали соответствующими знаниями и умениями. Мусульманская элита, не обинуясь, принимала каждого по способностям. Знаешь медицину – можешь стать врачом, умеешь строить дома – можешь стать архитектором. В исламской империи можно было стать богатым и знаменитым, даже если ты христианин, иудей (т. е. представитель «авраамических» религий) или даже зороастриец – последователь веры, еще более далекой от ислама.
Мне думается, большинство людей в мире, покоренном мусульманами, обращались в ислам, потому что для них он был похож на Истину. Никакая другая сила или движение в Срединном мире того времени не обладали такой мускулистой самоуверенностью, такой аурой непобедимости и успеха. Умма выглядела так, что к ней хотелось присоединиться.
А присоединиться никто не мешал. Это было очень легко! Достаточно произнести слова: «Ла илаха илла Ллаху ва Мухаммадун расулу Ллахи» – «Нет бога, кроме Бога, и Мухаммед – Посланник Его». Вот и всё, что нужно, чтобы войти в клуб победителей!
Однако суть этой новой веры была куда глубже, чем кажется с первого взгляда.
«Нет бога, кроме Бога» – фраза, породившая бесчисленные тысячи томов комментариев; и все же значение так и остается до конца не ясным.
«И Мухаммед – Посланник Его!» – произнося эти слова, ты подписываешься под всем, что предписал Мухаммед, Посланник Божий. Обязуешься молиться пять раз в день, избегать свинины, поститься в Рамадан, отказаться от спиртных напитков – и еще многое, многое другое.


