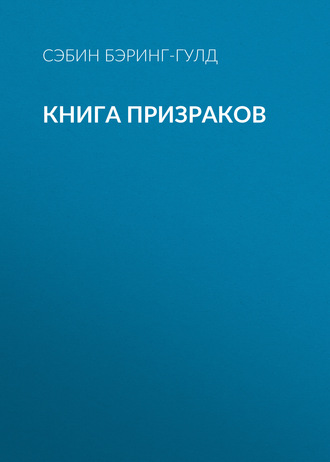
Сэйбин Бэринг-Гулд
Книга Призраков
Прошло несколько дней.
Мистер Лоулер неоднократно присылал справиться о ее здоровье, но прошла неделя, прежде чем Джулия достаточно поправилась для того, чтобы принять его; он держался вежливо, выразил сочувствие, а разговор касался ее здоровья и некоторых нейтральных тем.
Прошло еще несколько дней, и он повел себя иначе. Она была одна на веранде, почти восстановившись, когда было объявлено о приходе мистера Лоулера.
Физически она чувствовала себя прежней, или, по крайней мере, так считала, но психологически еще не отошла от полученного шока. Она решила для себя, что порывы ледяного ветра и ужасный звук выстрела каким-то таинственным образом были связаны с молодым Хаттерсли.
Ее это возмущало, а возможное повторение приводило в ужас; но она не чувствовала угрызений совести за свое обращение с несчастным молодым человеком, и, можно сказать, испытывала по отношению к нему глубочайшее негодование. Если уж он умер, то почему бы ему не успокоиться и не перестать докучать ей?
Мученичество не прельщало ее, не вызывало сочувствия, оно было ей неинтересно.
До сих пор она полагала, что смерть человека означает конец его земного существования; после чего он не способен нести ни зло, ни добро. Но то, что бесплотный дух может не найти упокоения и чинить неприятности, в частности ей, никогда не приходило ей в голову.
– Джулия, если мне будет позволено называть вас именно так, – начал мистер Лоулер, – я принес вам букет цветов. Примете ли вы его?
– Ах! – сказала она, принимая букет. – Как вы любезны! В это время года они настолько редки, а садовник так скуп, что жалеет для моей комнаты даже несколько стебельков герани. Наверное, вы потратили на него уйму денег?
– Совершенный пустяк, если это доставляет вам удовольствие.
– Я вам очень благодарна. Я ужасно люблю цветы.
– Угождать вам, – сказал мистер Лоулер, – это цель всей моей жизни. Если бы я мог надеяться на счастье, – если бы мне было позволено на него надеяться, – я бы воспользовался представившейся мне возможностью, сейчас, когда мы наедине…
Он приблизился и взял ее за руку. Он был взволнован, его взгляд искренен, губы дрожали.
В то же мгновение холодный ветер закружил вокруг Джулии, принялся трепать ее волосы. Она вздрогнула и отступила. Прошедшее снова возвратилось. Она отвернулась, смертельно бледная, и закрыла правое ухо ладонью.
– О, Джеймс! Джеймс! – воскликнула она. – Умоляю вас, не говорите то, что собираетесь, иначе я опять упаду в обморок. Он рядом. Он не позволит мне услышать. Напишите мне, и я вам отвечу. Сжальтесь надо мною, не говорите ни слова.
Она опустилась на скамью, и в этот момент на веранду вошла ее тетка.
На следующий день Джулия получила письмо, в котором содержалось формальное предложение от достопочтенного Джеймса Лоулера; Джулия ответила согласием, и оно вновь было отнесено на почту.
Никаких причин откладывать венчание не было; единственное, что обсуждалось – должна ли свадьба состояться до поста или после Пасхи. Наконец, было решено назначить ее перед началом Великого Поста. Чтобы приготовить все необходимое, времени оставалось не много. Мисс Флеминг часто ездила в город вместе с племянницей, подбирая приданое, пока, наконец, все не было закуплено.
Обычно, после обручения, у молодых людей есть некоторое время для встреч, чтобы они побольше виделись, узнавали друг друга, строили воздушные замки и предавались тем невинным утехам любви, которые называются «ухаживание». Но в данном случае, ухаживаниями пришлось пожертвовать.
Поначалу, оставаясь с Джеймсом наедине, Джулия нервничала. Она опасалась повторения тех явлений, которые таким ужасным образом влияли на нее. Но хотя каждый раз появлялся ветер, который кружил вокруг нее, он не причинял ей вреда, не укутывал холодом; так что она стала считать его результатом разыгравшегося воображения. Кроме того, она больше ни разу не слышала звука выстрела, и наивно полагала, что после вступления в брак странные явления окончательно исчезнут.
Сердце ее было переполнено ликованием. Она бросает вызов Джеймсу Хаттерсли и сводит на нет его пророчество. Она не любила мистера Лоулера, она относилась к нему в своей обычной холодной манере, но вовсе не была нечувствительной к тем социальным преимуществам, которые полагались ей после того, как она станет достопочтенной миссис Лоулер.
Наконец, наступил день свадьбы. Все шло прекрасно.
– Счастливую невесту озаряют солнечные лучи, – весело сказала мисс Флеминг, – прекрасное предзнаменование чистой, ничем не замутненной, предстоящей тебе в скором времени семейной жизни.
В церкви собрался весь город. У мисс Флеминг было много друзей. Гостей со стороны мистера Лоулера было меньше – он жил в отдаленной части округа. Перед входом в церковь лежала красная дорожка, внутри ее украсили цветами, а хор пел The voice that breathed o'er Eden.
Возле алтаря стоял священник, две подушечки лежали на ступенях алтаря. Священник был помощником дяди жениха, имевшего духовный сан; будучи старомодным, он надел бледно-серые лайковые перчатки.
Первым прибыл жених со своим шафером, и стоял, нервно переминаясь с ноги на ногу, смотря то в одну, то в другую сторону.
Затем в церковь вошла невеста, сопровождаемая горничными, под звуки «Свадебного марша» из Лоэнгрина, исполняемого на стареньком органе. Джулия и ее жених заняли свои места на ступенях возле алтаря согласно первой части церемонии, оба священника встали рядом с ними.
– По доброй воле берешь ты эту женщину себе в жены?
– Да.
– По доброй воле берешь ты этого мужчину себе в мужья?
– Да.
– Я, Джеймс, беру тебя, Джулия, в законные жены, чтобы всегда быть вместе… – И так далее.
Пока произносились эти слова, вокруг их скрещенных ладоней возник порыв холодного ветра и они онемели; а ледяной воздух принялся кружиться вокруг невесты, приподнимая ее фату. Она стиснула губы и нахмурилась. Еще несколько минут, и все кончится. Навсегда.
Когда пришла ее очередь говорить, она начала твердым голосом: «Я, Джулия, беру тебя, Джеймс…», но после первых произнесенных слов ветер стал совсем ледяным, он бушевал вокруг нее, приподнимал фату и жег морозом лицо; ей стало трудно говорить, дышать, ее горло словно забилось льдом. Но она продолжала произносить слова брачного обета.
Джеймс Лоулер взял кольцо и собирался было надеть его ей на палец со словами: «Я надеваю тебе это кольцо, потому что теперь ты моя жена…», когда возле ее уха раздался взрыв, казалось, раздробивший ей череп, и она без сознания опустилась возле алтаря.
Возникло замешательство, ее подняли и перенесли в ризницу; Джеймс Лоулер шел за ней, бледный, трепещущий. Он сунул кольцо обратно в карман жилета. Присутствовавший на церемонии доктор Крейт поспешил предложил свои услуги.

В ризнице Джулию поместили в гластонберийское кресло, бледную, со сложенными на коленях руками. Удивлению присутствующих не было предела, когда они заметили на среднем пальце левой руки свинцовое кольцо, грубое и твердое, как будто отлитое из пули. Не смотря на примочки, прошло не менее четверти часа, прежде чем Джулия открыла глаза, а на губах и щеках появился слабый румянец. Но как только она подняла руки ко лбу, чтобы утереть капли холодного пота, взгляд ее остановился на свинцовом кольце; она жутко вскрикнула и снова потеряла сознание.
Собравшиеся на церемонию медленно покидали церковь, несколько придавленные случившимся, задавая друг другу вопросы и не получая на них ответы, строя всевозможные, далекие от действительности, догадки.
– Боюсь, мистер Лоулер, – сказал священник, – что сегодня невозможно будет продолжить церемонию; она должна быть отложена до того времени, когда мисс Демант окажется в состоянии принести свою часть клятвы и подписать свидетельство. Не думаю, что она сможет сделать это сегодня. Она слишком слаба.
Карета, которая должна была доставить счастливую пару в дом мисс Флеминг, а затем на станцию, откуда молодые собирались отправиться в свадебное путешествие, запряженная лошадьми, украшенными белыми розетками, и кучером на козлах, с большим белым бантом, привезла Джулию, едва дышащую, и ее тетку, домой.
Ушли те, кто должен быть осыпать чету рисом по выходе из церкви. Спустились с колокольни звонари, так и не огласившие округу радостным колокольным звоном.
Торжественный прием у мисс Флеминг был отложен. Никому и в голову не пришло посетить ее после случившегося. Торты, мороженое, были отнесены на кухню.
Жених, пребывая в недоумении, сходя с ума, метался, не зная, что ему делать, что сказать.
Два часа Джулия лежала совершенно неподвижно; а когда пришла в себя, то еще некоторое время не могла произнести ни слова. Будучи в сознании, подняла левую руку, взглянула на свинцовое кольцо и снова погрузилась в небытие.
Лишь к вечеру она оправилась настолько, что смогла заговорить; прежде всего она попросила тетку, не отходившую от ее постели, чтобы она отослала горничных, поскольку хотела переговорить с ней наедине. Когда комната опустела, она тихим голосом произнесла:
– Ах, тетя Элизабет! Ах, тетя, случилась ужасная вещь. Я никогда не смогу выйти замуж за мистера Лоулера, никогда. Я стала женой Джеймса Хаттерсли; я жена самоубийцы. В то время, когда Джеймс Лоулер произносил слова клятвы, я услышала страшный, неземной голос, повторявший те же самые слова. И когда я сказала: «Я, Джулия, беру вас, Джеймс, себе в мужья», – вам ведь известно, что мистера Хаттерсли звали так же, как и мистера Лоулера, – то мои слова, относившиеся к одному, относились как бы к другому. А потом, когда он собирался надеть мне на палец золотое кольцо, в голове у меня прозвучал выстрел, как прежде, – и на моем пальце оказалось другое кольцо, свинцовое. В дальнейшем сопротивлении нет смысла. Я жена мертвого, я не могу выйти замуж за Джеймса Лоулера.
Несколько лет прошло с того ужасного дня несостоявшейся свадьбы.
Мисс Демант так и осталась мисс Демант; ей так и не удалось снять со среднего пальца левой руки свинцовое кольцо. Каждый раз, когда предпринималась попытка стащить его, или разрезать, в голове у нее раздавался страшный звук выстрела, и она теряла сознание. Состояние, которое следовало за этим, было настольно ужасным, что она в конце концов отказалась от бесплодных попыток с ним расстаться.
Она теперь постоянно носит перчатку на левой руке, выдающуюся над тем местом, где средний палец левой руки обхвачен свинцовым кольцом.
Она так и не познала, что такое счастье, хотя ее тетя умерла и оставила ей богатое наследство в виде недвижимости. У нее очень мало знакомых. У нее совсем нет друзей, она обладает скверным характером, а речи ее полны горечи. Она пребывает в уверенности, что весь мир ополчился против нее.
Она ненавидит Джеймса Хаттерсли. Если бы какое-нибудь заклинание могло усмирить его дух, если бы какая-нибудь молитва могла успокоить его, она все равно не прибегла бы к такому средству – это принесло бы ей облегчение, но не утолило бы ее ненависти. А кроме того, она винит Провидение в том, что мертвые могут не только появляться среди живых, но и вмешиваться в их жизнь.
5. Матушка Анютины глазки
Анна Восс, из Зибенштейна, была самой красивой девушкой своей деревни. Она не пропускала ярмарки и деревенские увеселения. Никто никогда не видел ее хмурой. Если и бывали у нее приступы плохого настроения, то она тщательно скрывала это от матери и домашних. Голос ее был подобен голосу жаворонка, а улыбка приветлива, как майское утро. У нее была масса ухажеров, но она вбила себе в голову, что для молодых сельских жителей в жене главное не красота, а размер приданого.
Из молодых людей, добивавшихся ее благосклонности и руки, никому не суждено было добиться успеха, кроме Иосифа Арлера, смотрителя, человека на службе правительства, в чьи обязанности входила охрана границы от контрабандистов и поимка браконьеров.
В скором времени долженствовало случиться заключению брака.
Только одна вещь смущала любившую веселое времяпрепровождение Анну. Ее пугала мысль стать матерью большого семейства, которое привяжет ее к дому каждодневными хлопотами с утра до позднего вечера о детях, лишит возможности сладко спать по ночам.
Поэтому она отправилась к старухе, которую звали Шандельвайн, почитавшейся за ведьму, и поделилась с ней своими размышлениями. Старая женщина сказала ей, что, прежде чем Анне придти, она смотрела в зеркало судьбы, и Провидение открыло ей, что у той будет семь детей – три девочки и четыре мальчика, и что одному из последних суждено стать священником.
Однако матушка Шандельвайн обладала большой силой, настолько большой, что могла противостоять Провидению; она дала Анне семь зернышек, очень похожих на зернышки яблока, которые поместила в бумажные рожки; она велела ей бросить эти рожки по одному в мельничный ручей так, чтобы каждый из них попал под мельничное колесо; это изменит будущее, поскольку в зернышках заключены души детей.
Анна вложила деньги в руку матушки Шандельвайн и ушла, а когда сгустились сумерки, отправилась на деревянный мостик, перекинутый через ручей, чья вода крутила мельничное колесо, и бросила рожки в воду, один за одним. И когда рожок достигал поверхности воды, ей слышался вздох.
Но, когда в руке у нее остался последний, она почувствовала внезапный страх и сомнение.
Тем не менее, она разжала ладонь; но затем, не в силах выдержать нахлынувшего безграничного раскаяния, бросилась вниз, чтобы схватить его, погрузилась в воду и закричала.
Вода была черной, рожок – совсем маленьким, она не могла его разглядеть, а течение быстро несло ее под колесо, и, если бы не заметивший ее мельник, она бы неминуемо погибла.
На следующее же утро, полностью оправившись от происшедшего, она, смеясь, рассказывала подружкам, что в темноте, переходя по мостику, поскользнулась, упала в ручей и чуть было не утонула.
– А если бы я утонула, – добавляла она, – что бы стал делать мой дорогой Иосиф?
У Анны не было причин жаловаться на семейную жизнь. Иосиф оказался добрым, мягким, простым человеком. Вместе с тем, имелось нечто, ее не вполне устраивавшее: иногда Иосиф был вынужден проводить несколько дней и ночей подряд вне дома, а Анна тяготилась одиночеством. Конечно, он мог бы рассчитывать на большее внимание с ее стороны. После нескольких дней блуждания по горам он мог бы ожидать, по крайней мере, хороший горячий ужин. Но Анна нисколько об этом не заботилась, выставляя на стол все, что попадалось под руку. Здоровый аппетит лучше всяких соусов, говорила она.
Кроме того, его работа, связанная с постоянным карабканьем по камням, продиранием сквозь подлесок ежевики и терна, приводила к тому, что его одежда и обувь быстро приходили в негодность. Вместо того, чтобы пошутить по этому поводу, Анна ворчала над каждой штопкой, и предпочитала поручить эту работу кому-нибудь другому. Сама она ее выполняла лишь в крайних, весьма спешных случаях, после чего с хмурым видом не переставала брюзжать, – причем делала она все так плохо, что он был вынужден снова отдавать одежду в починку какой-нибудь наемной работнице.
Но Иосиф по характеру был настолько покладист, и так любил свою красавицу-жену, что закрывал глаза на все ее недостатки, а на ее брюзжание отвечал тем, что запечатывал ее губы поцелуем.
Только одно в Иосифе не устраивало Анну, а именно: всякий раз, возвращаясь в деревню, он был окружен ребятишками. Стоило ему только показаться на окраине, – даже взрослые еще ничего не знали о его возвращении, – как малыши бросали все свои забавы и, к ужасу нянек и гувернанток, бежали к нему и прыгали и суетились вокруг него. У Иосифа в карманах всегда находились орехи, миндаль или конфеты, и он щедро одаривал ими ребятишек, иногда просто раскладывая их в протянутые ладошки, а иногда подбрасывая в воздух с криком: «Лови!»
Среди детишек был один мальчик, которого Иосиф отличал: хромой, с бледным, болезненным лицом, ковылявший на костылях.
Он уводил его за деревню или на кладбище, сажал к себе на колени и рассказывал разные истории о своих приключениях или о животных, обитающих в лесу.
Иногда Анна видела из окна, как он, принеся ребенка в деревню, бережно опускает его вниз, а тот обвивает свои руки вокруг его шеи и целует его.
Затем Иосиф возвращался домой, пружинящим шагом, с озаренным радостью лицом. Анну возмущало, что по возвращении он сначала дарит свое внимание детям, причем считает это за должное, и часто встречала мужа холодно, по причине неудовольствия. Она не обрушивала на него поток язвительных слов, но она не спешила ему навстречу, не бросалась в объятия, сдержанно реагировала на его поцелуи.
Однажды он обратился к ней с мягким увещеванием.
– Аннушка, а почему бы тебе не заняться вязанием носок или чулок? Ведь это обычная домашняя работа. Жаль тратить деньги на покупку этих вещей, в то время как сделанные тобой, они будут согревать не только мои ноги, но и греть мое сердце.
И услышал в ответ раздраженное:
– Это ты подаешь дурной пример, тратя деньги на сладости для зловредных деревенских ребятишек.
Как-то вечером Анна услышала необычный шум на площади, крики и смех, не только детские, но и взрослых, а в следующее мгновение в дом ворвался Иосиф, раскрасневшийся, несущий на голове детскую колыбель.
– Это еще что такое? – побагровев, спросила Анна.
– Аннушка, дорогая, – отвечал Иосиф, ставя колыбель на пол. – Существует поверье, будто женщина, качающая пустую колыбель, очень скоро будет качать в ней ребенка. Поэтому я купил ее и принес тебе. Вправо-влево, вправо-влево, глядишь, скоро на глазах у меня появятся слезы радости, когда я увижу в ней распускающийся розовый бутон посреди белоснежного белья.
Никогда прежде Анна не думала, какая скучная и мертвая жизнь может протекать в пустом доме. Когда она жила с матерью, та поручала исполнять ей большую часть домашней работы; сейчас такой работы было не много, и не было никого, кто мог бы ее заставить ее исполнять.
Если же Анна навещала соседок, то у них не оказывалось времени для разговоров. В течение дня они прибирались, пекли, варили, а вечером занимались мужьями и детьми, так что присутствие соседки оказывалось нежелательным.
Дни тянулись похожие один на другой, а у Анны не было ни энергии, ни желания заставить себя трудиться более, чем это необходимо. И потому нельзя сказать, чтобы дом у нее содержался в образцовом порядке. Стеклянная и оловянная посуда не сверкали чистотой. Оконные стекла были тусклыми. На домашнем белье и одежде кое-где виднелись дырки.
Как-то вечером Иосиф в задумчивости сидел, глядя на алые угли в очаге, и молчал, что было для него совсем не характерно.
Анна собиралась обидеться, как вдруг он обернулся к ней с приветливой улыбкой и сказал:
– Извини, Аннушка, я задумался. Только одно может сделать наш дом счастливым – ребенок. Поскольку Господь не дал нам этого счастья, я предлагаю нам обоим отправиться в паломничество в Мариахильф и попросить о нем.
– Отправляйся один, я не хочу детей, – отрезала Анна.
Через несколько дней после этого разговора, как гром среди ясного неба, на Анну обрушилось великое несчастье – смерть мужа.
Иосиф был найден мертвым в горах. Пуля пробила ему сердце. Его привезли четверо коллег-егерей, на носилках из переплетенных еловых ветвей, и внесли в дом. По всей вероятности, он встретил свою смерть от руки контрабандистов.
С криком ужаса и горя, Анна бросилась к телу Иосифа, целовала его бледные губы. Только теперь она поняла, насколько он был ей дорог, как сильно она его любила – только после того, как потеряла.
Иосиф лежал в гробу, подготовленный к завтрашнему погребению. В головах у него, на столике, покрытом белой скатертью, стояло распятие и две зажженные свечи. На скамеечке у его ног была чаша со святой водой и веточкой руты.
Соседи предлагали Анне провести рядом с нею ночь, но она молча, решительным жестом, отвергла предложение. Она хотела провести последнюю ночь рядом с ним одна, наедине со своими мыслями.
О чем она думала?
Она вспоминала, как равнодушно относилась к его желаниям, как невнимательна была к его просьбам; как мало ценила его любовь, жизнерадостность, доброту, терпение, ровный характер.
Она вспоминала свою холодность, резкие слова, жесты, вспышки беспричинной раздражительности. Она вспоминала, как Иосиф раздавал детям орехи, как почтительно общался со стариками, как давал советы плохо знавшей жизнь молодежи. Она вспоминала маленькие, милые подарки, которые он привозил ей с ярмарки, ласковые слова, как он старался придать ей бодрости своими историями и незамысловатыми шутками. Она слышала его голос, весело повествующий о приключениях в горах, о погонях за контрабандистами.
Она сидела и молчала в слабом свете пары свечей, онемев от горя, и черная тень гроба лежала у ее ног, когда снаружи раздался слабый шум; кто-то робко открыл дверь, – и в дом вошел мальчик на костылях. Он робко посмотрел на нее, – она не пошевелилась, – после чего проковылял к гробу, заплакал, наклонился и поцеловал своего мертвого друга в лоб.
Опираясь на костыли, он взял четки и прочитал заупокойную молитву; затем, неловко перемещаясь, взял веточку руты и окропил мертвое тело святой водой.
После чего с трудом направился к двери, остановился, обернулся, еще раз взглянул на умершего, приложил ладонь к губам и помахал рукой, прощаясь.
Анна взяла четки и попыталась произнести слова молитвы, но ей это не удалось; она не могла вспомнить ни одной, ей препятствовали бессвязные, горькие мысли. Четки вместе с ладонями упали на колени, затем выскользнули на пол. Сколько прошло времени, она не знала, но это ее совершенно не заботило. Часы тикали – она не слышала их; часы звонили – она не слышала их звона; лишь когда кукушка возвестила о наступлении полуночи, она каким-то чудом осознала это.
Ее глаза закрылись. А когда она снова открыла их, все вокруг неожиданным образом изменилось.
Гроба больше не было, вместо него стояла колыбель, которую Иосиф принес в дом несколько лет назад, и которую она затем расщепила на дрова. Теперь в этой колыбели лежал спящий младенец, она убаюкивала его, покачивая колыбель ногами, и чувствовала при этом странное умиротворение.
Она не была удивлена, сердце ее наполняла странная, огромная радость. Вскоре она услышала слабое попискивание и увидела шевеление в колыбели; маленькие ручки двигались в воздухе, словно пытаясь ухватить что-то невидимое. Она наклонилась, взяла ребенка, положила его к себе на колени; сердце ее затрепетало. О, какое милое, крошечное существо! Как сладко слышать его плач! Она прижала его к себе, теплые ручки коснулись ее горла, маленькие губы принялись тыкаться в грудь. Перед ней открылся новый мир, мир любви и света, красоты и невыразимого счастья. Ах – дитя – дитя – дитя! Она смеялась и плакала, плакала и смеялась, она рыдала от переполнявшего ее счастья. Ее сердце наполнилось теплом, она ощутила покалывание в теле. И гордость! Это ее! Ее собственный! Собственный! Она была готова провести так вечность, с этим малюткой, прижатым к ее сердцу.
А затем… затем вдруг все пропало, ребенок исчез, словно растворился; слезы застыли у нее в глазах, сердце разрывалось, и тогда где-то внутри себя она услышала голос: «Нет, этого не будет. Ты отринула его, бросив под мельничное колесо».
Невыносимый ужас охватил ее, она отчаянно закричала, вскочила, пытаясь схватить ускользнувшего ребенка, – и ловила пустоту. Она огляделась. Свет свечей отбрасывал блики на мертвое лицо Иосифа. Тик-так, мерно отбивали часы.
Она не могла здесь оставаться. Открыла дверь, перешла в другую комнату и бросилась в кресло. Ночь… ночи больше не было. Солнце, огромное, красное вечернее солнце светило в окно, на подоконнике стояли горшки с гвоздикой и резедой, наполняя воздух ароматами.
Напротив нее стояла маленькая девочка с блестящими светлыми волосами, и вечернее солнце делало ее похожей на ангела. Ребенок поднял на нее свои большие, голубые, чистые, невинные глаза и спросил:
– Мама, мне обязательно нужно прочитать катехизис и молитву, прежде чем идти спать?
И Анна произнесла ей в ответ:
– О, моя дорогая! Моя дорогая малютка! Весь катехизис – это: любите Бога, бойтесь Бога, и всегда делайте то, что вам предписано Богом. Исполняйте Его волю, и не стремитесь к легкой жизни и удовольствиям. И тогда вам будет дарован мир и счастье.
Маленькая девочка встала на колени, положила голову с золотыми волосами на руки Анны, сложенные на коленях, и начала:
– Бог да благословит моих дорогих отца, и мать, и всех моих братьев и сестер…
Острый нож пронзил сердце Анны, и она расплакалась.
– Нет у тебя ни отца, ни матери, нет братьев и нет сестер, ибо и самой тебя нет, и у меня никогда не будет такой, как ты. Я отреклась от тебя, бросив под мельничное колесо.
Прокуковала кукушка. Ребенок исчез. Дверь распахнулась, на пороге стояла молодая пара – юноша со светлыми волосами и усиками над верхней губой, а лицо – точь-в-точь Иосиф в молодости. Он держал за руку девушку, в черном лифе с белыми рукавами, скромно опустившую взор. Анна сразу поняла, кто это. Это был ее сын Флориан, он пришел сообщить о своей помолвке и просить у матери благословения.
Молодой человек приблизился, ведя девушку за руку, и сказал:
– Мама, милая мама, это Сьюзи, дочь пекаря, и вашей старой доброй подруги Врони. Мы любим друг друга; мы любили друг друга, еще когда вместе учились в школе, когда делали уроки по одной книге, сидя рядом на одной скамейке. Мама, пекарня перейдет ко мне и Сьюзи, и я буду печь хлеб для всей округи. Иисус накормил свой народ, передавая ему хлеб через Своих апостолов. Я буду Его представителем здесь, и буду кормить Его народ здесь. Мама, дай нам свое благословение.
Затем Флориан и девушка встали перед Анной на колени, и она, со слезами счастья на глазах, простерла над ними свои руки. Но прежде, чем успела коснуться их, все исчезло. Она опять была в темной комнате, и тот же голос внутри нее произнес:
– Флориана нет. Он мог бы быть, но ты отвергла его. Ты отринула его, бросив под мельничное колесо.
В ужасе, Анна вскочила с кресла. Она не могла оставаться в комнате, ей нечем было дышать, ее голова разрывалась на части. Она бросилась к задней двери, выходившей на огород, где росли картошка и капуста, – предмет забот Иосифа, когда он возвращался после погони за контрабандистами по горам.
Но вместо огорода перед ней предстала странная сцена. Поле брани. Воздух был полон дыма, пахло порохом. Гром пушки, выстрелы из ружей, стоны раненых, победные крики – все это слилось в единый несмолкаемый гул.
Она стояла, тяжело дыша, прижав руки к груди, глядя удивленными глазами, когда мимо нее прошел батальон солдат; по их форме она узнала баварцев. Один из них, оказавшись неподалеку, повернул к ней лицо; это было лицо Арлера, горевшее воодушевлением боя, и она знала, кто это; это был ее сын Фриц.
На них обрушилось облако картечи, многие упали, и среди них тот, кто нес знамя. Мгновение, и Фриц выхватил его из мертвой руки, поднял над головой и вскричал:
– Братья, вперед, сомкнуть ряды! Вперед, и победа будет за нами!
Оставшиеся в живых сомкнулись вокруг него, и бросились вперед, вперед, вперед. Раздался орудийный залп, поле боя перед ней заволокло дымом, и она не могла видеть, что происходит.
Она ждала, дрожа всем телом, еле дыша, надеясь и отчаиваясь. А когда дым рассеялся, она увидела, как падает человек с флагом в руках. Его принесли и положили к ногам Анны. Она увидела Фрица. Упала на колени, сорвала с шеи платок и попыталась остановить кровь, хлеставшую из пробитой груди. Он посмотрел ей в глаза, с бесконечной любовью, и произнес прерывающимся голосом:
– Матушка, не плачьте обо мне; мы взяли редут штурмом, победа наша. Мужайтесь. Они бегут, бегут, эти негодяи-французы! Матушка, помните обо мне, – я погиб, защищая родину.
И его боевой товарищ, стоявший рядом, сказал:
– Не плачьте, Анна Арлер, не поддавайтесь горю; ибо сын ваш пал смертью героя.
Она склонилась к умирающему и увидела синь смерти в его глазах, губы его шевелились. Она приникла к ним и услышала:
– Я не могу погибнуть, потому что не рожден. Фрица не было. Он брошен в ручей и унесен под мельничное колесо.
Все исчезло: запах пороха, гром пушек, клубы дыма, звуки битвы; наступила тишина. Анна, на подкашивающихся ногах, повернулась, чтобы вернуться в дом, и, как только открыла дверь, услышала, как кукушка прокуковала два раза.
Войдя, она увидела, что оказалась не в своей комнате, и не в своем доме, – в каком-то другом; кроме того, здесь не было пустынно, здесь собрались люди, происходило какое-то семейное действо.
Женщина, мать семейства, умирала. Ее голова покоилась на груди мужа, он сидел на кровати и держал ее в своих объятиях.
У мужчины были седые волосы, его глаза – переполнены слезами, его взгляд, в котором читалась безграничная любовь, замер на лице той, кого он обнимал, которое он наклонялся и целовал, снова и снова.
У кровати собрались ее дети и ее внуки, совсем юные, глядя удивленными глазами на последние мгновения жизни той, кого они любили со всем пылом своих простых сердец. Одна малышка держала за руку свою куклу, а указательный палец другой руки засунула себе в рот. Ее глазки блестели, она плакала. Не понимала, что происходит, но плакала, потому что плакали все остальные.
Возле кровати умирающей на коленях стояла старшая дочь, читавшая отходную молитву, ее сыновья, еще одна дочь и невестка повторяли слова молитвы, дрожащими от горя голосами.
Когда чтение молитвы прекратилось, все замерли; глаза были направлены на умирающую. Ее губы шевельнулись, в такт последним словам, подобным искоркам огня, пылавшего в ее чистой, любящей душе.
– Боже, утешь и благослови моего мужа, не оставь Своим вниманием детей моих, и детей детей моих, чтобы они не сбились с пути, ведущего к Тебе, и чтобы в надлежащее время все смогли собраться снова в Твоем раю, и остаться вместе на веки. Аминь.
Сердце Анны сжалось. Эта женщина, с восторженным взглядом, направленным в будущее, величие души которой так ясно раскрылось в ее последние мгновения на груди мужа, была ее собственной дочерью Элизабет, в тонких чертах лица которой угадывались черты лица Иосифа.
Собравшиеся снова заплакали. Мужчина медленно встал с кровати, осторожно опустил голову женщины на подушку, закрыл своей ладонью ее глаза, все еще устремленные в небо, после чего нежным движением убрал волосы с ее лба. Затем, повернувшись к остальным, тихо произнес:
– Дети мои, Господу угодно было принять к Себе душу вашей дорогой матери и верной моей спутницы жизни. Да свершится Господня воля.
Рыдания раздались в полный голос, глаза Анны наполнились слезами, так что она больше ничего не могла видеть. Послышался звон церковного колокола, возвещавший о том, что еще одна душа присоединилась к Господу. И с каждым ударом, до Анны доходили слова:




