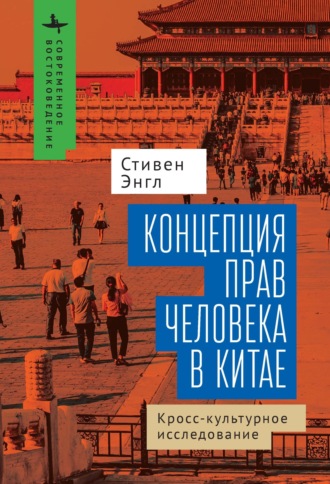
Стивен Энгл
Концепция прав человека в Китае. Кросс-культурное исследование
2.1.2. Стремление к холизму
Давайте рассмотрим диалог между Ван и Смитом. В их разговоре мы находим значительные области, где точки зрения собеседников пересекаются или состыкуются. Несмотря на неуверенность Ван по поводу того, что такое «права», по большей части у наших героев не возникает сложностей во взаимопонимании. Их комментарии представляются вполне отвечающими друг на друга. И все же между собеседниками проявляются существенные разногласия касательно дефиниции права. Вот некоторые из вопросов, которые поднимаются в ходе диалога:
[А] Является ли частью концепта прав предположение, что права есть блага?
[Б] Является ли частью концепта прав предположение, что эти блага легитимны?
[В] Представляется ли концепт прав логичным только вместе с сопутствующими им обязательствами?
[Г] Если да, то на кого возложены эти обязательства: на правообладателя или на иных лиц? Говорим ли мы здесь об одной и той же категории «обязательств»?
[Д] Могут ли возникать противоречия между различными правами? Если нет, то является ли частью концепта прав предположение, что права не могут противоречить друг другу? Или это условный факт, описывающий наш мир?
Чтобы ответить на вопросы подобного характера, мы должны понять, что именно подразумевается под «частью концепта прав». Нам нужно выяснить, используют ли Ван и Смит один и тот же концепт, дискутируя по поводу отдельных его характеристик, или они применяют различные концепты. В последнем случае мы можем прийти к выводу, что слово ‘права’ является ненадлежащим переводом слова цюаньли – несмотря на то, что оно наиболее точно передает смысл этого понятия.
Прежде чем мы продолжим, правильно будет рассмотреть контраргумент, который может возникнуть на этом этапе. Разве не очевидно, что наши герои говорили об одном и том же, но у них имеются политические разногласия? Почему мы должны поддаться соблазну и решить, что их расхождения связаны с несовпадением их родных языков, если мы все отлично понимаем, насколько сильно споры, подобные описанному выше, зависят от политических приоритетов и личных интересов? Наш оппонент в данном случае, вне всяких сомнений, будет иметь в виду реальный обмен мнениями, происходящий между представителями правительств КНР и США. Вот мой ответ. Подчеркну, что я не выступаю за некий лингвистический детерминизм – за то, что наши разнообразные жизненные ориентиры предопределяются нашими материнскими языками. Мы используем язык для достижения различных целей. Язык вплетается в наши занятия, занятия других людей и наш материальный мир бесчисленным множеством способов. Здесь нет элементов, которые «предопределяют» остальные. Все элементы оказывают друг на друга взаимное влияние. Язык – отличная призма, через которую мы можем обозревать наши намерения, но его нельзя рассматривать изолированно от остальных факторов. При интерпретации смысла мы можем апеллировать ко многим другим аспектам: действиям, властным структурам, сопоставимости уровня жизни и т. д. Вовсе не обязательно верить людям на слово, но и не стоит отвергать все, что говорят люди, исключительно из предположения, что нам уже известно, как устроен наш мир. В своих исследованиях я полагаюсь главным образом на язык, но стараюсь принимать во внимание изменчивые контексты, которые влияют на то, что могут подразумевать произносимые нами слова.
При этом я не буду обращать внимание на контекст беседы Ван и Смита, ведь это вымышленные персонажи. Я пока не ставлю перед собой задачу ответить на поставленные выше вопросы. Я хочу подумать о том, к чему может привести поиск ответов на вопросы такого характера. В качестве предварительного варианта можно сказать следующее: когда люди четко указывают, что входит, а что не входит в их представления, они фактически озвучивают нормы сообществ, к которым они принадлежат. Иными словами, когда Ван указывает, что позиция «права – это блага» является частью концепта права, она фактически говорит, что быть членом в ее сообществе по умолчанию означает принять как данность то, что «легитимные блага» являются частью прав (мы пока не будем останавливаться на том, какое сообщество – Пекинский университет, Китай, целый мир – подразумевает Ван). Если бы эта позиция не была частью концепта, то члены сообщества могли бы оставаться членами сообщества, не соглашаясь с этим конкретным аспектом.
В действительности мы редко демонстрируем четкость в обсуждении таких тем. Важно подчеркнуть, что роли, которые могут играть индивиды, разрешая такие вопросы, на поверку оказываются гораздо более запутанными, чем я описывал выше. Слова не единственные аспекты, которые влияют на принадлежность к определенному сообществу. Люди, которые по другим стандартам являются членами одного и того же сообщества, могут быть в явной или неявной форме не согласны друг с другом по поводу того, как им использовать свои слова. Мы поговорим об этих сложностях ниже. Вернемся же к Ван и Смиту, а также к теме их разговора.
Для того чтобы Ван осознать, разделяет ли Смит ее представления о правах, ей нужно ответить на вопросы, изложенные нами выше (а ведь это далеко не исчерпывающий список). Ей нужно оценить взаимосвязи между словами Смита и множеством других слов, и тогда она сможет понять, что подразумевает Смит, говоря: «У людей нет права на средства к существованию», а именно – какие концепты он выражает этими словами. Какие еще предложения Смит воспринимает как истинные? Какие умозаключения о правах он поддерживает? По всей видимости, Ван сможет полноценно интерпретировать смысл слов Смита только после того, как она подберет трактовку, которая будет работать для существенной части его словарного запаса.
Этот вывод привел многих философов к заключению, что концептуальное значение является холистическим: оно зависит от целой сети взаимосвязей между множеством концептов. Опуская тот момент, что мы пока еще не обозначили четко, что такое «холизм», мы уже можем начать видеть одну из существенных проблем, которые происходят из холистских теорий значения. Предположим, что значения концептов зависят от их отношений друг к другу. Иными словами, то, что я подразумеваю под словом «права», зависит от того, что я имею в виду под словами «обязанность», «интерес», «гармония» и т. д. В свою очередь, значение слова «обязанность» основывается на системе сопредельных концептов. Очевидно, что не потребуется много итераций, прежде чем мы столкнемся с тем, что внешне совершенно не соотносящиеся друг с другом идеи оказываются взаимосвязанными на смысловом уровне. В конце концов, это означает, что даже самые небольшие различия в значениях могут иметь далеко идущие последствия для всей сети концептов отдельного человека. Холистические теории, кажется, задают такую ситуацию, что если мое понимание «гармонии» отличается от вашего, то это по умолчанию указывает на наши различия также в концептах прав, интересов и прочего.
Для философов проблематичность такой логики мышления заключается в том, что большинство из них считает успешной такую коммуникацию, в ходе которой стороны чем-то делятся друг с другом. Когда я пытаюсь передать вам мысль, что снег белый, я говорю: «Снег белый». Я достигаю успеха, если вы приходите к пониманию, что для меня снег – это нечто белое40. Однако, придерживаясь правдоподобной гипотезы, что мы все в каких-то представлениях, пусть и в самой малой части, отличаемся друг от друга, холизм приводит нас к предположению, что вы никогда не поймете смысл моих слов. Точнее, вы всегда будете воспринимать мои слова в категориях, которые будут хотя бы немного отличаться от моих. «Снег» и «белый» будут значить для вас нечто иное, чем для меня, и вы не сможете понять тот смысл, который я закладывал в свои слова. Таким образом, коммуникация оказывается невозможной.
Апологетики холизма пытались разрешить эту проблему, заявляя, что в действительности коммуникация заключается в том, чтобы разделять схожие, а не обязательно идентичные, смыслы и убеждения. Однако здесь мы сталкиваемся со сложностью четкого обоснования, что значит «схожие» позиции [Fodor, Lepore 1992: note 17]. Я выстраиваю свою стратегию на несколько ином представлении о значении коммуникации. Здесь мы должны тщательно рассмотреть, что именно составляет сущность концептов и как она проявляется в лингвистической практике.
2.1.3. Общая практика
Начнем с выявления связей между концептуальными значениями и убеждениями. Предположим, что я вдруг заявляю вам: «Земля плоская». Этим заявлением я беру на себя целый ряд обязательств. Это значит, что я придерживаюсь той точки зрения, что Земля плоская, что по крайней мере некоторые планеты также плоские, что Земля не представляет собой сферу и т. д., и т. п. Возможно, я сам до конца не осознаю, какие убеждения я принял. Так, если бы я был плохо знаком с историей XV века, то, скорее всего, не знал бы, что теперь я буду вынужден говорить: «Колумб ошибся». Мы можем сказать, что я выразил соответствующие убеждения, а также увидеть, насколько они существенны для нашей лингвистической практики. Допустим, вы бросаете мне вызов, вопрошая: «Ты считаешь, что некоторые планеты плоские?» Я отвечаю: «Нет, но Земля плоская». Вы продолжаете в недоумении: «Но разве Земля не планета?» Я заявляю: «Само собой, планета». Если наша беседа будет продолжаться в том же духе (похоже, я принимаю некие убеждения, но отказываюсь принимать во внимание их импликации), то вы, возможно, оставите попытки общаться со мной в дальнейшем. Ведь я играю не по правилам.
Не следует полагать, что есть некий единый монолитный набор правил, определяющий значения слов. Коннотации меняются с течением времени, и убеждения, которые какой-то человек или группа людей выражают определенной фразой, могут не пересекаться полностью с убеждениями, о которых заявляют другие. Однако мы утрачиваем способность понимать друг друга – общаться, если не демонстрируем относительно стабильный набор убеждений. (Если не верите, вернитесь к предыдущему абзацу и подумайте о том, как много обязательств содержат мои заявления!) Таким образом, концепты предстают перед нами как относительно стабильные наборы убеждений, которых надлежащим образом придерживаются носители в отдельно взятом сообществе41.
Именно ключевая роль убеждений в лингвистической практике была одним из факторов, которые побудили ведущего философа современности Роберта Брэндома представить содержание концептов с точки зрения структуры умозаключений. Брэндом предлагает увидеть разницу между попугаем, которого научили выкрикивать «Красное!», когда ему показывают красные предметы, и человеком, который говорит, что перед ним предмет «красного цвета». Автор отмечает, что
попугай не воспринимает фразу «Красное!» как несовместимую с фразой «Зеленое!» или как продолжающую фразу «Алое!», предполагающую при этом фразу «Цветное!» Пока повторяемая неоднократно фраза не связана для попугая с практическими свойствами умозаключений и обоснований… она вообще не является концептуальным или когнитивным вопросом… Концепты, по сути, выражаются как умозаключения [Brandom 1994: 89].
Попугай не связывает себя какими-либо обязательствами, выкрикивая: «Красное!» Однако люди, говорящие о предмете, что он красного цвета, берут на себя обязательство заключить, что он, помимо прочего, относится к категории «цветное».
Вполне очевидно, что представленная теория сразу обязует нас исходить в понимании значений из холизма, как было описано выше в общих чертах. Если суть концептов определяется структурой умозаключений, то смысл фразы «Красное!» будет зависеть от того, что я подразумеваю под «Цветное!» и т. д. Привлекательность подхода Брэндома заключается в том, что он незамедлительно заставляет нас задуматься о сложностях коммуникации. Автор признает проблематичность своей теории, которая фактически представляет коммуникацию как процесс, направленный в сторону разделения общепринятых ценностей. Таким образом, он предлагает следующее: «Парадигму коммуникации как совместного обладания некой общностью стоит оставить – или изменить – в пользу парадигмы коммуникации как определенного вида сотрудничества на практике» [Brandom 199: 485]. Одна из ключевых идей Брэндома о языке связана с укорененностью языка в лингвистической практике. Коммуникация возможна, поскольку мы все принимаем участие в общей практике интерпретации друг друга и наших собственных изречений42.
Как это происходит? Брэндом предлагает рассматривать лингвистическую практику как подсчет баллов: мы отслеживаем, какие обязательства берет на себя каждый из участников в рамках отдельной беседы, в том числе мы сами43. Иногда мы фиксируем обязательства через прямые акты, как языковые (вы заявляете: «Сияет солнце»), так и практические (я подбираю футбольный мяч и направляюсь к двери). В других случаях нам нужны косвенные умозаключения. Например, после ваших слов «сияет солнце» я могу предположить, что вы приняли на себя обязательство считать, что «на улице безоблачно». Иногда ситуации становятся особенно сложными или спорными, и тогда мы фиксируем взаимные убеждения в более явной форме. Но по большей части этот процесс отслеживания происходит неформально или скрыто. Впрочем, при возникновении путаницы мы готовы вытащить его на свет.
Уже в самом заявлении Брэндома о том, что логически выведенные умозаключения о значениях зависят от общего набора убеждений, принятых на себя отдельным человеком, кроется мысль о том, что ведение лингвистического счета предполагает некую перспективу. Если одна и та же фраза может значить разное для вас и для меня, то, естественно, обязательства, которые я связываю с озвученной фразой, будут отличаться от тех обязательств, которые предполагаете вы. Соответственно, во время коммуникации придется вести «двойной счет» по каждому участнику [Brandom 1994: 488]. Рассмотрим простую ситуацию с участием только двух человек: госпожи А. и господина Б. Госпожа А. будет стараться отслеживать, какие убеждения, с ее точки зрения, следуют из слов господина Б. и какие убеждения принимает на себя де-факто господин Б. в продолжение своих слов и действий. И это только начало! Ведь госпоже А. нужно будет следить и за своими собственными убеждениями в ее собственном восприятии и в восприятии господина Б. Конечно, все это в полной мере относится и к господину Б.
Чтобы конкретизировать обозначенные идеи, вернемся к Ван и Смиту. Предположим, что как-то в декабре Смит заявляет Ван: «Утром я повстречал на улице нищего. На бедняге не было верхней одежды. Создается впечатление, что ему действительно приходится несладко». Как воспримет эту речь Ван? Мысленно она дает Смиту новую оценку: он решил, что это нищий, переживающий тяжелые времена, а также пришел к выводам, которые следуют из этого факта, и взял на себя иные взаимосвязанные убеждения. Бо́льшую часть этих косвенных умозаключений Ван фиксирует как побочные оценки Смита. Здесь Ван указывает на то, что в действительности (с ее точки зрения) следует из очевидных убеждений, возложенных на Смита. Так, в обоих случаях – основных и побочных оценок – у нее будет зафиксировано, что этим утром Смит покинул свою комнату в общежитии, поскольку (1) она предполагает, что сам Смит сделал бы такой вывод исходя из своего пребывания на улице и (2) что для нее естественно было бы считать, что это следует из его слов. Если у нее нет оснований подозревать, что Смит ее обманывает, то она извлечет из его слов оба этих убеждения: (1) на улице был нищий, и (2) Смит вышел из общежития.
Оба набора оценок Смита, сделанных Ван, пока еще согласуются между собой. Но, как я отмечал выше, они могут оказаться в противоречии друг с другом. Например, Ван известно, что у здания общежития Смита часто ходят студенты, которые просто прикидываются попрошайками. В этом случае она сделает себе другую пометку в побочных оценках, где она фиксирует все, что в действительности следует из слов Смита. Возможно, она просто отметит для себя тот факт, что ее собеседник прошел мимо человека в лохмотьях, который просил денег. Несоответствие между двумя наборами оценок Ван, скорее всего, выразила бы так: «Смит думает, что он увидел попрошайку, но я знаю, что случилось на самом деле».
2.1.4. Объективность
Данный пример указывает на исключительно важную проблему: наличие объективности в подобных атрибутивных заключениях. Я приписал Ван осведомленность в отношении факта, неизвестного Смиту: рядом с его общежитием часто собираются псевдонищие. Но разве тот человек не мог быть настоящим нищим? Разве точка зрения конкретного судьи не является единственным различием между двумя наборами оценок? Ведь нет какого-то волшебного слова, которое на автомате придает «правильность» набору побочных оценок или дает нам основания полагать, что именно в нем содержатся «фактические» обстоятельства инцидента.
И все же это различие в перспективе оказывается принципиально важным. От точки зрения зависит само понятие «объективной» истины. Скорее всего, ни вы, ни я не увидим ничего особенного в позиции Ван, даже если она окажется права, по крайней мере относительно того, кого видел Смит тем утром. Однако для самой Ван ее представления имеют значение, ведь именно исходя из них она думает, что знает, как обстоят дела в реальности, в отличие других людей (или даже ее самой), чьи точки зрения представляют собой лишь предположение о том, как все обстоит. Точнее, в контексте сопоставления позиции Ван и позиции другого человека – что происходит в коммуникации неизбежно – проявляется разница между тем, как кто-то воспринимает действительность, и тем, что является объективной реальностью44. Разночтение между Ван и Смитом по поводу нищих – это вопрос не только субъективного восприятия. Ван фиксирует у себя в оценках не просто тот факт, что «он привержен одной истине, а я другой». С позиций Ван, вывод Смита о том, что человек в лохмотьях является нищим, не просто умозаключение, не совпадающее с ее мнением. Она считает его умозаключение ошибочным. Даже если окажется, что Ван ошибается насчет личности того человека на улице, разница между тем, что воспринимается как истина, и тем, что де-факто является истиной, сохранится в целости.
Если Брэндом прав по поводу процесса формирования объективности, то последняя оказывается исключительно социальным понятием. Брэндом указывает, что «объективность выступает составной частью структуры понятийной интерсубъективности» [Brandom 1994: 599]. Лишь в рамках языковых взаимоотношений людей друг с другом явственно проявляются размышления об объективной истине. При этом Брэндом подчеркивает:
Традиционно интерсубъективность понималась в ключе я – мы, где упор делается на различиях в убеждениях одного человека и убеждениях целого сообщества (коллективно) или убеждениях всех людей (по отдельности). В… представленном тексте мы видим, что, напротив, интерсубъективность воспринимается с точки зрения я – ты, где акцент делается на взаимосвязи между убеждениями, принятыми судьями, которые интерпретируют точки зрения других людей, и убеждениями, которые эти судьи приписывают другим людям [Brandom 1994: 599].
Таким образом, совместная практика выставления оценок в ходе полемики делает возможной как коммуникацию, так и объективность, но не гарантирует, что коммуникация будет обязательно успешной, а объективность вообще будет когда-либо достигнута. Идея объективности происходит из того факта, что каждый из нас обычно воспринимает свои убеждения как что-то, чего мы не просто придерживаемся, а придерживаемся потому, что так следует. Брэндом отмечает, что собственно этой «формой перспективы» и исчерпывается весь концепт «объективности»:
Объединяет все понятийные точки зрения как раз то, что составляет разницу между объективной правильностью чего-то в рамках применения концептов и просто восприятием чего-то в качестве объективно правильного, а не то, что они собой представляют. Здесь существенна структура, а не ее содержание [там же: 600].
Из представлений Брэндома об объективности следуют два важных вывода, которые я буду использовать в данной книге. Во-первых, вопреки всему тому, что пишет Брэндом, практические убеждения (например, этические или политические нормы) столь же подвержены объективности, как и любые другие убеждения. Этот момент требует дальнейшего обсуждения, однако отсюда следует, что этические и политические споры – даже между разными странами или культурами, – возможно, все-таки имеют «объективные» решения. Не следует делать вывод, что одна отдельно взятая система нравственности окажется объективно идеальной для всех народов во все времена. Тот факт, что мы считаем научные понятия объективными, ни в коей мере не означает, что мы уверены в том, что мы установили их в качестве единственной истины о нашей природе. Позже мы увидим, что восприятие чего-то как объективности вполне соотносится с возможным дальнейшим осознанием ошибочности такой позиции или пониманием того, что в определенных обстоятельствах одни точки зрения являются предпочтительными для одной группы людей, но не для другой.
Во-вторых, Брэндом не обозначает в качестве «объективно правильной» какую-то определенную точку зрения, поэтому его подход нейтрален по отношению к концепциям, спорящим о том, как определить лучший способ открыть для себя окружающую действительность. Это означает, что сторонам в дискуссии потребуется озвучивать и отстаивать эпистемологическую составляющую своих теорий. Эпистемологические нормы не дают преимуществ в споре ни одной из культур. Воззрения Брэндома удачно накладываются на мой собственный подход к тому, что следует делать, когда мы сталкиваемся с плюрализмом. Об этом мы еще поговорим в следующей главе. Таким образом, рассуждения Брэндома инкорпорируют элементы, традиционно ассоциирующиеся как с релятивистскими, так и с абсолютистскими воззрениями и, соответственно, могут выступать основой для выстраивания перспективы, составляющей золотую середину между этими двумя малообещающими крайностями.
Если я был услышан в предыдущих абзацах, то должен был уже убедить своих читателей в том, что подход Брэндома к коммуникативной практике (1) представляет собой правдоподобную теоретическую реконструкцию того, что всегда происходит (хотя обычно и в качестве фона) в рамках коммуникации, и (2) эффективно разрешает проблемы, которые возникают, если изучать коммуникацию с позиций холизма. Важно подчеркнуть при этом, что само наличие такого подхода не гарантирует нам неизбежного успеха в ходе коммуникации. Мы действительно выступаем, часто неосознанно, как искусные переводчики, которые на пути к успешной коммуникативной практике регулярно преодолевают возникающие препятствия в виде новых слов, прозвищ, стилистических нелепиц45. Однако коммуникация все же может застопориться и при самых тривиальных, и при самых необычных обстоятельствах. В следующем разделе я подробно остановлюсь на сущности и последствиях коммуникационных сбоев. Изучение этого феномена позволит нам осознать тот диапазон ситуаций, в которых могут различаться концепты разных людей.


