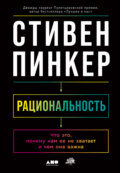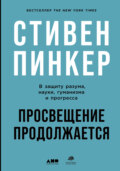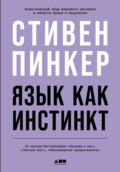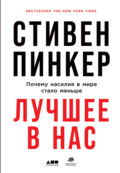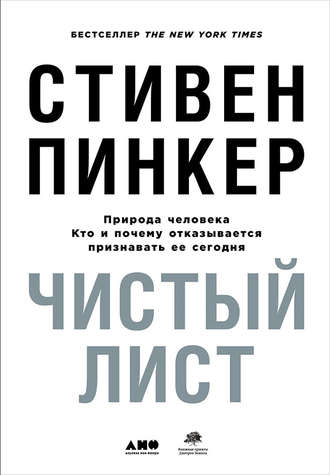
Стивен Пинкер
Чистый лист: Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня
Влияние различий в генах на различия в интеллекте может быть измерено, но здесь фигурируют те же самые грубые оценки – значительно больше ноля и значительно меньше 100 % – независимо от используемых инструментов. Идентичные близнецы гораздо более похожи, чем неидентичные, растут ли они вместе или по отдельности; идентичные близнецы, разделенные при рождении, очень похожи; биологические братья и сестры, воспитанные в одной или разных семьях, намного более похожи, чем усыновленные. Многие из этих выводов сделаны в массовых исследованиях в скандинавских странах, где правительство ведет огромную базу данных о своих гражданах и использует самые надежные измерительные инструменты, какие только известны психологии. Пытаясь свести влияние генов к нулю, скептики предложили альтернативные объяснения: идентичные близнецы, разделенные при рождении, были помещены в похожие приемные семьи, они контактировали друг с другом перед тестами, они похожи, и поэтому их воспринимают одинаково, и общие у них не только гены, но и материнская утроба. Но, как мы увидим в главе, посвященной детям, все эти объяснения были проверены и отвергнуты. Недавно еще одно свидетельство стало вишенкой на торте. «Мнимые близнецы» – это зеркальный образ идентичных близнецов, воспитанных отдельно: это неродные братья и сестры, один или оба усыновленные, которые росли в одной семье с младенчества. И хотя они одного возраста и живут вместе, психолог Нэнси Сигал обнаружила, что их IQ практически не коррелируют{123}. Один из отцов, участвовавших в исследовании, сказал, что, несмотря на все попытки относиться к «мнимым близнецам» абсолютно одинаково, они отличаются друг от друга, «как ночь и день».
Близнецы и усыновление – естественные эксперименты, которые дают серьезные косвенные доказательства, что различия в интеллекте могут происходить из-за различий в генах. Недавно генетики точно определили некоторые гены, которые могут стать причиной этой разницы. Один своевольный нуклеотид в гене FOXP2 вызывает наследственное расстройство речи и языка{124}. Ген, входящий в состав той же хромосомы, LIM-kinasel, кодирует белок, найденный в растущих нейронах. Он отвечает за способность к пространственному мышлению: если ген отсутствует, у человека нормальный интеллект, но он не способен собрать объект, разделенный на части, строить из кубиков или копировать геометрические фигуры{125}. Один из вариантов гена IGF2R связан с очень высоким уровнем общего интеллекта и отвечает примерно за четыре пункта в тестах IQ и 2 % вариаций в уровне интеллекта нормальных индивидуумов{126}. Если вы – обладатель более длинной, чем обычная, версии гена дофаминового рецептора D4DR, вы с большой вероятностью станете любителем острых ощущений – тем, кто прыгает с парашютом, взбирается на заледеневшие водопады и занимается сексом с незнакомцами{127}. Если судьба наградила вас короткой версией участка ДНК, который ингибирует ген транспортера серотонина в 17-й хромосоме, вы, скорее всего, будете невротичным или тревожным – представителем типа личности, который неуютно чувствует себя в обществе, боясь обидеть кого-нибудь или выставить себя на посмешище{128}.
Одиночные гены с большими последствиями – наиболее драматичный пример того влияния, который гены оказывают на интеллект, но все же не самый репрезентативный. Большинство психологических черт скорее продукт множества генов, имеющих незначительный эффект, чье влияние корректируется присутствием других генов, чем результат действия одного очень эффективного, который проявится в любом случае. Вот почему исследования идентичных близнецов (двух человек, у которых все гены одинаковые) постоянно демонстрируют мощное влияние генов на черты характера, даже если найти конкретный ген для определенной черты не удается.
В 2001 году была опубликована полная последовательность генома человека, и вместе с ней появилась реальная возможность идентифицировать гены и результаты их воздействия, включая те, что активны в мозге. В ближайшее десятилетие генетики определят, какие гены отличают нас от шимпанзе, выяснят, какие из них подверглись естественному отбору в течение тех миллионов лет, что наши предки эволюционировали в человека, идентифицируют комбинации, ответственные за нормальные, ненормальные и исключительные умственные способности, и начнут отслеживать цепи событий, которыми гены во внутриутробном периоде формируют мозговые системы, позволяющие нам учиться, чувствовать и действовать.
Иногда люди опасаются, что, если гены влияют на интеллект в целом, они должны определять его в каждой детали. Это неверно по двум причинам. Первая – что большинство генных эффектов вероятностны. Если один идентичный близнец имеет некую черту, шанс, что второй также будет ею обладать, равен шансу на противоположный исход, несмотря на их общий генетический код. Поведенческие генетики подсчитали, что при заданных условиях лишь около половины вариаций в большинстве психологических черт коррелируют с генами. В главе, посвященной детям, мы исследуем, что это значит и откуда берется вторая половина вариаций.
Вторая причина того, что гены – это еще не все, кроется в том, что их эффекты могут варьировать в зависимости от условий среды. Простой пример можно найти в любом учебнике генетики. Кукуруза нескольких сортов, растущая на одном поле, будет разной высоты из-за генетической разницы, а кукуруза одного и того же сорта, посаженная в двух разных местах – засушливом и влажном, будет разной высоты благодаря влиянию среды. Пример, касающийся человека, дает нам Вуди Аллен. Хотя его судьба, удача и способность привлекать красивых женщин может зависеть от генов, подаривших ему чувство юмора, в фильме «Воспоминания о звездной пыли» (Stardust Memories) он объясняет завистливому другу детства, что здесь есть и сильное влияние фактора среды: «Мы живем в обществе, которое придает большое значение шуткам… Если бы я был индейцем из племени апачей, я был бы безработным – этим ребятам не нужны комедианты».
Смысл открытий бихевиоральной генетики для нашего понимания человеческой природы необходимо рассматривать в каждом конкретном случае. Аномальный ген, ставший причиной нарушения, показывает, что для развития нормального интеллекта необходима его стандартная версия. Но что именно делает стандартная версия гена, не всегда очевидно. Если шестеренка со сломанным зубцом издает стук при каждом повороте, мы не думаем, что этот зубец в исправном состоянии был «супрессором стука». Так и ген, который повреждает умственные способности, не обязательно дефективная версия гена, отвечающего за нормальное развитие этой способности. Он может продуцировать токсин, который мешает нормальному развитию мозга, или оставить лазейку в иммунной системе, которая позволит патогену инфицировать мозг, или заставит человека выглядеть глупым или злым, и другие люди будут реагировать на него иначе. В прошлом генетики не могли исключить досадные вероятности (те, что не влияют прямо на функции мозга), и скептики объявляли, что все генетические эффекты могут быть несущественными, и скорее они деформируют и искажают «чистый лист», чем представляют собой неэффективную версию гена, помогающего придать структуру сложноорганизованному мозгу. Но все чаще и чаще у исследователей получается связать гены и мозг.
Многообещающий пример – ген FOXP2, связанный с расстройством речи и языка в одной большой семье{129}. Аномальный нуклеотид был обнаружен у каждого больного члена семьи (и у одного не имеющего к ней отношения человека с таким же синдромом), но не был найден ни у одного здорового родственника и ни в одной из 364 хромосом здоровых людей, не связанных родством с этой семьей. Этот ген принадлежит к группе генов-факторов транскрипции – протеинов, заставляющих работать другие гены. Известно, что они играют важную роль в эмбриогенезе. Мутация разрушает ту часть белка, которая прикрепляется к определенному участку ДНК, – а именно так включается нужный ген в нужное время. Ген крайне активен в мозговых тканях плода, и близкородственная его версия, найденная у мышей, также активна в развивающейся коре мозга. Как утверждают авторы исследования, это значит, что нормальная версия гена запускает каскад событий, помогающих формировать часть развивающегося мозга.
Значение генетических различий среди нормальных индивидуумов (в противоположность генетическим дефектам, вызывающим расстройства) тоже необходимо рассматривать с осторожностью. Врожденные различия между людьми – это не то же самое, что особенности, присущие человеческой природе, общие для всех представителей нашего вида. Описание факторов, отличающих людей друг от друга, не дает нам прямого ответа на вопрос о механизме действия человеческой природы, как описание разницы между марками автомобилей не откроет нам секрет работы мотора. Тем не менее генетические вариации определенно имеют отношение к природе человека. Если для разума существует множество способов генетически отличаться, значит, в нем есть множество частей и свойств, на которые гены оказывают влияние, что и делает эти отличия возможными. Кроме того, любая современная концепция человеческой природы, опирающаяся на биологию (в противоположность традиционным концепциям, которые опираются на философию, религию или здравый смысл), должна объяснить, почему способности, составляющие человеческую природу, настолько разнообразны, несмотря на то что их фундаментальный дизайн (как они работают) универсален. Естественный отбор зависит от генетических вариаций, и, хотя с течением поколений и с формированием вида количество вариаций снижается, полностью они не исчерпываются никогда{130}.
Какой бы ни была их окончательная интерпретация, открытия бихевиоральной генетики значительно повредили идее «чистого листа» и его доктринам-компаньонам. Лист не может быть пуст, если различные гены могут сделать его менее или более умным, разговорчивым, бесшабашным, застенчивым, счастливым, совестливым, невротичным, открытым, необщительным, веселым, толстяком или любителем макать хлеб с маслом в кофе. Чтобы гены могли влиять на разум таким образом, необходимо, чтобы разум содержал множество частей и свойств, на которые можно было бы повлиять. Точно так же если мутация или делеция гена может поразить такую узкую умственную способность, как пространственное воображение, или такую специфическую личностную черту, как любовь к острым ощущениям, эти черты должны быть обособленными компонентами сложноорганизованной психики.
Более того, многие из черт, подверженных влиянию генов, отнюдь не благородные. Психологи обнаружили, что наши личности различаются в пяти основных отношениях: мы в разной степени интровертны или экстравертны, невротичны или уравновешены, нелюбопытны или открыты новому, покладисты или упрямы, добросовестны или равнодушны к делу. Большая часть из 18 000 названий личностных черт, имеющихся в словарях, может быть отнесена к одному из этих пяти измерений, включая такие грехи и пороки, как нецелеустремленность, беспечность, соглашательство, нетерпеливость, узость мышления, грубость, жалость к себе, эгоизм, подозрительность, несговорчивость и ненадежность. Все пять основных измерений личности врожденные, и от 40 до 50 % вариаций в типичной популяции связаны с разницей в генах. Жалкий неудачник, невротичный интроверт, ограниченный, эгоистичный и ненадежный, вероятно, таков отчасти из-за своих генов, как и остальные из нас, имеющие свои склонности в перечисленных отношениях, отличающие нас от собратьев.
По наследству может передаваться не только неприятный темперамент, но и конкретное поведение с реальными последствиями. Одно за другим исследования показывают, что склонность к таким асоциальным поступкам, как вранье, воровство, драка и вандализм, частично наследуемо (хотя, как и все наследственные черты, в одной среде они проявляются чаще, чем в другой){131}. У людей, совершающих действительно гнусные преступления, такие как серийные изнасилования, обман пожилых людей ради их сбережений, убийство продавца, который даже не оказывал сопротивления грабителям, часто диагностируется психопатия или «диссоциальное расстройство личности»{132}. Большинство психопатов демонстрировали жестокость с раннего детства. Они обижали младших, мучили животных, постоянно лгали, были неспособны на сочувствие или раскаяние, причем часто несмотря на нормальное семейное окружение и на то, что их безутешные родители старались изо всех сил. Большинство специалистов по психопатии считают, что она происходит из генетической предрасположенности, хотя в некоторых случаях – из-за раннего повреждения мозга в раннем возрасте{133}. Так или иначе генетики и нейробиологи сходятся в том, что вину за «сердца тьмы» не всегда можно возложить на родителей или общество.
И гены, даже если они никак не определяют нашу судьбу, не слишком согласуются с ощущением, что мы – «духи в машинах». Представьте, что вы мучительно выбираете: какую делать карьеру, выходить ли замуж, за кого голосовать и что надеть сегодня. Наконец вы с трудом пришли к решению, и тут раздался телефонный звонок. Это ваша сестра – идентичный близнец, о которой вы раньше не знали. Во время оживленной беседы выясняется, что она только что выбрала похожую карьеру, решила выйти замуж в то же время, отдать свой голос за того же кандидата в президенты и надела блузку такого же цвета – к великому удовольствию поведенческих генетиков, которые и помогли вам найти друг друга. И насколько свободны в принятии решений «вы» на самом деле, если результат можно (по крайней мере с определенной долей вероятности) предсказать заранее, основываясь на событиях, которые произошли в фаллопиевых трубах вашей матери за много лет до этого?
* * *
Четвертый мост между биологией и культурой – это эволюционная психология, наука о филогенетической истории и адаптивных функциях разума{134}. Она дает надежду понять замысел или цель разума – не в каком-то мистическом или телеологическом смысле, а с точки зрения своего рода инженерного искусства, которое наблюдается повсюду в природе. Мы видим признаки этого искусства везде: в глазах, устроенных так, чтобы создавать образы; в сердце, словно специально сконструированном, чтобы качать кровь, в крыльях, наилучшим образом подходящих для полета.
Дарвин, конечно, показал, что иллюзия замысла в мире природы может быть объяснена естественным отбором. Однако глаз определенно слишком сложно устроен, чтобы появиться благодаря случайности. Ни одна бородавка, или опухоль, или продукт большой мутации не могут быть везучими настолько, чтобы случайно обрести линзу, зрачок, сетчатку, слезные протоки и все остальное, идеально подходящее для создания образа. Но глаз и не шедевр инженерии, буквально спроектированный космическим дизайнером, создавшим человека по своему образу и подобию. Человеческий глаз удивительно похож на глаза других животных, а у их вымерших предков встречались очень странные рудименты вроде сетчатки, встроенной задом наперед{135}. Наши нынешние органы – это копии органов тех наших предков, спроектированные лучше, чем альтернативные варианты, собственно поэтому они и стали нашими предками{136}. Естественный отбор – единственный известный нам природный процесс, который может имитировать инженерное искусство, потому что только он определяет, какой в итоге будет та или иная деталь в зависимости от того, насколько хорошо она работает.
Эволюция – основа понимания жизни, в том числе человеческой. Как все живые существа, мы – результат естественного отбора; мы здесь, потому что унаследовали черты, которые помогли нашим предкам выжить, найти партнера и дать потомство. Этот важнейший факт объясняет наши глубинные устремления: почему неблагодарное дитя хуже ядовитой змеи, почему все согласны с мнением, что холостяку с хорошим доходом непременно необходима жена, почему мы не уходим спокойно в страну вечной тьмы, а из последних сил боремся за каждый лучик света.
Эволюция – ключ к пониманию самих себя, потому что приметы замысла, если мы говорим о человеке, не заканчиваются устройством глаза или сердца. При всей своей изысканной конструкции глаз бесполезен без мозга. Итог его работы – не бессмысленные узоры скринсейвера, а исходник для вычислительной схемы, по которой создаются достоверные образы внешнего мира. Эти образы используются другими сетями, которые придают смысл внешнему миру, соотнося причины со следствиями и размещая их по категориям, что позволяет делать полезные прогнозы. И это извлечение смыслов, в свою очередь, обслуживает мотивы – голод, страх, любовь, любопытство, погоню за статусом и уважением. Как я уже упоминал, воспроизведение способностей, которые кажутся нам не требующими усилий, – категоризация событий, выявление причинно-следственных связей, преследование конфликтующих целей – главная сложность в создании интеллектуальных систем, которую робототехникам так пока и не удается преодолеть.
Так что признаки инженерного искусства в разуме человека заметны на всех этапах, и вот почему психология всегда была эволюционной. Познавательные и эмоциональные способности всегда понимались как неслучайные, сложные и необходимые, а это значит, что они должны быть либо продуктом божественного творения, либо результатом естественного отбора. Но до последнего времени психология редко обращалась к эволюции напрямую, так как во многих случаях умозрительных представлений о механизмах приспособления достаточно. Вам не нужен эволюционный биолог, чтобы понять, что животное не падает со скалы и не натыкается на деревья благодаря пространственному зрению, что жажда предохраняет от обезвоживания и что лучше помнить, что полезно, а что нет, чем страдать амнезией.
Но в других аспектах нашей психической жизни, особенно в социальном, функции способностей не так-то просто разгадать. Естественный отбор благоприятствует организмам, которые хорошо размножаются в определенной среде. Когда вокруг скалы трава и змеи, нетрудно догадаться, какая стратегия работает, а какая нет. Но когда значимая среда включает других представителей вида, развивающих собственные стратегии выживания, это уже не так очевидно. Что даст больший выигрыш в эволюционной игре – моногамия или полигамия? Миролюбие или агрессивность? Сотрудничество или эгоизм? Мягкость или жесткость по отношению к детям? Оптимизм, прагматизм или пессимизм?
В подобных вопросах интуиция бесполезна, и поэтому эволюционная биология все больше вторгается в психологию. Эволюционные биологи утверждают, что нельзя считать «адаптациями» все, что способствует человеческому благополучию: групповые связи, избегание насилия, создание моногамных пар, эстетическое удовольствие, самоуважение. То, что помогает нам приспособиться в обычной жизни, – не обязательно «адаптация» в техническом смысле, черта, которую поощряет естественный отбор в процессе эволюции вида. Естественный отбор – нравственно нейтральный процесс, в котором наиболее эффективные репликаторы размножаются успешнее прочих и начинают преобладать в популяции. Отобранные гены, таким образом, можно назвать «эгоистичными», согласно удачной метафоре Ричарда Докинза, или, более точно, мегаломаньяками, стремящимися наштамповать как можно больше собственных копий{137}. Адаптация – это все, что привносится генами для осуществления своей метафорической навязчивой идеи, неважно, соответствует ли это желаниям людей. И эта концепция абсолютно не совпадает с бытовыми представлениями о том, для чего нам были даны все наши способности.
Мегаломания генов не означает, что милосердие и сотрудничество не могли появиться в результате эволюции, так же как и закон земного притяжения не доказывает, что в результате эволюции не мог появиться полет. Это значит лишь, что милосердие, как и полет, особый случай, нуждающийся в объяснении, а не то, что появилось просто так. Оно может эволюционировать только в особых обстоятельствах и при поддержке когнитивных и эмоциональных способностей. Стало быть, милосердие, как и другие социальные мотивы, необходимо вытащить на свет и как следует рассмотреть, а не задвигать в угол, как старую мебель. Во время социобиологической революции 1970-х смутное представление эволюционных биологов, что организмы эволюционируют, чтобы служить высшему благу, сменилось предположениями о том, какие мотивы вероятно, разовьются в процессе взаимодействия этих организмов с потомством, партнерами, братьями и сестрами, незнакомцами, друзьями и врагами.
Когда их прогнозы соотнесли с известными фактами об образе жизни охотников и собирателей, в котором эволюционировал человек разумный, оказалось, что стороны психики, ранее казавшиеся непостижимыми, можно объяснить с не меньшим успехом, чем пространственное зрение и ощущение жажды. Например, нам кажутся красивыми лица, демонстрирующие признаки здоровья и плодовитости, – именно так, как если бы глаз развивался для того, чтобы помочь своему владельцу найти наилучшую пару для продолжения рода{138}. Чувства симпатии, благодарности, вины, гнева помогают людям извлекать пользу из сотрудничества и не позволять эксплуатировать себя лжецам и обманщикам{139}. Репутация жесткого и мстительного человека была наилучшей защитой в мире, где невозможно было позвонить 911 и вызвать полицию{140}. Дети усваивают разговорную речь инстинктивно, а письменную – прилагая значительные усилия, потому что разговорная речь была частью человеческой жизни в течение тысячелетий, в то время как письменная речь – недавнее и медленно распространяющееся изобретение{141}.
Все это не означает, что люди в буквальном смысле борются за передачу своих генов последующим поколениям. Если бы разум работал так, мужчины выстраивались бы в очередь у банков спермы, а женщины платили бы деньги за то, чтобы их яйцеклетки была оплодотворены и отданы бесплодным парам. Это значит лишь, что унаследованные нами системы научения, мышления и чувствования устроены так, чтобы наш вид в целом мог успешно выживать и размножаться в среде, в которой эволюционировали наши предки. Люди получают удовольствие от еды, и в мире без фастфуда это помогало им прокормить себя, даже если они не задумывались о питательных свойствах продуктов. Люди наслаждаются сексом, они любят детей, и в мире без контрацепции этого было достаточно, чтобы гены могли позаботиться о себе.
Разница между механизмами, которые побуждают организмы вести себя тем или иным образом в реальном времени, и механизмами, которые формируют облик организмов в ходе эволюции, настолько важна, что заслужила особой терминологии. Проксимальная (непосредственная) причина поведения – это механизм, нажимающий кнопки в реальном времени, например голод или желание, побуждающее людей есть и заниматься сексом. Ультимальная (конечная) причина – это адаптивная мотивация, которая заставляет проксимальную причину проявляться: необходимость в питательных веществах или репродукции, порождающая голод и желание. Разграничение проксимального и ультимального объяснений необходимо нам для понимания самих себя, так как оно определяет ответ на вопросы вроде «Почему этот человек поступил так, как он поступил?». Приведем простой пример: на ультимальном уровне люди хотят заниматься сексом для размножения (потому что конечная причина секса – размножение), но на проксимальном они порой готовы сделать все что угодно, чтобы зачатие не состоялось (потому что непосредственная причина секса – удовольствие).
Разница между проксимальными и ультимальными целями – это еще одно доказательство того, что человек не есть «чистый лист». Всякий раз, когда люди борются за очевидные блага вроде здоровья или счастья, которые имеют как непосредственный, так и конечный смысл, вполне логично предположить, что разуму присущи только стремление к счастью и здоровью, а также расчет причин и следствий, помогающий получать желаемое. Но у человека часто бывают желания, которые разрушают его проксимальное (непосредственное) благополучие, желания, которые он не смеет высказать и от которых он (а также общество) безуспешно старается избавиться. Он может воспылать страстью к жене соседа, сводить себя в могилу перееданием, устраивать скандалы по мелочам, не любить приемных детей, накручивать себя в ответ на стресс, от которого не может ни убежать, ни побороть, доводить себя до изнеможения в попытках угнаться за другими, или вскарабкаться по карьерной лестнице, или предпочитать сексуального, но опасного партнера надежному, но не столь привлекательному. Такие неоправданные с точки зрения пользы для конкретного индивида побуждения имеют прозрачное эволюционное объяснение, а это предполагает, что разум укомплектован не универсальным желанием личного благополучия, а влечениями, сформированными естественным отбором.
Эволюционная психология объясняет также, почему лист не пустой. Разум ковался в эволюционном соперничестве, и инертный середнячок уступил бы сопернику, вооруженному высокими технологиями – точной системой восприятия, хитроумием, стратегическим мышлением и чувствительными системами обратной связи. И даже хуже – будь наш разум так уж пластичен, он бы легко поддавался манипуляциям конкурентов, которые могли бы заставить или убедить нас служить чужим интересам вместо собственных. Пластичный разум быстро остался бы за бортом естественного отбора.
Науки о человеке начали активно развивать гипотезу, согласно которой разум эволюционировал вместе с универсальным сложным дизайном. Некоторые антропологи обратились к этнографическим записям, ранее использовавшимся, чтобы возвестить о разнице культур, и обнаружили удивительно подробный набор склонностей и вкусов, общих для них всех. Этот разделяемый всеми образ жизни, мышления и ощущений представляет нас единым племенем, которое антрополог Дональд Браун назвал «универсальными людьми», вслед за «универсальной грамматикой» Хомского{142}. Сотни черт, от боязни змей до логических операций, от романтической любви до шуточных оскорблений, от поэзии до пищевых запретов, от товарообмена до скорби по умершим, могут быть найдены в каждом из когда-либо описанных обществ. Не то чтобы каждое универсальное поведение прямо отражает общие компоненты человеческой природы – многое возникает из взаимодействия между универсальными характеристиками разума, универсальными характеристиками тела и универсальными характеристиками окружающего мира. Тем не менее обилие общих черт в описании универсальных людей – сильный удар по представлению, что разум – это «чистый лист» или что разнообразие культур бесконечно. В этом списке есть пункты, опровергающие практически любую теорию, вытекающую из подобных предположений. Ничто не заменит возможности увидеть список Брауна полностью; с его разрешения он приведен в приложении в конце книги.
Идея, что естественный отбор одарил человечество универсальным сложным разумом, получила поддержку и из других областей науки. Детские психологи больше не думают, что мир в представлении младенца шумная неразбериха, поскольку нашли признаки базовых категорий разума (применительно к объектам, людям и инструментам) у самых маленьких детей{143}. Археологи и палеонтологи обнаружили, что доисторические люди не были звероподобными троглодитами, а упражняли ум искусством, ритуалами, торговлей, насилием, сотрудничеством, технологиями и символами{144}. И приматологи показали, что наши мохнатые родственники приматы, в отличие от лабораторных крыс, пребывающих в пассивном ожидании, наделены многими сложными способностями и дарами, которые раньше считались чисто человеческими, включая понятия, чувство пространства, использование инструментов, ревность, родительскую любовь, сотрудничество, миротворчество и межполовые различия{145}. С таким количеством умственных способностей, существующих во всех человеческих культурах, у детей еще до их знакомства с культурой и у созданий, у которых нет или почти нет культуры, разум больше не кажется бесформенной массой, приобретающей контуры благодаря культуре.
Но сильнее всего от нового эволюционного мышления пострадала доктрина «благородного дикаря». Вряд ли что-либо безусловно благородное может стать результатом естественного отбора, поскольку в борьбе генов за продолжение в следующих поколениях благородные обычно проигрывают. Конфликты интересов повсеместны среди живых существ, поскольку нельзя вдвоем съесть одну и ту же рыбку или претендовать на одного сексуального партнера. Если социальные мотивы представляют собой адаптации, которые увеличивают число копий генов, продуцирующих их, они должны работать на победу в подобных конфликтах, а один из способов победить – нейтрализовать угрозу. Как сформулировал это Уильям Джеймс, разве что чуть-чуть сгустив краски: «Мы наследственные представители удачливых исполнителей множества массовых убийств, и какое бы количество мирных черт мы ни обрели, мы наверняка все еще носим в себе готовые в любой момент воспламениться тлеющие зловещие стороны нрава, благодаря которым прошли путь кровопролитий, причиняя вред другим, но уцелев сами»{146}.
Многие интеллектуалы, от Руссо до автора статьи ко Дню благодарения, упомянутой в первой главе, лелеяли образ миролюбивого туземца, берегущего природу, сторонника всеобщего равенства. Но за последние два десятилетия антропологи собрали данные о жизни и смерти в догосударственных обществах и предпочитают опираться на них, а не на приятные расплывчатые стереотипы. Что же они обнаружили? Если вкратце, Гоббс был прав, Руссо ошибался.
Начнем с того, что истории о каких-то племенах где-то там, которые никогда не слышали о насилии, оказались городскими легендами. Описания мирного новогвинейского племени и сексуально свободных самоанцев, сделанные Маргарет Мид, основывались на поверхностных исследованиях и оказались верны с точностью до наоборот. Как позже задокументировал антрополог Дерек Фримен, самоанцы могут избивать или даже убивать своих дочерей, если те не оказываются девственницами в первую брачную ночь; молодой мужчина, которому не удалось соблазнить девственницу, может изнасиловать девушку, чтобы вынудить ее бежать с ним; а семья обманутого мужа способна напасть на его соперника и убить{147}. Элизабет Маршал Томас описывала племя кунг сан, живущее в пустыне Калахари, как «безобидный народ» в книге под таким же названием. Но вскоре после того, как антропологи прожили с ними достаточно долго, чтобы собрать необходимые данные, они обнаружили, что смертность в результате убийств в племени выше, чем в американских трущобах. Также они узнали, как группа кунг сан отомстила за убийство, напав на обидчиков, пока те спали, и убив поголовно всех женщин, мужчин и детей{148}. Но кунг сан, по крайней мере, существуют. В начале 1970-х журнал New York Times сообщил об открытии «кроткого народа тасадей» в филиппинских тропических лесах, народа, словарь которого не содержал слов для понятий конфликта, насилия или оружия. Позже оказалось, что «кроткие Тасадей» – местные фермеры, которые фотографировались в нарядах из пальмовых листьев, чтобы дружки Фердинанда Маркоса (тогдашнего президента Филиппин) признали их «племенные земли» заповедными, что дало бы им эксклюзивные права на добычу полезных ископаемых и заготовку древесины{149}.