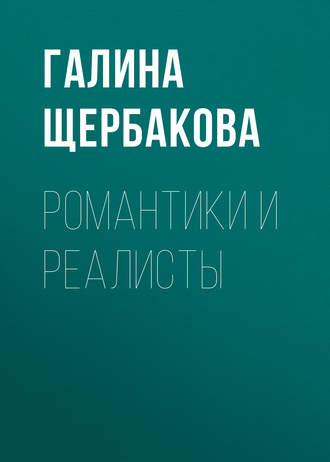
Галина Щербакова
Романтики и реалисты
II
В толпе, валом валившей по Сретенке, поглядев вправо и влево и убедившись, что до перехода далеко, Полина нагнулась и уже через секунду была за этой красной проклятой трубой, что тянулась вдоль всей улицы. «Ладно, – сказала она себе, – если что – уплачу, а обходить – так куда ж это я приду? Мне вот сюда – напротив». Так она собиралась убеждать милиционера, если он вдруг появится. Но никто не появился, и машины шуршали прямо возле ее потертых ботиков спокойно и мирно. «Проедут, и перебегу», – прикидывала Полина, ища глазами место, где легче будет нырнуть под железку. Но тут машины стали притормаживать, и одна черная, чисто вымытая, осела на тормозах прямо возле Полины. Шофер повернулся к ней и укоризненно покачал головой. «Да ладно тебе, – махнула рукой Полина. – Не задавил же?» И, ища поддержки, она повернула голову чуть влево, к пассажиру, что сидел сзади. Повернула и обмерла. Это был Василий. Он не смотрел на нее, смотрел прямо, сидел неподвижно, и глаза у него не мигали, из чего Полина заключила, что он ее видел и тоже одеревенел от неожиданности. Он был так близко, что можно было протянуть руку и пальчиком постучать ему в окошко. Искушение было велико, но мешал сверток, где были покупки девчатам, и пока она перекладывала сверток в другую руку, машина чуть дернулась и проплыла прямо возле полосатого платка, за которым Полина стояла три часа в ГУМе и который нахально и полосато торчал сейчас из бумажного пакета. Проплыло мимо и тяжелое, так и не повернувшееся к ней Василиево лицо. «Сейчас моргнет, – подумала Полина, – отъедет и моргает». И она потерла глаза, вдруг почувствовав тяжесть напрягшихся чужих век, а когда отняла пальцы, увидела, что они мокрые. «Тю, дура! – сказала она себе. – Чего это я?» И побежала через улицу, и нырнула под трубу, но в магазин не вошла, а завернула за угол и села на лавочку. «Связать надо все как следует, – говорила она себе и все заталкивала внутрь пакета яркий радостный кончик платка. – Как же они его называли, этот платок, девчата в очереди? Попона, что ли? Нет, попона – это ведь по-нашему, а то было чужое слово, на „ч“. Старый стал, – думалось Полине. – Сколько ж это ему до пенсии? Ну, мне пятьдесят пять – значит, ему пятьдесят девять? Так ведь моему Петру семьдесят, а он лучше смотрится… Сейчас все питаются хорошо, а этот, видать, без движения сидит, все курит. Вон и шофер у него приставленный, аккуратный парень, и машина чистая…» Необязательные мысли закружились в голове у Полины: в магазин все-таки надо зайти и в аптеку – лекарство взять для сватьи. И – не забыли ли дети купить в поезде нижнюю полку? С них станется, и не посмотрят билет. Ах, о чем бы только не думать, чтобы не о том, о чем хочется… И Полина, никогда не умевшая справляться сама с собой, громко вздохнула и вся отдалась воспоминанию. Потому что проехал прямо мимо ее ботиков по улице Сретенке не просто какой-нибудь начальник на собственной машине, для других – просто индюк с набрякшими глазами, а ее первый муж. И не захотел он ее узнать правильно, справедливо, потому что… Полина тихо засмеялась, туже завязывая платок и вся превращаясь в ту молодую, бедовую девчонку, которая давным-давно взяла вот этого самого Васю за руку и отвела в загс.
… В тридцать шестом мать привезла ее из деревни, где она жила у бабушки. Чтоб училась, сказала мать. Хочу, чтоб была служащая. Было восемнадцать лет дуре, и пошла она в седьмой класс. Очень это было глупо, потому что Полина среди мелкого городского народа в седьмом классе была даже не то что старшая сестра – мамаша. И что удивительного? Она в деревне повкалывала будь здоров, а все это молодому организму полезно. Разносолов никаких не было, но молоко, картошка, овощи были… Бабка Полины купила ей для города шифоновое платье, и вот в нем она и пришла в школу вместе с зеленолицыми от шахтной пыли девчонками. Полина стыдилась своих щек, и рук, и больше всего почему-то шифонового платья. Скинула его как-то и больше не надела, осталась дома в розовой сатиновой рубашке, стучала дверцами гардероба, все хотела найти что-то и не нашла. «Ото не морочь голову, – говорила ей мать, – пока тепло, ходи в этом, спасибо бабушке, а потом чего-нибудь сообразим». Но Полина только головой трясла. Тогда вот она и сшила себе из старых отцовских штанов юбку, смешную такую – перед из материи вдоль, а зад поперечный. Кто там замечал? А сверху приспособила материну «баядерку», так тогда почему-то называли кофты такие. В таком виде стала Полина совсем взрослой, так и эдак на себя посмотрела и не пошла больше в школу, а пошла работать в шахтную контору. Носилась с какими-то бумажками, аж трещала сшитая сикось-накось юбка да растягивалась на плечах «баядерка». Бежала на работу мимо школы, подскакивали к ней зелененькие девочки. Грызли кривоватые червивые яблоки, рассказывали о новостях в школе, «зря ты ушла» и «счастлива, что освободилась», а больше всего о том, «кто с кем». Полина слушала и потрясалась.
Ей очень хотелось, чтоб и у нее что-то было. Но пока ничего не было, а если бы и было, не стала бы она тянуть время, а вышла замуж сразу. «Как полюблю, так сразу замуж», – думалось ей всегда. Она, конечно, знала, что бывает любовь без взаимности, а может случиться и вообще кошмар – женатый человек! Но как-то для себя она и тот, и другой варианты не брала в расчет. Она-то полюбит кого надо, и все у нее будет в порядке. Вот, наверно, тогда у нее и появился этот насмешливо самоуверенный взгляд, который так пугал всегда Василия. С перепугу все и началось.
Он приехал в их городок в тридцать восьмом. На зимние каникулы. Был студентом в Москве, а папаша его копал в их городке новые шахты. Противный мужик с синими немигающими глазами. Синие глаза – это же очень красиво. А вот поди ты… Полина часто думала, что если б она могла выбирать себе внешность, то она бы выбрала себе синие глаза, белые волосы и родинку на левой щеке. И ростик маленький, и ножку тридцать четвертого размера. Но когда увидела Васиного папашу – он строился рядом с их домом, – навсегда отказалась от синих глаз. Они ей вообще никогда не попадались в жизни, все больше в описаниях, а тут как увидела!.. Кому ж они нужны – такие синие? Он часто был выпивши, и тогда глаза у него плавали, как у сиамской кошки… К зиме дом при помощи снятых с производства рабочих был выстроен. И тут приехал на каникулы Вася. Сколько о нем до того было разговору! «Наш умница сын», «Наш красавец сын», «Наше чадо», – это его мать. Полина не знала тогда, что такое чадо… Вообще же ей соседи не нравились. Не нравилось, что строили они дом не сами, но мать сказала, что человек, который копает шахты, для их города – сейчас все. Старые, царские уже истощаются. «А то я не знаю, – возмутилась Полина. – Где я работаю, по-твоему?» – «Ну вот и понимай тогда», – сказала мать. «Зачем рабочих снимает с поверхности? Подземных небось боится…» – «Жить же ему где-то надо. Семья…»
В общем, это был бесполезный разговор. Мать ходила мыть им окна, потому что Васина мать для простой работы приспособлена не была. Была она маленького росточку, и нога у нее была тридцать четвертого размера, так что пришлось Полине в своей мечте отказаться и от маленькой ножки. Это же надо – столько негодящегося в одной семье. А тут приехал «наш умница», «наш красавец», «наше чадо…». Стрельнула на него Полина своим насмешливо-самоуверенным глазом и увидела, как он растерялся. Потом она узнала, что он пугался, терялся от всякой чужой решительности. Он ее не понимал. А Полина – ну что с нее, необразованной, возьмешь? – еще и подмигнула ему, мало того, затопала прямо по снегу к их новому дому и объявила: «Здравствуйте, наш красавец, здравствуйте, наше чадо…»
… Вспоминая об этом сейчас, Полина ладонью прикрыла глаза и почувствовала, что краснеет. Ну что ее понесло тогда через снег? Валенки были коротенькие, набрала в них тут же, а ведь ей бежать на работу. С мокрыми ногами мотаться с бумажками целый день. Она ведь и это непонятное «чадо» произнесла так, как это делала его мать, с каким-то твердым, негнущимся «ч». Что ей сегодня эта буква не дает покоя? А, вспомнила! Пончо! Вот как называется то, за чем она стояла в ГУМе. Пончо, а не попона… Не забыть бы, когда будет дома рассказывать. Пончо…
… Василий тогда растерялся, перестал мигать, а она, ухватившись за его руку, стала вытряхивать из валенок снег. Чувствовала, как затвердела его рука, как он замер, и нарочно надавила сильнее – как в землю врос. Мать грозила ей из окна пальцем и показывала на ходики, бежать, мол, надо, а Полина, вытряхнув снег, неохотно отпустила руку Васину, заглянула в немигающие его глаза и задушевно спросила:
– Вы к нам надолго?
– На две недели, – прохрипел Василий. – На каникулы.
– Очень приятно, Поля, – ответила она и протянула ему руку.
– Василий, – прохрипел он еще раз.
– Я на работу бегу, а вечером дома. Заходите. Соседи ведь…
И ушла. А «наш умница», «наш красавец», «наше чадо» так и остался стоять столбом. И бежала она, испытывая блаженнейшее чувство власти над другим человеком. «Я б ему снег из валенок на голову высыпала, он и то бы стоял…» Вечером он пришел, как загипнотизированный. Положил шапку на колено и сидел в пальто, а она не предложила ему раздеться, потому что приглашение снять пальто было для нее, по тогдашним ее понятиям, новым этапом в отношениях, а не просто вежливостью. А торопиться она не хотела. Так он и сидел молча, а Полина чирикала ему про всякое разное. Он приходил каждый вечер, и уже через несколько дней Полина знала, как он относится к любви, к женщинам вообще и к женитьбе в частности. Этих вопросов она ему, конечно, не задавала, но задавала другие, на которые он отвечал обстоятельно и толково. И, слушая его, Полина делала свои выводы – как переснимала рисунок для вышивки. Куда как просто. Прикладываешь рисунок на стекло, сверху кальку и рисуй. Все видней видного. Вот она и подкладывала под собственную кальку слова Василия.
– Я за строгость, – говорил он. – Наш строй самый справедливый, и если он кому не нравится, то не может быть двух мнений…
– Кому ж он не нравится? – удивилась Полина. А сама быстренько обводила: он верный, никогда жене изменять не будет.
– Я, к сожалению, еще не воевал, но я бы никогда в плен не сдался.
– А если берут? В плен? Ты один, а их много?
– Один выход всегда остается, – твердо говорил Василий, и Полина вся замирала от силы его убеждений.
Конечно, что она могла ему сказать? Все-таки он на втором курсе юридического, а у нее, как говорится, шесть и седьмой коридор. Но разве в этом дело? Она любила биографии великих людей и знала – почти у всех жены были домохозяйки. И рожали детей. Она никому об этом не говорила, потому что время сейчас другое, работать надо по совести, всем вместе строить социализм, но когда-нибудь женщины будут только рожать детей, как Наталья Гончарова, то есть Пушкина. Или мать Владимира Ильича Ленина.
Трудно вспомнить, когда она решила выйти за него замуж. Надо думать – перед самым его отъездом. Его мамаша, едва видная за забором, говорила Полининой маме слова с негнущимися буквами. Такие полуобидные слова:
– Ваша Поля нашего Васю приворожить решила. Решительная…
«Мол, хочется ей приворожить, аж взмокла вся от решимости, но где уж ей там…»
Так ее поняла Полина. И обиделась. Смеются над ней в этом доме, выстроенном в рекордно короткий срок? Слова бросают через забор, как камушки.
… Полина постучала друг об друга носочками ботиков. Все-таки не та погода, чтоб сидеть на лавочке, но встать не могла, надо было нанизать на нитку те дни – день за днем, потому что судила сейчас она себя строго за то, что вышла тогда за Василия замуж. И он, видать, тоже строго ее судил. Проехал – не посмотрел.
Какая началась паника, когда они с Василием все решили. Она ему первая предложила, а он от радости сказать ничего не может… Поплыли у него глаза, как у папаши. Как у сиамской кошки. Но верно поняла Полина, если уж он решился, то сводить его в загс, где работала Полинина подружка, было уже пустяком. Он бы сам ее поволок туда, если б в чем разбирался. Полина побежала, пошептала, сунула подружке духи «Красная Москва», т а а ж задохнулась от такого роскошного подарка, и обо всем договорились. Расписали их в полчаса. Пока папаша из шахты вылез, пока мамаша разводил а а нтимонии про то, что Полина не пара «нашему чаду», они уже топали домой со свидетельством.
– Слушай, Вася, а кто такой этот чадо? – задала она наконец волновавший ее вопрос. – Это птица, что ли?
– Чадо? – ответил молодой муж. – А какое предложение в целом?
– Ты наше чадо! – прошептала смущенно Полина. – Тебя так твоя мама называет.
– А! – сообразил Василий. – Это значит ребенок. Прежде так говорили, – и помрачнел, зная, что дома его ждут неприятности, но Полина как раз в этот момент повисла у него на руке всей своей драгоценной тяжестью, так что все неприятное тут же забылось.
Отдергивались на окнах занавески, кое-кто выскакивал прямо на крыльцо, чтоб посмотреть им вслед. «Полька-то, Полька! – клубилось в воздухе. – Что провернула! В какую семью вошла! Это уж кому какое счастье…»
– Вот такие нахальные деревенские тетки и доводят нас до инфаркта, – говорил в это время шофер Василию Акимовичу. – Видели вы, где она переходить решила? Приехала за барахлом, и сам черт ей не брат. Им бы быстрее к прилавку!
Василий Акимович молчал. Видел перед собой крепкие пальцы, обхватившие веревочку свертка. И широкое дутое кольцо на одном из них. Все теперь имеют кольца, холодильники, телевизоры. Стиральные машины уже не берут – у всех есть. Это материальное равенство всегда почему-то казалось ему несправедливым. И прихоти у всех одинаковы. Потому что деньги завелись… И ведут в очередях всякие разговорчики. Разве языки остановишь?! Он давно вывел такую закономерность: чем больше люди имеют, тем они недовольней. Вольница! И никаких авторитетов. А уж о страхе и уважении и говорить нечего. Полина всегда была такая: что хочу – делаю, как решу – так и будет. Отвела его тогда в загс. Прибежала и спрашивает: «Паспорт при тебе?» И вся история. Он пошел, он ведь ее любил, он ведь и подумать не успел, что это, в сущности, неприлично – девушке самой делать предложение. Даже был ей, дурак, благодарен, что она все на себя взяла. Если б знал… Они шли тогда улицей, и все выскакивали посмотреть им вслед. Такая там манера. И все говорили одно: повезло Полине, не ему, а ей в первую очередь… Даже мать ее так сказала. А его родители, на что были против, но повели себя достойно. «Черт с тобой, – сказал отец. – Может, оно и лучше, что она остается у нас на глазах. Будем приглядывать…» Мать, конечно, упирала на то, что Полина не учится, что она говорит неправильно, но та затараторила, что пойдет с осени в вечернюю, что кончит семилетку и будет поступать в техникум, а в крайнем случае, на какие-нибудь курсы. И обошлось. Взяли ему в поликлинике справку, что вроде неделю болел, и все было, как у людей. Уезжать было трудно, хотелось и вправду заболеть. Полина так обнимала его на станции, что у него до самой Москвы от ее рук шею сводило. Зато какая сладкая это была боль. Ему даже не хотелось, чтоб она проходила… Но прошла. Все проходит. Все.
Он ее уже не вспоминал сто лет. Если б не эта встреча… Нет… Неправда… Он часто ее вспоминает. И не потому, что любовь, сердце болит или что-то в этом роде, просто он ничего с собой поделать не может. Все, что ему не нравится, все у него как-то связано с ней. На всю жизнь она его отравила. Это ведь от них, таких, пошла (глупо, конечно, так думать, а думается) такая порода не верящих ни в мать, ни в отца… Битлы, патлы… Сегодня брюки, как пипетка, а завтра – как цыганский шатер… И она такая… А он не понял… Думал – чувство… Глупости… Юбку не успела износить – между прочим, мини, – а это когда было! – а дала ему отставку, до сих пор не понятно за что… Не стала даже объяснять… Он было хотел другим способом выяснить все про этого человека, может, и стоило кое-куда сходить, но отец остановил. И правильно сделал. А потом война началась, не до личной жизни стало. Правда, мечтал войти в их городок освободителем после оккупации. Не вышло, был на другом фронте. И вообще больше никогда там не был. Родители после войны остались в Кузбассе, куда были эвакуированы, может, и из-за того, чтоб подальше от этого проклятого места. И ведь, если разобраться, все к счастью. Жена у него – кандидат химических наук, работает в оборонной промышленности, да и он тоже человек не маленький, в Министерстве юстиции, а вот как вспомнишь, так и шаришь по карманам валидол. Обидно, потому что несправедливо. Вот сейчас он мимо нее на машине проехал, а она с покупками суетилась посреди улицы, а чувствует он себя так, вроде она мимо него проехала… Вот болтают про породу. Если разобраться (это потом и сделают), что-то здесь есть стоящее. Коней же выводят. Или свиней. А чем человек хуже?.. Для будущего очень важно, кто родители и кто вырастет. Вот таким, как Полина, детей иметь надо запрещать. Что может произойти от безответственного, безнравственного человека? Но тут Василий Акимович вспомнил своего сына и положил под язык еще одну таблетку. Конечно, его родила не Полина, а кандидат химических наук, но когда нет настоящего отбора, то уже все равно, кто родил. Потом-то все в куче. Сын ушел, тоже без объяснений. Выстроил себе однокомнатную квартиру на отцовские деньги и был таков… Не кончится добром эта вольница. Он сердцем это чувствует.
Олегу опять не писалось. Его не торопили, но, не напиши он быстро, ничего не поняли бы. Факты требовали оперативности, они же диктовали и жанр. Маленькая подтема сверху, на виду, а все остальное между строк, для умных. Минимум слов, но зато самых главных. А пока никаких не было. Стоял перед глазами нагловатый мужик-председатель колхоза, весь такой законченный и ясный в своем рвачестве, грубости и жестокости, но неуязвимый, потому что – двоюродный брат исполкомовского зампредседателя. Он так и сказал Олегу: «Ты меня лучше не трожь. Я не пугаю. Я тебе правду говорю… Руки я распустил зря, свой поступок не одобряю, но на этом поставим точку… Человек на двух ногах… Может и спотыкнуться. А если за каждую ошибку в газету тянуть человека, страниц не хватит… Это я тебе говорю по-дружески, говорю, как сыну.
Не гори синим светом, остынь». А когда Олег вернулся в редакцию, на него уже пришла «телега»: пил в станционном буфете с колхозниками запанибрата, они его хлопали по плечу, а он им обещал «вывести всех на чистую воду». «Телега» вопрошала: кого всех? На что намекал товарищ корреспондент? И звонок из исполкома тоже был. Другого рода. В этом колхозе невиданный урожай свеклы. Опыт выносят на выставку достижений, ну и, естественно, душа победы – председатель. Звонил, конечно, не брат председателя колхоза, другой человек, Олег его знал. Он еще тогда сказал Олегу: «Придется звонить твоему главному редактору». Так все интеллигентно, никаких неожиданных хуков слева. «Дай им по зубам как следует», – сказал Крупеня, прочтя «телегу». Очень дельный совет, а главное, своевременный. «Дай – и вся недолга. Что ты, неграмотный, что ли? Валяй, пиши!» А у него немота сейчас. Не-мо-та…
Олег вспомнил своего дядьку. Добрейший человек, жена его курицу зарезать идет к соседу. Дядька не может. Он даже мух не бьет, а выгоняет из избы. И этот же дядька каждый раз при встрече с Олегом рубит ладонью воздух и кричит:
– Стрелять! Других средств навести порядок нету! Напился на работе – к стенке! Украл – руби руки. Схалтурил, споганил доверенное дело – на Соловки.
Олег понимал: в дядьке воплощалась социальная воинствующая наивность целого поколения. Всю свою жизнь он не покладая рук строил идеальное общество. В семнадцатом году политкомиссар пообещал ему коммунизм непременно в течение его личной жизни, вот он и нервничает. Почему воровство? А спекуляция? А взятки? Это же получается, как у Ленина, – шаг вперед, два шага назад!
– Я тебе вот что скажу, – возражал Олег. – У каждого времени – свои болячки. У каждого возраста – своя корь.
– А зачем я жил? – спрашивает дядька. – Зачем я пуп рвал? Чтоб вырастить корь?
– Да ты в окошко выгляни, – предлагал Олег. – Ну посмотри, как народ живет!
– Мне на барахло и жратву плевать! – продолжал неистовствовать дядька. – Плевать! А в окошко мне вот что видно… Видишь, кто идет? Володя Цыбин, неуважаемый мною председатель сельсовета. Как он идет? Зигзагом. Он с начальством обмывал сегодня новую машину «Ладу», которой колхоз премировали. За что премировали? За то, что мы ловко набрехали в показателях. Куда он идет? Он идет в клуб. А в кармане у него поллитра, нет, ошибаюсь, две поллитры в каждом кармане.
Олег хохочет, и это совсем выводит дядьку из себя.
– Я когда-нибудь сам возьму ружье, – тихим, страшным голосом говорит он, – и покончу с Цыбиным.
Потом это стало навязчивой идеей – сам все решу. Олег с теткой закопали ружье в огороде. Аккуратненько схоронили в большом полиэтиленовом мешке. Три шага от груши в направлении курятника. Мысли о дядьке своим ходом притопали к двум девочкам-вожатым, которых они сегодня видели с Асей в гостинице. Начало и исход?
По возрасту – они дядькины внучки. Своих у него ни детей, ни внуков не было. В молодости они с женой обвиняли в этом друг друга. «Да я какой мужик был! – кричал дядька. – Меня колом убить нельзя было! Меня пуля не брала…» – «А мне врач справку предлагал, что гожая, – плакала тетка. – Чтоб тебя удостоверить». – «Да я тебе сто справок, каких хочешь, принесу». Полаются, полаются, бывало, да и помирятся, а теперь уже и не вспоминают об этом.
Олег подумал: а росла бы у них такая внучка… И представил ту, с косой, с очами… Что бы она деду своему сказала на его «сам все решу»? Или, когда есть в жизни живое продолжение тебя, все рассматриваешь иначе? И свою собственную точку зрения, точку зрения бывшего красного конника уже нельзя рассматривать вне точки зрения другого поколения – второго, третьего, сыновей, внуков, и ты обязан с этим считаться, потому что твои дети – это ты сам, продолженный во времени?
Но вот что мерзко получается. Этот чертов председатель из командировки – ровесник дядьки. И у него пятеро детей. Все, между прочим, с высшим образованием. И внуки. Ну и что? Ни-че-го! Кроме того, что во времени продолжился из двух худший. Мысли походили, походили и вернулись к чистому листу бумаги. «Ну что, стыдливые, не нашли концов? – со злостью подумал Олег. – Не там бродите… При чем тут дядька и пионерская вожатая с натуральной косой?.. Тоже мне ассоциации! Лишь бы делом не заниматься».
Но ни нужных слов, ни толковых мыслей не было. Вялые строки катились по листу бумаги, чернили ее, они даже делали вид, что что-то значат, но по сути были пустотой. И Олег злился. Неужели это оттого, что он лично оскорблен «телегой», неужели он до сих пор не застраховал себя от таких нападений, ведь не в первый и не в последний раз, и все-таки гнев поднимался к горлу. Внезапно Олег подумал о том, что начать материал надо с того, что у председателя массивное кольцо с печаткой. Оно, видимо, мешало ему, но снять его трудно, и председатель все время вертит кольцо на пальце, то ли пробует стащить, то ли уже привычка такая, и каждый раз повторяет одни и те же слова: «Вот чертова мода. Кто это их придумал носить? Скоро нос дырявить начнем…» Но Олег тут же отказался от этого начала. Это годилось в рассказ, если когда-нибудь на него останется время, а так кольцо это приобретало смысл только в своем денежном выражении. Ведь стоило оно недешево, и купил его председатель у попа. Поп любил старину, золотишко, меха, но это была уже другая тема, никак она с председателем не пересекалась. Вот разве только… но кольцо председатель носит на левой руке, а Костю Пришвина он ударил правой.
– Тебя к телефону! – крикнули из комнаты. Стараясь не смотреть на исписанные страницы – все не то! не то! – Олег, не садясь за стол, а, стараясь оттянуть трубку до предела, раздраженно отозвался.
– Это я, – услышал он голос Аси. – Приветствую тебя со своего рабочего места.
– А яблоки? – удивился Олег.
– Не помрешь, – засмеялась Ася. – Я начистила ведро картошки. Обойдешься. – И добавила другим тоном: – Неловко иначе.
– Понял. Ну, как тебя встретили?
– Без оваций. Я ведь человек со стороны. Модная формулировка…
– Все мы со стороны. Не тушуйся. Дамы тебя еще по гороскопу не проверяли, кто ты и что от тебя можно ожидать?
– А что – будут?
– Нашу женскую половину сейчас ничего не стоит переделать в академию оккультных наук. Машинистки не успевают перепечатывать разнообразные материалы с того света… Скоро сама все увидишь…
– Забавно…
– Главное, выясни, кто ты из зодиаков – Телец или Стрелец. От этого и танцуй по правилам.
– А ты кто?
– Забыл. Но что-то безобразное. К Марише поедем вместе?
– Я поэтому и звоню. Зайди за мной около семи.
– Ладно, зайду. Олег положил трубку, собрал исписанные листы и бросил в корзину. «Начнем сначала, – сказал он про себя. – Пойдем по новой».
– Не идет? – спросил Валерий Осипов, коллега по отделу. – Может, плюнешь сегодня? Хочешь, я тебе для настроения пару шикарных писем подброшу?
– Сгинь! – тихо сказал Олег.
– Понял, старик! – И Осипов уткнулся в письма.
«Хороший парень, – подумал Олег. – И Аська – хорошая девка. И Мариша приехала. Хорошо, что мы тут все вместе. Надо начать встречаться. А то мы, как рыбы в редакционных аквариумах, сдохнем. Ну, сволочь с печаткой, иди-ка сюда… Ну, расскажи-ка мне, расскажи, какой ты и как ты дошел до жизни такой?»
И кудреватые буквы побежали по чистой странице.
– Где же ты пропадала? – кричала матери Мариша, когда Полина наконец добралась до дверей ее новой квартиры.
– Я же тебе говорила, что Сене надо купить шерстяную рубашку, он после плеврита слабый… Вот и пошла искать.
А там давали – посмотри сама – вот эти пончи… Я же чуяла, что Светке такое хотелось…
– Красивая расцветка. Как раз для Светки. Раздевайся и попей чаю. Или кофе? У меня растворимый.
– Я тебе такое, Мариша, скажу, – певучим своим говорком протянула Полина, снимая ботики, – ни за что не поверишь. Я б сама, если б мне такое сказали, в очи бы плюнула. А тут – на тебе. Я своего первого чоловика бачила.
Когда Полина была взволнована, она всегда переходила на смесь украинского с русским. Мариша знала это с детства. И сейчас она с любопытством посмотрела на мать.
– Вин биля мэнэ пройихав… На машини… Такый надутый, як индюк… Я йому хотила в виконце постукать, та подумала: на биса ты мэни сдався?
– А он тебя видел? – Мариша помешивала сахар в чашечке кофе.
– Морду не повернув… Як нэ слипый, значит, бачив. Я ж рядом стояла… Ноги биля колеса…
– Пей, – сказала Мариша. – И успокойся…
– А чего мне успокаиваться? – Полина засмеялась. – Я просто удивляюсь, что так получилось… Это ж сколько я его не видела? Больше тридцати лет. Не знала, живой он или нет. На фронте ведь могли убить…
Полина не сказала, что единственная мысль, которая всю жизнь тревожила ее, была связана с войной, с фронтом. Ей казалось, что брошенный ею Василий мог во время войны с горя не поберечься и погибнуть по глупости из-за нее, из-за Полины. Никому никогда она не говорила об этом, потому что разве об этом скажешь? Начнешь говорить, и получится, что ты о себе очень много воображаешь. Поэтому сейчас она испытала глубокое внутреннее облегчение, установив, что Василий жив и что живет он, судя по машине, каракулевому «пирожку», хорошо. Значит, тогда, до войны, ничего плохого не случилось. И она с нежностью посмотрела на Маришу. Вон какая умная и красивая выросла дочка. Это ничего, что она так всю жизнь и называет ее Полей, и брат ее родной Сеня также, она их не насиловала, а относятся они к ней – лучше не бывает.
– Ты, Поля, у нас загадочная, – сказала Мариша. – Я чем старше становлюсь, тем больше тебе удивляюсь.
– Вот еще новости, – засмеялась Полина. – Поудивилась бы чему другому.
– Ты ведь отца не любила, когда к нам пришла?
– Что ты понимаешь? Вин з вамы залышився, ридных никого…
– А тебе двадцать лет, ты молодая, красивая, только что по своей воле замуж вышла… Твой поступок, Поля, прекрасен и непонятен… Поверь мне…
– Тю на тэбэ! – засмущалась Полина. – Скажешь же! Я и не раздумывала…
– В том-то все и дело… Я хорошо помню, как это было. Ты ж к нам пришла, а Сенька бросал в тебя кубики. Ты лицо закрываешь и идешь, идешь…
… Полина зажмурилась. Сенька, дурачок, целился тогда прямо в глаза. А Петр стоял и молчал. И правильно. Ведь она сама все решила. Господи, ну почему она сама всегда за мужиков все решает!.. Когда у Петра жена погибла – попала под машину, Полину из конторы послали к нему домой, чтобы помочь вдовцу по хозяйству. Ну она и пошла.
И помнит все, как сейчас. На улице была «мыгычка». Дождь не дождь, а так, мелким, мелким ситом просеянный мокрый колючий ветер. И болталось это серое сито над поселком уже который день, придавив к расхлюпанной земле черную шахтную пыль. А «мыгычкой», может, потому назвали такую погоду, что в эти дни и рта на улице не откроешь, мыгыкаешь только, если о чем-нибудь спросят. Вот ее и спрашивали тогда – куда это она идет, если ее дом совсем в другой стороне? И она мыгыкала и кивала на итэ-эровские дома, туда, мол, и иду. Хватало и этого. Она поднялась по приступочкам и постучала в грубо окрашенную дверь. Ей сразу открыли. Она потом все переживала, как же это так: дите ее не спросило, кто стучит? Открыл хлопчик, а сам стал в сторонку – заходи, мол, и бери, что хочешь. Полина ничего мальчику не сказала, чего его пугать, лучше с отцом поговорить, вошла – и тут же во все влюбилась. Мариша говорит: ты ведь отца не любила. Что она понимает, дурочка, хоть и у самой уже дочка? Вроде любовь знает одну дорогу и только по ней может прийти. Глупости! Никогда не знаешь, где это тебя подстережет. Вот она ведь была уже опытная женщина – муж-то у нее был, что еще нужно бабе знать? И сюда шла за детьми присмотреть, кое-чего сготовить, а оказалось – пришла за судьбой? За долей, как говорила ее бабуся.
Книжки здесь стояли по стенкам. Как в библиотеке. Полин а а ж ахнула. Читать она любила больше всего на свете, читала все подряд. Когда приходила в шахтную библиотеку, у нее в горле ком стоял от предчувствия чего-то необыкновенного. Ей хотелось плакать, когда она смотрела на портрет Пушкина. Такой он красивый, такой умный, гордый. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» Это ей, Полине, здравствуй, а дальше так грустно, с такой жалью: «Не я увижу твой могучий поздний возраст…» Всегда у Полины навертывались на глаза слезы, когда она читала эти слова на библиотечном плакате. Не он увидит… Почему это хорошие люди так мало живут? И в доме инженера тоже был портрет, только не Пушкина – Чехова. Полина узнала. «В человеке должно быть все прекрасно…» Это тоже висело в библиотеке. Она пошла прямо к книгам. Наклонив голову к плечу, стала читать корешки. Радовалась, когда узнавала знакомые фамилии: Мопассан, «Милый друг». Три месяца стояла в библиотеке в очереди, пока дождалась, но книга ей не понравилась. Как-то неподробно, галопом написано. Столько всего не сказано по одному случаю, а уже читай про другое. Петр, уже потом, очень смеялся: «Что же ты хотела еще узнать?» – «А вот это!» И Полина начинала рассказывать. «Вот видишь, – говорил Петр, – ты сама все знаешь». – «Но это же я предполагаю! – сердилась Полина. – Этого ж не написано! А я люблю, чтоб и как ели, и как были одеты, и о чем думали сначала и что думали потом…» Такая она была дурная в тот день, когда, наклонив голову, как птица, читала корешки инженеровых книг, а на нее внимательно смотрели две пары глаз – мальчишечка, тот, что дверь открыл и не спросил кому, и девчоночка, годочков двух, толстощекая да румяная. А потом глазом наткнулась на фотографию женщины в черненьком беретике, надвинутом на левую бровь.







