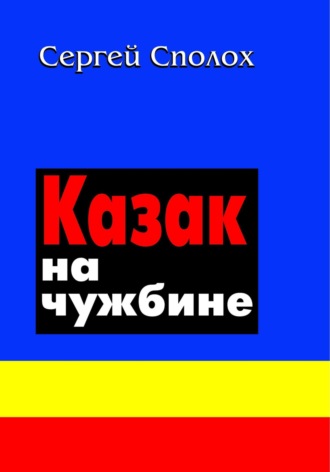
Сергей Сполох
Казак на чужбине
– Пошли искать, может в комендатуре чего выпишут, – размышляя на тему где и когда они будут грузиться на пароход, потащил он за собой верного Новоайдарскова.
Комендатура была занята, говоря военным языком, пресечением грабежа и обеспечением посадки собравшихся на пристани с чудовищной быстротой казачьих полков и частей иных родов войск.
Раздосадованный неудачей Антон вышел из комендатуры, в которой никому совсем не было дела до красных пленных.
– Ну что? – спросил догнавший приятеля по дороге Сергей Новойдарсков.
– Комендант ответил уклончиво…
– Это как же? – не понял Сергей.
– Да послал меня за три моря.
– А-а-а, – понятливо протянул Новойдарсков, – так мы ж всего за одно море собрались?
– Вот он и сказал, что у него сейчас совсем другие, морские, заботы, и чтобы мы всё искали сами. Может, говорит, кто-то поделится.
– А если нет? Нашел, дураков, делиться-то!
– Тогда сами возьмем, что, впервой что ли?
Антон зло сплюнул себе под ноги, и они пошли искать себе и пленным пропитание хотя бы до начала погрузки. Сперва они забрели в винный подвал, тут же, рядом с комендатурой.
– Что там?
– Мускат, по духу крымский.
– А то, какой еще? Приедем в станицу, расскажем всем как по колено в мускате крымском стояли.
– Ну-ка, хлебни, духмяный-то какой!
– Да уж, хлебнул.
Причмокивая губами, покрякивая от удовольствия, выпили из цибарки, на всякий случай прихваченной из обоза.
– Вина, хоть коней пои…
– Да-а-а, только кони не с нами.
– Давай подконвойным дадим, всё ж люди, хоть и красные.
Швечиков с Новоайдарсковым совсем случайно и неожиданно быстро для себя раздобыли хлеба у какого-то растерянного интенданта, и потащились груженные добытым продовольствием к дальнему углу бахчевой пристани, где их дожидались казаки сотни и кучка оборванных и полураздетых подконвойных красных пленных.
Старшим у пленных был седой, с вислыми усами, похожий на сельского кузнеца, бывший красноармеец. Он как мог успокаивал бедолаг, которые переживали о своей дальнейшей участи. Он и сам понимал, что при таком столпотворении в порту с ними могут возиться до первой стенки, благо их здесь не перечесть. Поэтому, пленные обнадеживающе обрадовались, когда увидели, что им несут на старом одеяле хлеб, да еще стали разливать кому в кружки, а кому и просто в ладони красное вино.
И казаки, и пленные насытились, разомлели. Шашки конвоиров были вложены в ножны, а винтовки составлены в козлы, правда, на почтительном удалении от группы пленных. Когда согрелись вином, потянуло на откровенные и рассудительные разговоры. Особой злобы ни с той, ни с другой стороны уже не чувствовалось. От вынужденного скучного ожидания и безделья сначала перебрехивались ничего не значащими фразами. Затем, как и водится, разговор пошел посерьезнее и покрупнее…
Один из пленных красноармейцев примиряюще рассуждает:
– Вот если б вы казаки свои, казачьи, порядки стали уставлять по российским волостям и уездам, то мы б за вами пошли… Ей Богу, пошли бы. У вас ведь много хорошего! И земля, чтоб по справедливости была поделена, и начальство промеж себя выбирать, да чтоб воли, как говорится, поболе. А так как, эти… – поморщившись, он осуждающим кивком показал в сторону пристроившихся невдалеке добровольцев – марковцев и дроздовцев.
Затем продолжил:
– Они ж за собой помещиков и колонистов приволокли, а те за шомпола и по дворам все стаскивать обратно в свои усадьбы. А тех, кто не отдавал растащенное добровольно, того, сами знаете, как оно было по законам военного времени…
Новоайдарсков, пристукивая себя по колену нагайкой, обдумав услышанное, беззлобно пробасил:
– У вас у всех еще будет возможность узнать до конца все нутро этих социалистов. Жену-то свою на всю жизнь после первой брачной ночи не узнаешь, так и с ними. Обещают много, но обещаниями мы все дюже перекормленные.
В спор вступил упрямо молчавший до сих пор седой красноармеец:
– А как же пословица: «Стерпится – слюбится?»
– Не то, что любить, терпеть невозможно! Даст Бог, продержимся… Появятся у нас силы и не бросят нас французы. Тогда может не только к вам в Таврию, но и на свой Дон вернемся. Мы тогда пра-а-а-вильно все дело поведем, и так поведем, чтоб было без повторов ошибок. Нам бы только продержаться…
– И что, сразу же за шомпола, за винтовки и… пли?!
– Но-но, ты, давай, не агитируй. За агитацию в боевых порядках знаешь, что бывает. Особливо с пленными.
– Какие у вас боевые порядки? Эти, что ли? – седой красноармеец кивнул головой на забитую толпой соседнюю пристань, где шла погрузка на баржу.
Обвешанная гроздьями людей, она никак не могла отчалить. Каждый норовил хоть как-то вползти ужом, протиснуться на палубу, в трюм, сидя, стоя. Как угодно и куда угодно, лишь бы уплыть…
Крики, яростная ругань, вопли и стоны придавленных разъяренной толпой слились и перемешались в один сплошной ураган из человеческих страстей: от безысходного горя и страха, и до бурной радости от того, что удалось попасть на корабль. Когда же сдерживавший безжалостный напор толпы взвод дроздовцев был вплотную приперт к краю пристани, у молодого командовавшего этим взводом поручика, не выдержали нервы.
– Штыки к бою!
И дроздовцы, примкнув штыки к винтовкам, наставили их на напирающую толпу. Казаки сотни Швечикова, тоже на всякий случай взяли шашки наголо, а винтовки наизготовку. Баржа медленно переваливаясь то на левый, то на правый бок, отошла от причала.
* * *
Серые шинельные ленты из людей ползли и ползли к кораблям мимо бивака гундоровцев на бахчевой пристани. Сотню Антона Швечикова никак не отправляли для погрузки на старую, растрепанную и мигом распухавшую от пассажиров баржу, которая сновала между портом и пароходом «Екатеринодар» И казаки, и пленные красноармейцы стали волноваться.
Молодой казачок Миша Дергачев залез на крышу соседнего здания и стал оттуда докладывать Антону Швечикову обстановку:
– Грузятся все. Кораблей десятка два. Одни далече стоят, а другие у причала.
В это время действительно шла погрузка Донского корпуса на пароходы «Екатеринодар», «Россия», «Поти», «Самара», «Мечта» и «Феникс».
Толпой беженцев штурмовались и небольшие корабли, стоявшие у причальных стенок. Проклиналась судьба… Проклинались красные… Страх остаться в Крыму и попасть в немилость победителям, пересиливал страх погибнуть в открытом море на суденышках, на которых если и можно было куда то дойти, так это до ближайшего Таманского берега. Некоторые из этих корабликов даже не имели названий, а только номера. Одна из таких посудин, переполненная людьми, накренилась в сторону берега, и чтобы спасти ее от перегруза капитан дал команду:
– Руби концы!
Толпа охнула. Старый священник Отец Евлампий, притиснутый толпой к борту проговорил:
– Словно пуповину отсекают. Слава Богу! Отчалили. Слава Богу! Не остались…
* * *
Не остались на берегу и казаки швечиковской сотни. Изрядно переволновавшись, они наконец снялись с пристани и оказались на пароходе «Екатеринодар». Вконец измученные погрузкой, стали устраиваться и обживаться в дальний путь.
Прилаживая под голову переметную суму, Антон заметил тощего воробья, пытавшегося забиться под железный карниз над иллюминаторами парохода. Воробей также как и люди отчаянно штурмовал занятую другим воробьиным семейством застреху. Бился с хозяином застрехи, воробьем, своими легкими крылышками, выставляя вперед лапки с коготками.
– Ну ладно, нас прогнали и мы куда-то на этом корабле поплывем, а ты воробышек, чем перед новыми властями провинился? Вроде бы даже твои дальние родственники, жиды, власть теперь в стране держат, а ты все туда же, на чужбинку.
Антон удобно пристроился на бок, и толкнув Новоайдарскова добавил:
– Может там овёс для него будет получше, и клевать там чего больше? Но сдается мне, что вряд ли. Оставайся пока не поздно…
И они с Сергеем стали прогонять воробья, но тот упорно возвращался и возвращался.
– Пущай плывёть, божья тварь, – увидев настойчивость строптивой птицы, сказал давний друг Антона, – всё ж веселей будет на этой железной байде.
* * *
Погрузка войск заканчивалась. Суда вышли на рейд и стали на якоря. Черный дым, пароходы угольного цвета, ставшие носом в открытое море, всё это напоминало траурную похоронную процессию с огромным количеством участников в ней. По кораблям уже мгновенно разнеслось, что караваном они идут Турцию, в Константинополь. В легкой туманной дымке с правого борта судов как на ладони был виден живописный крымский берег. Все смотрели на исчезающий в их жизни, тающий на глазах город и уменьшающиеся вдали изгибы покидаемого родного берега! Крестились, шептали «Отче наш». Вопрошая при этом: «За какие наши грехи тяжкие столь суровая плата?»
А после молитвы добавляли: «Прощай, Родина! Прощай, Россия! Больно, невыносимо больно…!»
Молодой казак Дергачев, любивший всё разведывать, поднялся к самой дымовой трубе парохода «Екатеринодар», и, вернувшись оттуда доложил Антону Швечикову, что рядом стоит целый плавучий городок в двадцать пять кораблей.
Один катерок быстро сновал между ними. Он словно жеребенок в конном табуне бегал между кобылами – матками и искал свою кормилицу. Некоторые корабли напоминали старых и больных людей. Отхаркивали воду из сливных труб чуть выше ватерлинии. Кашляли черным дымом, натужно сдвигались с места как больные со своих кроватей. Заклепки этих кораблей того и гляди могли при качке высыпаться из их изношенных тел и разлететься по палубе, как шрапнель по полю боя. Эти старые и слабые суда старались не перегружать, а нагружали сверх всякой меры и разума пароходы получше. Это привело к тому что на «Екатеринодаре», где находился Донской гундоровский полк скопилось более пяти тысяч человек.
Когда с «Екатеринодара» и с других кораблей, ввиду большого перегруза, стали сбрасывать войсковое имущество и ссаживать пленных, возмущенные командиры полков обратились с жалобой на произвол к своему начальнику дивизии генералу Гусельщикову.
Гусельщиков, хладнокровно выслушал в другое бы время крайне разумные и обоснованные претензии. Пожал плечами и уклонился от прямого ответа:
– Сотней командовал, полком командовал, дивизией командовал, корпусом и то командовал, а вот кораблем – никогда. В морском деле – не знаток, и я не знаю, как поведет себя перегруженный корабль, не знаю, что с ним будет в открытом море. А пока – часть казачьих полков на берегу и нам нужно погрузить казаков. Если мы сейчас не послушаем капитанов – наши люди останутся на незавидную участь.
К ненужному имуществу сразу же отнесли ящики, вокруг которых все время бегал и суетился начальник противогазовой службы дивизии полковник Данилов.
– А если газовая атака, что тогда? – кричал, становясь бурым от гнева Данилов.
Комендант парохода хрипел ему уже давно сорванным при посадке голосом:
– Какая газовая атака? Не будет пока ни газовых, ни простых атак! Надо, чтобы мы как котята в ведре утопли? Всё лишнее сбросить за борт!
За борт полетели почти все ящики начхима, и только три ящика с блестящими запорами он категорически не дал сбросить.
– Не дам… – неестественно спокойным голосом заявил Данилов, усевшись на самый большой из них, – это особо секретное военное имущество. Оно поможет нам снова в Россию вернуться.
– Ну, если особо секретное, да и к тому же предназначено для нашего возвращения, то пусть остается, – тоже почему-то стихнув, согласился комендант и отправился руководить сбрасыванием ящиков со снарядами с кормы парохода.
Начальник, оказавшейся на всем протяжении гражданской войны ненужной службы, успокоившись, постелил на оставленном ящике свой полушубок и сел за писанину – составлять акт об уничтожении вверенного ему военного имущества.
* * *
Капитан парохода «Феникс», стоявшего ближе всех к берегу, неожиданно получил приказ вернуться в порт, где должен был выгрузить разное имущество и высадить на берег пленных красноармейцев. Когда вереница пленных стала сходить на берег, вслед им с корабля понеслись свист, насмешки и улюлюкание. Отец Евлампий, облокотившийся на поручни, сердито пророкотал:
– Что вы им кричите, православные? Это ж, вы, от бессилия. Вы себе свистите! Победители-то они, а не мы. Это они остаются со своими, в России, а мы – уезжаем.
И, вздохнув, добавил:
– Да к тому же неизвестно куда.
– Всё известно! Едем в гости к французскому президенту и на постой к английскому королю. Вот такой расклад…
– Расклад-то расклад, да кто ему рад!
Один из пленных красноармейцев сходить отказался. Его вызвали к коменданту корабля, и он объяснил, что после боя, когда его взяли в плен, он указал на комиссара, и возврата ему теперь нет.
– Хорошо, оставайтесь, – и комендант обратился к пленным:
– Кто еще по каким-либо причинам не может сходить на берег?
Из кучки пленных вышло трое, явно полубандитского вида, расхристанных и одетых кто во что горазд.
– Эти от зеленых перебежали, – подсказывает, стоящий рядом с комендантом офицер. – Думаю, что им вообще теперь некуда деваться. На всех трех сторонах насолили.
Комендант тихо дает своему помощнику команду:
– Всех четверых под особый надзор! А так, была б моя воля, я б по-другому места освободил…
У «Феникса» довольно скоро начались неполадки с машиной, и к тому же показалась течь. Матросы на пароходе, подгоняемые боцманом, забегали, засуетились. Сойдя на берег, механик сразу же побежал к коменданту порта, прихватив с собой двух матросов из машинного отделения, и пять казаков для охраны. Те сходить не хотели, а вдруг не возьмут на пароход снова. Матросы из пароходной команды их успокаивали:
– Да возьмем, возьмем, а вас – в первую очередь! Без механика куда же? Он знает, что и где взять для ремонта. Куда же без него? Да без него никто с места не сдвинется!
– Правильно, без механика вы никуда, а без нас и обойтись сможете, – и казак показал на серое шинельное море на пристанях.
Только на следующее утро, «Феникс» после небольшого ремонта, тяжело загребая винтами совсем не прозрачную черную воду, дав пронзительный прощальный гудок, вновь отвалил от гудевшей на все лады пристани.
В покинутом порту горели костры из казачьих седел. Увидев это безобразие, помощник гундоровского станичного атамана Лунченков Фотий Петрович возмутился, расстроился:
– Ох, как же преобразилось казачество! Побросали лошадей, повозки, свое имущество в бою добытое, а теперь еще и седла жгут в кострах. Седла, понимаешь! Седла! Они ж за кровные копейки покупались!
Ему поддакивал, кивая седой, давно нечесаной головой, неопрятного вида дедок Григорий Иванович, тоже гундоровец, всегда старавшийся находиться рядом с помощником атамана:
– Что седла, что имущество? Страна горит, все начинает прахом проходить!
Глава 8
Начальника Третьей Донской казачьей дивизии армии Врангеля Гусельщикова Андриана Константиновича донская пресса времен гражданской войны окрестила «стопобедным генералом».
Для того, чтобы прибавить ему авторитета и казачьей любви, использовали и другой эпитет: «истинно народный генерал».
Сам он из скромности не соглашался с подобным возвеличиванием. На заседании Донского войскового Круга в Новочеркасске так и заявил, что, дескать, часто о нём говорят и пишут гораздо лучше, чем он сам о себе думает.
Родился Андриан Константинович на исходе лета 1872 года в небольшом казачьем курене в хуторе Станичном Гундоровской станицы. Прямо у ограды его подворья протекала быстрая степная речушка Большая Каменка. На самом деле, она только по названию на карте была большой, а так, в каждодневной жизни – неутомимая кормилица, чуть больше ручья, несла хуторянам влагу, давала рыбу и раков, и даже вращала мельничные жернова.
В детстве маленького Андриана чуть не поглотили весенние воды коварной и петляющей Каменки. От мостков оторвало старую байду, в которой он сидел и наблюдал за разливом реки. Байду ударило об упавший в речку тополь и перевернуло. Целый час маленький казачок просидел на днище байды и кричал слабым мальчишеским голосом, чтобы его спасли. Ему повезло и в предвечерний час, прибежавшие соседи вытащили почти окоченевшего мальчишку из холодной весенней воды. С тех пор, глубоко в душе Андриана был постоянный, непроходящий страх перед водой, а уж перед морской – тем более.
* * *
Довольно поздно, в двадцать один год, он попал на службу по наряду в Десятый Донской казачий полк в польский городок Замостье. Вернувшись через три года после службы в родной хутор, и пробыв в родных краях еще столько же, он снова отправился на военную службу, и уже в двадцать семь лет, когда ровесники погоны сотников примеряли, Андриан только поступил в Новочеркасское казачье юнкерское училище. Так, будучи уже тридцатилетним, он стал хорунжим, юным которого назвать язык никак не поворачивался.
Военная карьера казачьего офицера Гусельщикова была неспешной, как путь тяжело груженого воза, поднимающегося на крутую гору над хутором Станичным. Совсем не так, как у некоторых его сослуживцев, чья военная карьера, напротив, неслась как беговая коляска на Ростовском ипподроме.
В 1914 году Андриан Константинович вступил в войну в чине подъесаула. Воевал в 52 полку, знаменитом и именитом полку резерва гвардейских полков. Но каких-то особых подвигов не совершал, и о нем, как о других гундоровцах в газетах не писали. С войны вернулся войсковым старшиной, и это – в сорок пять полных лет.
И вдруг, закружил вихрь гражданской войны. Прямо в станице в марте 1918 года вспыхнуло восстание гундоровских казаков, и он стал одним из его руководителей. Сформировал гундоровский полк. Больше пяти тысяч казаков поставил в строй. А ведь та стихийная мобилизация проходила после трёх лет тяжелейшей войны!
Затем, в мае 1918 года – бои на Батайском фронте, соединение с добровольцами, война за донские грани в Воронежской губернии осенью и зимой того же восемнадцатого года. Дальше: и тяжелые бои, и совсем нелегкие победы. Были, конечно, и жестокие поражения, но донские газеты того времени предпочитали об этом помалкивать.
В чинах Гусельщиков продвинулся от войскового старшины до генерал-лейтенанта, а в командном положении – от командира отряда повстанцев до командира казачьего корпуса. Корпусом, правда, командовал чуть больше полугода. На полях Северной Таврии снова принял казачью дивизию, в составе которой неизменно был его родной Донской гундоровский георгиевский полк.
И вот он на крымском побережье, в Керченском порту, на борту уходящего из России парохода «Екатеринодар». На немолодом лице накопившаяся, особенно за последнее время, усталость. От повеявшего с берега тепла, он то снимет генеральскую папаху с совершенно лысой головы со светло-бежевой кожей, то оденет. Со стороны может показаться, что снимает он свою папаху как при виде покойника. И вид у него такой же, как при прощании с родным и близким человеком. Затем генерал приободряется, понимая, что его настроение передается и подчиненным казачьим офицерам, разместившимся рядом с его генеральской каютой, и начинает отдавать резкие и решительные команды.
* * *
Пароход, на котором оказались гундоровцы, ранее числился в пароходстве как зерновоз и был предназначен для перевозки зерна и муки. При отправке эвакуированных из Керчи все палубы и трюмы этого добросовестного морского труженика были забиты пассажирами; да и спасательные шлюпки, пароходные трубы, все трапы и площадки, были облеплены людьми сверх всякой меры. А вообще, могла ли быть какая-то мера для спасающихся от неминуемой гибели людей? Некоторые казаки предусмотрительно привязывались, боясь, что их во время качки сбросит в море.
Для прощания с сушей все, кто мог покинуть свое место без опаски, что его не займут другие, сгрудились у правого борта и стояли там вполоборота, буквально прильнув друг к другу, до тех пор, пока плоскость берега не скрылась совсем. Сначала берег с невысокими горами был похож на каравай на обеденном столе, потом уменьшился до размеров горбушки, а затем, под плач женщин и проклятья казаков, вовсе его тонюсенькая пластинка растворилась в морском тумане.
* * *
От волнений и пережитых страданий при посадке на корабли никто поначалу не хотел ни есть, ни пить. Но уже на второй день пути выяснился большой недостаток воды, хлеба и вообще – любого продовольствия. Не было возможности на всех готовить горячую пищу. Команда парохода была рассчитана на обслуживание всего полутора сотен пассажиров, а их на борту оказалось в тридцать с лишним раз больше. Началась массовая жажда. Со всех сторон слышалось:
– Воды! Воды!
Пробовали пить морскую воду, подслащивая ее сахаром, но это только усугубляло страдания.
– Воды! Воды! – доносилось с палуб и трюмов.
На носу парохода был организован небольшой лазарет, но обращавшихся по поводу жажды было так много, что военный врач Александр Иванович Безрукавый, только и успевал повторять:
– Вода только для тяжелых больных. Остальным советую терпеть.
– Да сколько ж терпеть! Разве ж это можно вынести?
Наиболее бойкие казаки пробились к генералу Гусельщикову:
– Мы погибаем от жажды, господин генерал, сделайте что-нибудь!
Он ответил как всегда кратко:
– Пить нет ни у кого. И у нас в генеральской каюте тоже. Мы также живем по общей выдаче – два стакана в день.
Отсутствие хлеба не так беспокоило казаков как отсутствие воды. За годы гражданской войны им не раз приходилось голодать, но вот чтобы пить было нечего, так это действительно было в первый раз. Те казаки, которые смогли в порту набрать в баклажки воду, отчаянно её экономили. Разбившись по двое-трое, они караулили, прятали свои баклажки под грудой имущества и пили драгоценную воду мелкими глоточками в сторонке, подальше от завистливых глаз. Внезапно на корме завязалась очередная словесная перепалка:
– По три бульки пить.
– А в морду, тебе, в придачу не дать? Тебе ж сказали – по три бульки на глотку. А ты? Буль, буль, буль и еще три буля. Так и все без воды через тебя останемся.
Тем не менее, несмотря на постоянные стычки между пассажирами этого горемычного транспорта, мало-помалу все как-то приспособились к этой немыслимо тяжелой пароходной жизни. Кто-то спустился в душный, но теплый трюм; большинство же пыталось устроиться на палубе, на воздухе, который сначала был свежим, а потом, когда заштормило, стал резким и нестерпимо холодным.
В тесном, набитом людьми трюме полутьма. Рядышком расположились, сбившись в плотную кучку есаул Антон Швечиков, его друг сотник Сергей Новоайдарсков, вечный вахмистр, как он себя всегда называл, Николай Власов, писарь Михаил Фетисов и Устим Брыков с неизменным прозвищем Дык-Дык. Попозже к ним присоединился подхорунжий Гаврила Бахчевников. В трюме постоянно ходят люди… Одни кого-то ищут, другие выискивают местечко для себя. Все время слышится досадное шипение потревоженных.
– Да осторожней вы там, шатаетесь и шатаетесь… И всё по ногам, и по ногам. Отдавили уже всё.
– Язык тебе надо отдавить, говорун. Не от хорошей жизни бродим.
– А где она хорошая жизнь?
– В станице осталась.
– Да там такая жизнь, не приведи Господи. Лучше в этом железном коробке, чем в деревянном.
– Как же? Новые власти на деревянную домовину на тебя тратиться не будут. Им дров и без того не хватает.
Когда снимали с уставших и растертых ног сапоги и скидывали взопревшие шинели, то дорожная влажная духота и сапожная вонь снова и снова начинали вытеснять многих нетерпеливых на человеческие запахи наверх, на палубы. Движение и перепалки, проклятия измученных казаков начинались вновь с удвоенной силой…
Ближе ко времени обеда, когда по долгожданной команде наконец-то начинали раздавать по стакану пресной воды на человека, сразу же у всех усиливался злой, мучительно долго не отпускающий голод. Из муки, которая была на всякий случай припасена почти в каждом казачьем чувале, хозяйновитые казаки стали делать себе лепешки без всякой опары и во всех видах посуды, что находилась под рукой – от котелков – и до цибарок. Место у пароходных труб сразу назвали кондитерской. Заранее замешанными и наспех приготовленными лепешками плотно облепляли пароходные сигнальные трубы и, тщательно оберегая каждую лепешку от чужих посягательств, дожидались гудков. Морякам кричали с «кондитерской»:
– Эй, там, на мостике! Дай свисток, да так, чтоб в родной станице услыхали!
Высушенные сначала паром, а затем на воздухе лепешки казаки называли «чухпышками». Серые от пароходной пыли «чухпышки» пропекались только сверху, оставаясь внутри безнадежно сырыми, и от этого, те кто их ел, маялись и корчились от нутряной боли животами.
Но как только караван судов входил в полосу тумана, пароход начинал отчаянно сигналить, и дела в кондитерской шли на поправку.
* * *
Полковник Шевырев со своей тринадцатилетней дочерью Варей первую ночь пути провел на палубе. Варечка спала на кипах стриженной овечьей шерсти, за которыми Шевыреву и его спутникам было поручено присматривать. Александр Николаевич укрыл дочь своей шинелью. Варя во сне все время вытягивала ноги, и сновавшие по проходу пассажиры натыкались на них и постоянно будили девочку.
Шевырев за всю ночь ни разу не сомкнул глаз. Утром он выпил полстакана воды, а остальное – отдал дочери и мгновенно заснул. Водяные валы раскачивали судно, и во сне полковнику почудилось, что он в своем родном хуторе с названием, созвучным его фамилии, и едет на возу с сеном. Воз то опустится в степную балочку, то взметнется на бугор. Когда Александр проснулся, то еще почти в полном забытьи спросил:
– Куда ж так гнать, сено растрясете!
– Папочка, какое сено?
– Да мне, доченька, приснилось, что я в нашем хуторе и на возу с сеном. Понимаешь, с нашим, пахучим степным сеном с улешей по над Каменкой и еду, и еду по буграм. А тут, вон, видишь какое сено и какие бугры.
Качка усиливалась. Многих стало мутить. До сделанных наспех из деревянных плах обтянутых брезентом временных нужников, часто не добирались. И это добавляло страданий остальным. Шевырев сказал дочери:
– С палубы на ночь надо уходить. Здесь уже никак не возможно… И холодно и сыро. Брызги, и не только с моря, вон уже куда летят, – и он показал в сторону временных нужников.
Ночью шторм усилился. Волна была такая, что, казалось, могла перехлестнуть через весь корабль и смыть всех находившихся на палубе. Кочегары выбились из сил, и к топкам по очереди стали спускаться казаки:
– Так моряками станем, с конями простились, за лопаты взялись.
– Ничего братцы, для себя стараемся. Механик что сказал? Не дай Боже, машина остановится и под волну развернет, и тогда все… Хана нам с таким перегрузом!
За полсуток «Екатеринодар» почти не продвинулся вперед. По курсу движения и сзади опадали водяные горы. Выбиравшиеся из трюмов казаки, увидев их, неистово крестились и старались быстрее вернуться к себе в трюм. Всё же нескольких казаков, самых нетерпеливых, не дождавшихся очереди во временные нужники, смыло за борт. Поступила команда из трюма выходить по одному, и пока человек не вернется – люк не открывать.
Снизу из трюма послышались крики:
– Ой, моченьки моей нету! Если так по одному, то до меня очередь к концу недели дойдет.
Варечка, обессиленная лежала на своем прежнем месте. Другого в этой давке отец пока не нашел. Под глазами у Вари круги. Сами глаза поблекли и из синих-синих стали серыми. Губы потрескались от жажды. В этом страдальческом виде она стала так похожей на свою мать Зою Петровну, которая, заразившись тифом от своего мужа Александра умерла на Кубани, во время новороссийской эвакуации. Шевырев же вопреки всем предсказаниям врачей остался в живых и уже полгода возил повсюду с собой дочь Варю. За неё теперь он и боялся больше всего на свете. Варя обратилась к отцу:
– Папа, мне надо тебе что-то в сторонке сказать.
– Да где ж найти такую сторонку?
– Ну ладно, я так скажу, – и она прижалась к уху отца.
– Папочка, мне мама говорила, что когда-то у меня начнется то, что бывает у взрослой женщины постоянно… Ты, понимаешь меня?
– Да! Да, доченька…
– Так вот папа, это здесь случилось.
– Боже ты мой, – только и успел сказать Шевырев, и корабль тряхнуло волнами так, что все подумали, что возглас полковника относился именно к этому удару.
Отец девочки заметался на своем пятачке. Сказать об этом никому не скажешь. В этом кормовом трюме ни одной женщины, они все на носу. Кто и чем может помочь в этом? Для начала надо по любому найти воды. Где ее взять, если для питья дают по два стакана в день? Александр Николаевич пробрался с очередной сменой казаков в машинное отделение.
– Это что такое? Полковники к топке решили стать? – удивился корабельный механик.
– Да нет, уважаемый! Любезно прошу вас, не откажите мне. Мне нужно полведра воды, понимаете срочно и любой воды, о питьевой я уже не говорю.
Механик не понял сразу в чем дело и хотел было поднять крик, что всем остальным по два стакана в день воды дают, а полковнику, видите ли, полведра потребовалось, но потом что-то его остановило и он сказал:
– Найду стало быть, помогу, но подождать надо пока остынет.
Он куда-то залез в закоулок машинного отделения и вынес парящей воды.
Вода плескалась, и скоро из половины ведра осталась едва ли треть.
Шевырев подошел к своему другу, есаулу Юрию Целютину:
– Понимаешь, Юра такое дело. Сейчас мы с тобой пойдем в машинное отделение, там есть одно местечко. Мы с тобой подержим шинели и отвернемся, а Варя… Ты женатый, должен все понимать.
Полковник достал из вещмешка приготовленную для перевязки на случай ранения чистую холстину и отдал ее Варе. Проходившие мимо моряки никак не могли понять, что делают два офицера на угловой площадке, закрыв от всех шинелями кого-то третьего, да такого роста, что за шинелями его почти не было видно.
Когда вернулись все трое к своему месту под трапом, Варя прижалась к уху отца:
– Спасибо, папочка!
Александр Николаевич Шевырев, казачий полковник, боевой офицер, прошедший две войны, поднялся по корабельному трапу, сел на ступеньку и долго-долго беззвучно плакал, стараясь не подать ни одного звука и не разбудить заснувшую наконец-то спокойным сном Варечку.


