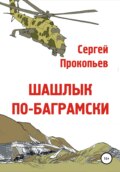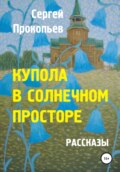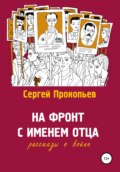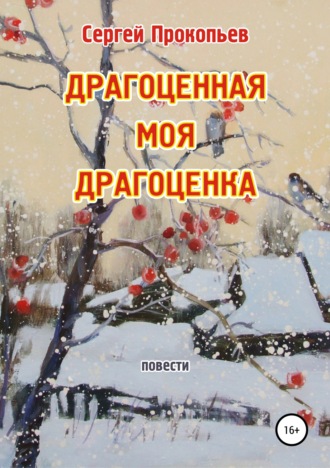
Сергей Николаевич Прокопьев
Драгоценная моя Драгоценка
Мария на всю жизнь невзлюбила имя Антон. Мужа тёти в глаза не видела, её и на свете ещё не было в период тётиного замужества, мама рассказывала: «Сколько мучилась Анна, сколько перенервничала, проплакала в нашем доме от боли, стыда, и обиды! Однажды поздно вечером прибежала к нам за помощью: “Антон забрал все мои драгоценности”».
Отец Марии взял револьвер. Он обожал оружие, любовно хранил дома шашку, револьвер, наган. Вообще был склонен к предметам барского обихода. Богатый письменный прибор, трость с искусной резьбой… Пришёл к непутёвому зятю, сел напротив него, положил перед собой на стол револьвер. Ничего хорошего не предвещающим тоном промолвил: «Антон, верни драгоценности, иначе я за себя не ручаюсь! Ты и без того поиздевался над Анной!» Получив обратно шкатулку с кольцами, колье, брошами и другими дорогими украшениями, тётя ушла от мужа. И уехала в Шанхай, где работала бонной у английского дипломата. Она прекрасно знала английский, французский, позже освоила азиатские языки – китайский и японский. «Жадные англичане, – делилась впечатлениями от работы у британцев, – богатые (у них и бонна, и повар, и бой-прислуга), а на обед сердце отварное и овощи отварные! Как можно изо дня в день есть морковку варёную?»
Наработавшись у скупых англосаксов, в конце двадцатых тётя перебралась в курортный Циндао, что на Жёлтом море. Держала полный пансион для отдыхающих. Комнаты, повар, горничная. Потом дядя Гриша уехал в Японию в Кобе и позвал сестру к себе. Дядя организовал контору по продаже садкового жемчуга, что выращивали предприимчивые японцы, заставляя моллюсков производить драгоценные шарики на коммерческую потребу.
Мария Никандровна показывала автору этого повествования нитку жемчуга, подаренного дядей, хорошо подобранный – большая жемчужина в середине ожерелья, дальше по нисходящей в обе стороны мельче и мельче. «Теперь только в руках подержать могу, – с печальной улыбкой посетовала Мария Никандровна, – шея раздалась – не сходится…»
Дядя Гриша не торопился с обретением семьи, всё невесту не мог подобрать, только в пятьдесят женился. На русской, моложе супруга на двадцать лет, что не помешало им обзавестись тремя детьми. Из Японии подались в Сан-Франциско, и там наконец-то, дядя бросил якорь. Был непоседой всю жизнь и всю жизнь мечтал, это повторял родителям Марии, это говорил ей: «Всем нам в конце-то концов надо собраться и жить рядом».
Воссоединиться родственникам не довелось. Мария уехала в Россию, в Омск. Тётя Аня в середине шестидесятых просилась к ней доживать. А куда было старушку брать? В маленьком домике свекрови на Северных улицах ютились втроём, свекровь тяжело болела.
Тётя Аня зимой внесла в комнату хибати с не прогоревшим углем. Хибати – передвижная печурка, у тёти она походила на ведро из чугуна, предназначалась для обогрева жилища, приготовления пищи. Вне дома протапливали японскую печурку древесным или прессованным углем, раздувая огонь веером… Тётя затащила хибати в помещение раньше времени (видимо, сильно замёрзла) и угорела насмерть. Нашли: стояла на коленях, уткнувшись в кровать.
Тётю Мария помнит женщиной изысканной, аристократичной, утончённой. По Шанхаю она была знакома с евреем-итальянцем инженером Джибелло-Сокко, мимо дома которого лежал путь Марии с крестом на плече. Этот дом знал весь Харбин, он стоял напротив Свято-Николаевского кафедрального собора и выделялся необычной архитектурой – в виде итальянской виллы и строился по проекту итальянского архитектора. Дом с садом окружал железобетонный забор. Тоже не абы какой: каждое звено – будто раскрытый веер с радиальными прорезями. И внешний вид дома говорил: здесь живёт богач с причудами, и интерьер, как рассказывала тётя, крикливо заявлял о себе. Тётя Аня приезжала в Харбин, когда Марии было восемь лет. На второй или третий день, нарядившись, отправилась к итальянцу в гости. Дом украшали дорогие картины, скульптуры, а на площадке лестницы, что вела на второй этаж, стояла замысловатой формы маленькая кушетка. В виде русалки. С одной стороны хвост для подлокотника загнут, с другой голова.
Тётин рассказ об этой кушетке Мария запомнила больше всего… Если ты устал, поднимаясь наверх, присядь, отдохни на туловище дивы водяного царства, а затем иди дальше. А дальше – больше. Лестница вела в обширную спальню, поражающую прежде всего стеклянным потолком. Лежи и любуйся звёздным небом. Джибелло-Сокко, был такой устойчивый слух, предпочитал наслаждаться видом созвездий исключительно на пару с блондинками. Имел слабость к данному типу женщин.
Мария как-то подумала: а ведь тётя тоже из блондинок…
У друга детства Марии – Олега Кирсанова, с которым хоронила мать, была бонна. Отец Олега работал в иностранной страховой компании. Высокий, сухопарый. Олег таким же вырос. Мать служила в японском консульстве. Когда в августе 1945-го пришла Красная армия и в Харбине начались аресты, мать Олега приготовила «тревожный» чемоданчик, с парой белья и другими принадлежностями для тюрьмы. Поставила его у двери, чтобы не обременять энкаведэшников лишними ожиданиями. Придут, а у тебя всё готово. Ведите за решётку. Людей ни за что хватали, а она работала на врага. Но то ли японцы хорошо концы прятали, бесследно документы сожгли, то ли повезло – не тронули.
Жили Кирсановы в одном дворе с родителями Марии. В детстве Олег был настоящий ураган. Мог выскочить с молотком и остервенело громить цветочные горшки, что мама Марии выставила под окнами. В воинственном воображении Олега они являли образ врага, которого следовало уничтожить до последнего черепка. Порыв праведного гнева продолжался до той поры, пока не вмешивалась бонна Елизавета Михайловна, опрометчиво выпустившая джинна из-под своей опеки. Родителям Олега в бонны для своего чада следовало подобрать поприземлённее особу – меньше горшков и окон пострадало бы от рвущейся наружу энергии переходного возраста. Они взяли утончённую чешку. По-русски Елизавета Михайловна говорила прекрасно, хорошо знала английский, которому учила воспитанника в перерывах между его проказами. Манерная, молодящаяся дама. Олега просила обращаться к ней «тётя Лиза» – пусть окружающие думают, она не какая-то прислуга, а родная тётя. Вредный Олег не всегда подыгрывал милому обману бонны… Возрастом далеко за сорок, Елизавета Михайловна носила воздушные, летящие платья, да ещё с каким-нибудь бантом сзади на талии (наряд больше к лицу молоденькой барышне), в руке корзинка с рукоделием. Смеялась жеманно, прикрывая рот длинной узкой ладонью.
Как оказалось, за жеманностью скрывался тонкий расчёт – зубы у чешки были вставные. Эту деталь она тщательно скрывала. Выяснился изъян, когда однажды рано-рано утром случился в доме переполох, бонна выскочила в ночной рубашке на крыльцо… без зубов. Паника возникла оттого, что Олег наконец-то добрался до боевого арсенала отца – пистолета – и жахнул, выстрелил боевым патроном, пока все спали. Благо не в бонну метил, а в напольную вазу. Красилась Елизавета Михайловна под блондинку, лелеяла мечту очаровать Джибелло-Сокко, соблазнить богатея-ловеласа и смотреть на звёзды с позиции роскошной спальни. Гуляя с Олегом, обязательно водила воспитанника на Соборную площадь, они прохаживались вдоль затейливого забора, что окружал дом итальянца. И дождалась своего часа: в один прекрасный день Джибелло-Сокко, выходя за ворота дома (они тоже отличались вычурностью – из металла, но ажурные, даже столбы с металлической вязью) итальянец бросил взгляд в сторону бонны и… восхитился: «Какой красивый мальчик!»
Блондинистость бонны, её платье с бантом не очаровали привередливого харбинского Дон Жуана. Потерпев сокрушительное поражение на сердечном фронте, чешка в 1939 году подалась в Америку – в Нью-Йорк. И не зря круто изменила географию. На берегах Гудзона счастливо угораздило дамочку попасть под автомобиль. Наезд окончился сломанной ногой и замужеством. За рулём авто сидел бывший офицер Белой армии. Как порядочный мужчина, он стал навещать по его вине травмированного пешехода и, в отличие от пресыщенного Джибелло-Сокко, увидел в чешке женщину…
У Марии бонны не было, папа приехал в Маньчжурию в 1914 году. Как раз накануне Первой мировой войны. Он поступил на работу на КВЖД на станцию Шуан-чен-пу, что в сорока минутах езды от Харбина. Мария Никандровна не один раз выскажет мне сожаление, что перед отбытием из Китая не съездила на эту станцию, не побродила по местам, где жили молодые родители. Китайцы так просто уже не выпускали из Харбина. В расчёт не бралось, что ты потомок основателей города. Сходи в департамент, закажи визу, через день получи, отметь её по приезду в пункт назначения, потом зафиксируй в Харбине факт возвращения. Не собралась Мария, поленилась…
«Знаете, я часто-часто мысленно бываю с родителями, – поделится со мной Мария Никандровна, – телевизор, конечно, смотрю, но вижу плохо. Ночами не спится, вот и улетаю в свой двор в Харбине к папе и маме… Поплачу, поговорю с ними, поброжу по улицам… Недавно земляки принесли журнал. В нём на всю страницу фото – Свято-Николаевский собор и окружающие его дома сняты в сороковые или пятидесятые годы, причём сверху, наверное, с самолёта… А от собора улицы в разные стороны… Сразу вспомнился эпизод: я была юной школьницей, может, первоклашкой, с папой подошли к собору, он говорит: “Это солнце Харбина”. Свято-Николаевский был построен из дерева в древнерусском стиле, с шатровыми перекрытиями. И огромный. Его рубили на Вологодчине, там искусно сделали резьбу… В 1899 году возвели храм на самом высоком месте строившегося Харбина. “Смотри, – начал объяснять папа, – ограда собора по кругу, вдоль неё дорога по кругу, и шесть улиц расходятся, как от солнышка, лучами”. Мы начали обходить храм по периметру забора, папа принялся называть улицы, створы которых поочерёдно открывались перед нами: Хорватовский или Вокзальный проспект, Николаевский переулок, Большой проспект, Старохарбинское шоссе, вторая часть Большого проспекта, Маньчжурский проспект… Запомнилось, папа сказал: святитель Николай Мерликийский – небесный покровитель Харбина».
Отец Марии работал на станции Шуан-Чен-Пу весовщиком – взвешивал товарные вагоны. Служба, в общем-то, конторская. Он обладал даром изумительного почерка. Редкий каллиграф. За почти восьмидесятилетнюю жизнь Мария ничего подобного не встречала. По тем временам ценное качество. Когда родители приехали на дорогу, китайские мужчины ещё носили косичку. И законы в стране царили суровые. Доводилось родителям видеть отрубленные по решению суда головы. На дороге, соединяющей районы Харбина – Пристань и Новый город, через железнодорожные пути перебросили в 1904 году деревянный, покрытый деревянной мостовой конный виадук. В 1926-м дерево заменят на железобетон. И по сей день Конный виадук с его величественными фонарями по обеим сторонам исправно несёт дорожную службу в суперсовременном многомиллионном Харбине. Во времена деревянного виадука, как рассказывали Марии родители, на нём в специальной клетке выставлялись отрубленные китайские буйные головы, при каждой доска с иероглифами – за что отделена головушка палачом от туловища в назидание тем, у кого ещё покоится на плечах.
Платили на железной дороге поначалу золотом, сразу родителям предоставили жильё в Шуан-Чен-Пу – квартиру. Семь лет отец работал на этой станции, пока не заболел. Служба не от сих до сих, могли вызвать в любое время дня и ночи по прибытии вагонов с товаром. Ненормированность рабочего дня подвела в конечном итоге. Выпил дома горячий кофе, взмок в тепле, ни раньше ни позже китаец-посыльный со станции летит: пришёл состав. Разгорячённым выскочил на мороз и схватил жестокое воспаление лёгких. Отвезли в Харбин в железнодорожную больницу. Пенициллина в ту пору не знала медицина. Спасая больного, ему два ребра отпилили, гной откачивая… Поправившись, отец ушёл с дороги, родители переехали в Харбин, где и родилась Мария.
В те далёкие времена преобладали мастера-каллиграфы (профессия была востребованной), что тяжелее ручки ничего не поднимали в свой жизни, с холёными, как у музыканта, пальцами. Но встречались с точностью до наоборот. Он потому и умеет выводить буквы красиво, что руки, к чему бы ни прикоснулись, – сделают картинку. Отец принадлежал ко вторым. Уйдя с дороги, открыл мастерскую с гальваническим уклоном. Лужение, никелирование, серебрение. В основном для ремонта самоваров. Нередко приходили харбинки, опечаленные до слёз. Поспешила она, и вот результат – сердце кровью обливается. Кабы не ротозейство, радовал бы красавец и дальше зеркальным блеском, занимая почётное место в доме. Сколько лет каждый вечер собирал вокруг себя душевный круг семейства, да в считанные минуты утратил зеркальный форс. Развела хозяйка огонь – торопясь чайку испить, – а воду в спешке, так жажда понукала, забыла налить. Носик отвалился, ручки безвольно повисли… Короче, наделала делов. Одна надежда на отца Марии. Новый самовар покупать и дороже, и душа прикипела к старому. Мастер испорченный самовар разбирает, затем лудит, никелирует, припаивает детали. Двое рабочих помогали отцу в мастерской, пристроенной к их небольшому домику, что арендовали у генеральши Приставкиной.
Мария в детстве любила заглядывать в мастерскую, хотя отец не приветствовал: ни к чему дочке дышать химическими выделениями. Нравилось девчонке разглядывать самовары. Были в форме рюмки – стоит этаким фертом, гранями играет, встречались широкой вазой или шаром. Самая незатейливая форма – банкой. А самая замысловатая… Так устроен человек, в любом деле ему хочется что-нибудь вычурное сотворить. Мастера по самоварам не исключение. Редко, но приносили на починку самовары петухом. Кран в виде гордой петушиной головы, гребень – ручка крана, стоит на куриных, как у избушки Бабы-Яги, лапах, крылья сложены. Петухи-самовары были небольшие, литра на три.
В мастерской имелся горн, токарный станок. Принимались заказы на водопроводные работы, отец обзавёлся всем необходимым сантехническим инструментом. Целый набор вывесок призывно красовался на воротах дома. Но в один момент все были сняты, сиротливо осталась одна – «Точу коньки». Генеральша Приставкина потребовала закрыть мастерскую, она получила предписание от властей: помещение не соответствует нормам эксплуатации подобного производства. Пришлось отцу пристройку, что сам возводил, сломать.
Через семьдесят с лишком лет после того случая Мария Никандровна скажет автору этого повествования: «Вдруг всплывает что-то давно забытое. На днях вспомнила: раздался требовательный стук, озабоченный отец вышел из дому, а вернулся с хохотом. Не может остановиться от веселья. В чём дело? Пузатенький незнакомый японец с портфелем, зубы вперёд торчат, потребовал: «Э-э-э, коняк!» «Какой коньяк?» – отец понять ничего не может. Японец своё алкогольное твердит: «Э-э-э, коняк». Ясно, что самурая обуревает желание выпить, потешить душу крепким напитком, но почему сюда обращается с нуждой питейной? Японец сердится, начал тыкать пальцем в ворота… Тут-то отец догадался, откуда японский «э-э-э коняк» возник. Подвёл азиата вплотную к вывеске «Точу коньки», спросил: «И где ты здесь коньяк видишь?»
Ещё один раз памятно военный японец к ним нагрянул, но уже другой, и не по зову вывески, а по зову сердца. Японцы в 1931 году вторглись в Северную Маньчжурию и в 1932-м оккупировали её. Рядом с домом родителей на углу Почтовой и Больничной в доме в викторианском стиле находилась японская военная миссия, а на Стрелковой в двухэтажном особнячке – жандармерия. Когда-то в этом доме размещался роддом доктора Линдера, в нём родилась Мария. «Окна были плохо заделаны, – рассказывала ей мама, – страшно дуло. Я всё боялась – не заболела бы ты».
Когда в августе сорок пятого Красная армия выбила японцев, из жандармерии выносили орудия пыток. Отец Марии присутствовал при данном акте. В подвале оккупанты оборудовали настоящие застенки. Если, к примеру, не сдал радио, как было всем гражданам строго-настрого предписано, а тебя застукали внимающим передачу из Советского Союза, хорошего не жди. Забирали радиослушателя вместе с приёмником, обратно могли отдать родственникам заколоченный гроб с категорическим наказом: немедленно везти на кладбище, при этом не разрешалось отпевать и гроб открывать, а также приглашать родственников на похороны. Бывало, выпускали из тюрьмы с азиатским тифом, который не поддавался лечению. Сделают прививку здоровому человеку, а он, выйдя «на свободу», вскорости умирал. Так поступили с товарищем отца, тоже мастеровым-умельцем – он тайком изготавливал радиоприёмники. Вёз в поезде сумку с радиодеталями и попался… Японцам везде мерещились советские шпионы. И каждый русский был потенциальным кандидатом на это звание. Отец среди орудий пыток каких только приспособлений не увидел, каких только «инструментов» колющих, режущих, сжимающих среди них не было, мороз по коже, как представишь себя в руках палача. Любопытная Мария сокрушалась – не удалось посмотреть, ворчала на отца – не позвал, посчитал, что ни к чему ей всякую жуть разглядывать.
Это случится в сорок пятом, а без малого за четыре года до этого – 7-го или 8-го декабря сорок первого японец, интеллигентного вида офицер, нагрянул к ним с возгласом на плохом русском: «Победа!» Счастливый, и коробку кускового сахара ставит на стол – праздновать викторию. Что за победа? Отца дома не было. Мама растерялась. «Пёрл-Харбор! – говорит японец. – Победа!» Мама поставила самовар… К сахару японца добавила каких-то печенюшек, попили чай за полное уничтожение японской авиацией Тихоокеанского флота США. Родители потом предположили: возможно, не от избытка распиравших патриотических чувств японец визит совершил. Скорее всего, был из жандармерии и хотел посмотреть, какие чувства у русских воспылали в связи с блестящей операцией японского оружия.
В тот день слышалось победное оживление и в доме Ковальского, высокий забор которого граничил с их двором. Дом Ковальского – роскошный особняк с колоннами. Поляк Ковальский, взявшись за его строительство, вкладывал в проект всю душу и все средства и задался целью создать шедевр. Амбиции удовлетворил: возвёл оригинальный дом, но не удалось пожить в своём детище – не рассчитал финансовых силёнок и угодил в долговую яму. В этом доме, приезжая в Харбин, селился японский принц, члены императорской семьи. А потом другие победители – маршалы Малиновский и Василевский. Когда зимой сорок пятого Красная армия спешно покидала Харбин, из дома Ковальского вывезли всё: мебель, посуду, ковры, даже роскошный в кадке фикус, которому не суждено было попасть в Советский Союз, при погрузке на харбинском вокзале замёрз в ожидании своей очереди. Потом Красная армия снова пришла в Харбин, её части эвакуировали в апреле сорок шестого из Чанчуня в Харбин. Но через полмесяца они покинули город.
Лишившись мастерской, отец распродал оборудование и в отсутствие, как сейчас вычурно говорят, жизненной мотивации, впал в депрессию, от которой прибегнул к известному способу самолечения – начал пить. «Может, императором стану!» – подмигивал дочери, открывая фигурную, книзу расширяющуюся, запечатанную сургучной печатью бутылку харбинской водки «Имперiаль» парового водочно-ликёрного завода Е. И. Никитиной (правда, на тот момент он уже принадлежал Бринерам). И пел песенку с рекламы водки: «Кого-то нет, кого-то жаль, «Имперiаль» умчит нас вдаль». Корону императорскую надеть не удавалось, хотя всё чаще и чаще «мчался вдаль» с «Евдокией Ивановной». Так тоже называли водку по имени и отчеству Никитиной. Мать поначалу увещеваниями пыталась бороться с имперскими замашками мужа, наконец, устала противостоять империализму домашними средствами, прихватив девятилетнюю Машу, пошла к доктору тибетской медицины Хвану, тот жил на Пристани.
«Доктор был монголоидного типа, – скажет мне, вспоминая этот эпизод Мария Никандровна, – дал маме какое-то снадобье, кажется порошок. Мама меня предупредила, чтобы я отцу о нашем визите к Хвану ни слова».
Мать тайком подсыпáла порошок отцу в пищу, и курс лечения принёс желанный эффект. Отец унёс из дома всю питейную посуду, ни одной рюмки не оставил, ни одной пустой бутылки, дабы ничего не напоминало о кошмарных месяцах жизни. И больше спиртное в рот не брал. Немного подрабатывал коммерцией, продавая антиквариат и восстанавливая его. Скажем, у роскошного письменного прибора из малахита разболтался винт пресс-папье, поблекла, поцарапалась поверхность, откололся край одной из чернильниц. В комплекте их три – для красных, чёрных и синих чернил. Отец нарежет новую резьбу, где надо подклеит, прошпаклюет, отполирует, и снова богатый прибор готов украшать стол состоятельного человека.
Дочь отец баловал, как мог. Покупал изящные кроватки для кукольного семейства, комодики с ящичками, шкафчики с зеркальцами, даже был детский рояль с крохотной клавиатурой – одним пальцем можно тренькать. И кукол – за неделю не переиграешь. Мария, сказывались гены путешественников (отец называл это «занозой в заднице Баранцевых»), что гнали их родню по свету, не наряжала кукол в платья. Постоянно кутала подопечных в тёплые одёжки, рано научилась рукодельничать со спицами и шерстью, вязала игрушечные кофточки, свитера, шапочки.
– Что ты охоботья на них напяливаешь? – улыбалась мать.
Мария готовила кукол не к легкомысленной прогулке, а к тяжёлой дороге.
«Я вырастала из кукол, всё реже тянуло в угол с игрушками, – вспоминала детство Мария Никандровна, – зато мама приняла эстафету. Не раз заставала её играющей. Расставляет детскую мебель, рассаживает кукол, не в мои «охоботья» наряженных, а в платья. Будто девчушка малая, возится…»
«Живой образ мамы, – добавит, – стёрся из памяти, но прекрасно вижу, как ведёт меня в детский сад. Мне пять лет, я в первый раз дежурная. Повторяю на ходу «Отче наш» и другие молитвы, что читает дежурный перед учением и после него, перед едой и по окончании трапезы».
Шли они по Большому проспекту. Частный детский сад Макаровой располагался на Новоторговой улице, перпендикулярной проспекту. На углу Новоторговой и Большого проспекта стоял крупнейший в Харбине роскошный магазин купца Чурина, на Новоторговой располагались кинотеатры «Ориант» и «Азия». В «Ориант» однажды с мамой пошли в кино – Мария уже училась в школе, – перед киносеансами, как правило, выступали певцы, музыканты, в тот день вышел Вертинский в костюме Пьеро и запел:
Я безумно боюсь золотистого плена
Ваших медно-змеиных волос.
Я влюблён в ваше тонкое имя Ирэна
И в следы ваших слёз, ваших слёз…
Спел одну лишь песню «Пани Ирэн» и раскланялся. В Харбин Вертинский приехал с концертом, он проходил в шикарном зале Железнодорожного собрания. Также его уговорили выступить в дивертисменте в «Орианте». Мария была заворожена песней, грустной и прозрачной поэзией, благородной энергией голоса. Пел рыцарь, облачённый в костюм Пьеро. Услышав одну единственную песню, Мария на всю жизнь стала поклонницей Вертинского, накупила его пластинок, и не могла наслушаться, снова и снова заводя виктролу, так русские в Маньчжурии называли патефон. Как будет жаль оставлять пластинки с Вертинским при отъезде в Советский Союз…
В детском саду всё начиналось и заканчивалось молитвой. Два раза в неделю священник проводил занятия «Закона Божьего»… И в гимназии, училась Мария в гимназии ХСМЛ – Христианского союза молодых людей, преподавался «Закон Божий». По большим праздникам ходили всей гимназией в Свято-Николаевский собор. Школа располагалась рядом с ним, на Садовой, параллельной Большому проспекту.
В моём родном Ачинске однажды наш выпускной десятый «А» сбежал с урока истории в кинотеатр «Юность» на какой-то фильм. Мария Никандровна рассказывала: они всем классом, за исключением двух опоздавших в тот день, сбежали на литургию. В 1945–1946-м учились по советским учебникам. Слыхом не слыхивали до этого о Маяковском, Демьяне Бедном, Фадееве, и вот образцы советской поэзии и прозы пришли в маньчжурские школы… Сами учителя спешно постигали новую программу, учебников не было… При японцах с 1938-го учебный год начинался после зимних каникул в январе, из класса в класс переходили в декабре, с сентября сорок пятого сделали по советскому образцу, школьный год стал заканчиваться в июне. Само собой, «Закон Божий» отменили. В церковь школа больше не ходила. И вдруг выпускной класс сорвался на Вознесение на службу, помня, что всегда на сороковой день после Пасхи гимназия стояла на литургии в Свято-Николаевском соборе, девочки по классам слева от алтаря, в белых фартуках, с белыми бантами, мальчики – справа.
Сбежали девушки с уроков – классы были «однополые», мальчишек и девчонок не смешивали – отстояли праздничную службу и вернулись в школу. Директорствовал в ней Помидор. Само собой, имелись у него имя-отчество и фамилия, Но иначе как Помидор ученики за глаза не звали. Оттого, что помидор и помидор во всех проявлениях. Маленький, толстенький. Голова лысая, шаром, золотые зубы и красный. Раскрасневшись больше обычного, принялся отчитывать прогульщиков за самовольство с церковью. Пугал: не допустит до экзаменов за политическую акцию. Грозился последствиями. И потребовал привести родителей. Те пришли, в том числе и отец Марии, отнюдь не с повинной за самоуправство детей, наоборот, в один голос выступили против обвинений Помидора. Нельзя вот так сразу всё переменить – девять лет в этот день ходили всем классом в церковь… Помидору ничего не оставалось, как смириться с идеологической несознательностью учащихся и их родителей. Это был не Советский Союз.
Накануне больших праздников отец заправлял маслом лампадку, что висела под иконами в красном углу, чиркал спичкой…. Становилось по-особенному уютно в доме от мерцающего звёздочкой огонька у икон. Накануне Вербного воскресенья, в Лазареву субботу, ходили школой в церковь на вечернюю службу. Все классы шли с пучками верб, украшенных мелкими бумажными цветами – колокольчики, яблоневые цветочки… Мальчишки не могли в церковном дворе не погонять девчонок этими пучками, норовя похлестать по ногам: «Вербохлёст, бей до слёз, до белых куличиков, до красных яичиков…» Или: «Верба бела – бьёт за дело, верба красна – бьёт напрасно…
В церкви на вечерней службе сходились вместе скорбь и радость. Великий пост, в центре храма стоит большое деревянное распятие, иконы обрамлены чёрной драпировкой, в понедельник начнётся страстная седмица, но церковь наполнена цветами. Как ни в один другой день в году, прихожане, все до единого, с праздничными букетами в руках. Опушённые белёсым и жёлтым нежные почки и тонкая коричневая кожица веточек пахнут весной… Стоя в церкви девчонки рассматривали, у кого красивее верба, у кого лучше украшена искусственными цветами. А мальчишки, когда священник начинал освящать букеты, махая кропилом направо и налево, настойчиво тянули свои пучки к веерам брызг, стараясь побольше «поймать» святой воды… Её капли щедро летели на вербы, на лица прихожан, собор наполнялся улыбками, святая вода освежала, веселила…
Освящённые веточки Мария приносила домой. Мама говорила, что такими полезно «похлёстывать» утром в Вербное воскресенье домашних «на счастье». «И скотину, чтобы хорошо росла», – добавлял отец. «Нас уже мальчишки постегали», – смеялась Мария.
Прошлогодние веточки вербы отец убирал – но не выбрасывал, сжигал во дворе – к иконам ставил свежие.
Как она любила девчонкой и девушкой ходить к Свято-Николаевскому собору в дни свадеб. Мечтала: вот так же запоёт церковный хор: «Гряди, гряди, голубица…» – и ступят они с женихом под своды собора. Перед этим красивый и строгий жених будет встречать её на паперти с огромным букетом, произведением цветочного искусства. Букет харбинские мастерицы «возводили» на каркасе из тонкой проволоки… Получался роскошный овал из белых цветов с длинными хвостами аспарагуса… Мария подъедет к церкви, выйдет из машины и шагнёт навстречу своему счастью, своему ненаглядному… Они пойдут к аналою с крестом и Евангелием вдоль торжественного строя, слева её подруги-шаферицы в одинаковых платьях, справа – шаферы в чёрных костюмах… Сваха постелет перед аналоем белый плат, символизирующий облако, на котором мужу и жене предстоит много-много лет счастливо плыть вдвоём…
По поверью, если невеста первой ступит на плат – ей верховодить в семье, если жених – он главный… Некоторые пары устраивали суету соревнований с прыжками перед аналоем. Нет, она уступит первенство суженому, или разом встанут…
Шаферы будут держать венцы – в Харбине это миссия отводилась исключительно мужчинам – над женихом и невестой… У Марии мурашки бежали по спине, когда в полной тишине сверху с хоров Ольга Логинова, была такая знаменитая хористка в Свято-Николаевском, начинала петь «Отче наш»…
Что-то происходило в храме, когда невидимая прихожанами Логинова серебряной чистоты голосом протяжно пела из-под купола: «О-о-отче-е на-а-аш, Иже еси на небесе-е-ех…»
На крыльях мощного сопрано молитва заполняла пространство от пола до самой высокой точки купола, от иконостаса до притвора, вбирала в себя стоящих в храме… Низкие мужские голоса церковного хора были опорой, вторым планом, на фоне которого Ольгин голос серебрено царил во храме. Возникало ощущение: вот сейчас-сейчас он наберёт пронзительную высоту и вознесётся прямо туда, в горние выси, к ангелам, стоящим у Престола. «Да святится имя Твое…» В голосе боролись два чувства: одно – вырваться и устремиться прямо к Нему, второе страшилось дерзости окаянного человека, сдерживало грешный порыв… «Хлеб наш насущный даждь нам днесь…» Голос молитвенно возносился, и, казалось: под куполом образуется ещё один свод, прозрачный, дышащий… С каждым словом, с каждой строчкой, изливающейся из горла певицы, из сердца певицы, в невидимом своде копится сила… «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим…» Эта сила, достигнув критической точки, должна вырваться, увлекая за собой стоящих в храме, уйти вверх, к небесам… Сердце замирало: вот-вот всё разрешится пронзительной, пронзающей нотой, которая подхватит тебя… «И не введи нас во искушение…» Побеждала осторожность – голос опускался с высоты и смиренно просил: «И избави нас от лукавого…»
Молитва долго звучала в Марии, вытесняя из сердца другие звуки, повторяясь и повторяясь…
С девчонок Мария мечтала, как с суженым поочерёдно три раза будет пить вино из чаши, священник соединит их руки и трижды обведёт вокруг аналоя, с этого часа супругам рука об руку идти по вечному кругу жизни… Видела себя в белоснежном платье со шлейфом, и пажи – двое малышей – семеня ножками, подстраиваясь под шаг взрослых, понесут за ней шлейф. Было трогательно наблюдать подобную картину. Красиво одетые мальчик и девочка, преисполненные важности момента, изо всех сил стараются выполнить порученную им роль, и обязательно во время хождения вокруг аналоя кто-то из пажей запнётся, а то и растянется…