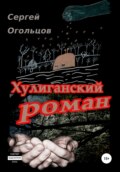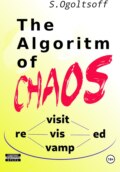Сергей Николаевич Огольцов
Главы для «Сромань-сам!»
– Ну ланна, чё ты, я поправлю.
Он принялся запихивать железо вспять, обратно в строй, но фиг там, ключей не получилось, а что-то мято несуразное для типа как прикрыть дыры под перилой. Капец эстетике.
– Ладно уж. Идём, – она сказала, наверно, чтобы его не прихватил за этим делом кто-то случайно проходящий, из жильцов…
По синему в сумерках вечера снегу, они отправились в парк. Она молчала, всё ещё переживая расставанье с личным прошлым.
А он думал до чего она конченная богиня, античная, но не из мрамора, и тело белее, чем у них, невообразимо. Она настолько совершенство, что вынужден переводить дыхание и закрывать один глаз, чтоб оставаться в пределах постижимой реальности.
Богинь любить не просто, с блядюшками общаги просто, да не любится.
– Слышь, этта, а ты меня любишь?
– Дурачок, такие вопросы девушкам не задают.
– Не понял! Эт ты-то девушка?
– Ну говорю ж – дурак. Девушка – это навсегда.
– И когда станет мать-героиней?
– Полный дурак.
Этот капюшон с меховой опушкой делал заметнее раскосинку её глаз. “Нанайчонок” называл он её про себя, но ей не признавался, никогда.
– Дмитрий Иваныч, он у вас на Англофаке преподаёт, а раньше в нашем доме жил, сегодня утром в Старом Корпусе, когда по звонку на пары расходились, на нашем этаже стоял.
– Молодец мужик! Знает где позицию выбрать.
– Да! Он бачки отпустил!
– Вот это Димон! Над-буит на лекцию к нему наведаться. Ты ж подывысь – Дмитро у Ринго Старры подался!.
– Как меня увидел, говорит: “Здрасьте, девушка, ещё нет?”
– А ты?
– А что я? И я говорю: “Здрасьте, ещё нет”.
– Ну так эт яснее некуда – женщина, она лишь эхо мужика или типа зеркала, чего в нём разглядит, то и в ответ покажет, и аукается тем же, что спрошено. Будь другом, а? В другой раз про это же спросит, ты ему скажи: “Здрасьте, УЖЕ нет!” Будем ломать Закон Зеркальных Отражений. Вдребезги!
– Вот ты иногда плетёшь и сам чего не знаешь.
– Эт точно… Да если б знал, то разве тут я жил бы?!
– Я чёт тебя не пойму.
– И здесь у нас полнейшая синхронность взглядов.
В парке, конечно, класс. Снег. Деревья. Тихо как в детстве… Но целоваться в мороз 20 градусов! Кому оно нада!.
Хотя вот этот ващще улёт был… глаза сами собой закрылись…
– Знаешь, чего бы я хотела?
– Сдать сессию.
– Нет. А чтоб ты был вот такой маленький, – она раздвинула большой и указательный пальцы своей руки для наглядности размера, – и чтоб я могла тебя себе в карман упрятать.
Она рассмеялась, а он заткнулся, потому что—как всегда от её смеха—здоровенная киянка саданула его в грудь и вышибла дыхание, а без запаса воздуха в лёгких особо так и не повитийствуешь…
* * *

Комплектующая #21: Накопление Знания
Упираясь руками в землю под клочками сухой травы вокруг стога, Иван сел, но подниматься дальше не стал.
Женщина что-то говорила ему, но что и на каком языке ему не доходило. Это не был Немецкий, которого он тоже не знал, кроме команд да ещё пары слов типа шлафен, эсен, дерарц, но речь её звучала совсем не по-Немецки.
Он просто сидел и смотрел ей в лицо обрамлённое тканью косынки. Он два года не видел женских лиц. Просто смотрел глазами из чуть запрокинутой головы.
Подошёл мужик с вилами, который тоже что-то говорил Ивану и теперь Иван перевёл глаза на него, всё так же сидя и не понимая. Мужик перешёл на Немецкий и это Иван различил, хотя смысла всё равно не улавливал, пока не услышал «гефангенер», «лагер».
– Ja, – сказал Иван. – Jawohl.
Отпираться не получалось, в широком отвороте серой куртки с надорванным рукавом виднелись чёрно-белые полосы лагерной униформы.
Теперь они говорили друг с другом, стоя над Иваном, не по-Немецки. Женщина говорила чаще и быстрее, мужик стоял опираясь на держак уткнутых в землю вилок, в точности как стоял бы мужик из брянской деревни Ивана.
Когда он услышал над головой „эсес мэнер штрайфе», то отвёл взгляд в сторону и стал смотреть на мягкие волны холмов неподвижно застывших до самого горизонта.
Женщина переговорила мужика, тот уже молчал качая головой и держась за вилы, потом обернулась к Ивану:
– Энглендер? Полин? Руссе?
– Ich bin Russe, – сказал Иван и начал подниматься преодолевая ломоту в истомлённом теле.
Мужик передал ей вилы и отправился к телеге запряжённой чалой лошадью под группкой деревьев неподалёку. Она продолжала что-то ещё говорить Ивану, но уже не про патрули и эсэсовцев…
А да и как же было не болеть Иванову телу после такого марш-броска? Всего за семь ночей он одолел 150 км от Штутгарта до фермы Эмиля и Мадлен! Семь ночей по довольно-таки пересечённой местности. Семь ночей и дней без пропитания, кроме того ломтя хлеба с колбасой подобранного на лесной дороге.
Ну, каково? А? Гинесс? Проверь свои записи – подобные рекорды туда ещё не заносились. Стопудово.
Это был горный край, хотя в представлении Ивана горы должны выглядеть как в картинке на папиросной пачке «Казбека» – каменные бока и острая вершина с белым снегом, а под горой джигит на коне в чёрной бурке.
Ни снегов, ни джигитов, вокруг простирался ещё один пострадавший от истории край. Эта сука никого не щадит, наезжает по полной. Чуть копнёшь, да даже и копать не надо, глянец туристических проспектов чуть-чуть соскобли и – закапает кровь обильно полившая этот край, как и любой другой, впрочем, где хотя бы сто лет обитали племена хомо сапиенса – Человека Разумного, как записано в классификации Карла Линнеуса.
А вот умели ж они таки позабавиться в своём 18-м веке, скажи? Ты только глянь на портрет Карла кисти его земляка А. Рослина – едва сдерживается, чтоб не расхохотаться от собственной шутки: да, господа мои, это я причислил вас в род Разумных из семейства гоминидов!
Звался этот край Эльзасом, а остальное всё как у людей: свевы на кельтов, франки на алламанов, мадьярские орды не раз набегали, край ходил из рук в руки, от одного государства к другому. Народная память бережно хранит нашествия шаек Арманьяков, отметины набегов «диких англичан».
А в Тридцатилетнюю войну вообще каждого четвёртого вырезали, но это и Бог велел, выяснялись как правильнее в Христа верить и ближнего своего возлюблять.
Людовик 14-й помог определиться, что край этот всё же французский. Типа всё устаканилось до 1871, когда Германия империей стала и принялась показывать Европе кто в ней хозяин. Франция, на колени поставленная, отписала Эльзас победителю, по случаю капитуляции во франко-прусской войне.
Тут, конечно, новый порядок начался, Немецкий. Кому-то скажешь «бонжур!», по привычке, – штраф плати за небрежность выражений.
Полста годами позже вернулся край в лоно родимой Франции, когда Германии Первую Мировую проиграла в 1918. Но двадцать с небольшим лет спустя вернулось всё на круги своя. Опять Германия Францию в привычно-знакомую позу поставила, в 1940.
Три аннексии на глазах одного поколения (правда, третью Гитлер официально не объявлял, но призывники в Германскую Армию и войска СС (это не одно и то же) загребались регулярно).
Оттого-то Эльзасцы на двух языках общаются, а найдутся даже кто и Аллеманским владеет, но таких мало и они из дальних деревень, потому что Аллеманский в школьной программе никогда не стоял.
Хуторок Эмиля и Мадлен находился в северной части Вогезских гор на склоне обращённом в строну долины Рейна, восточнее торных дорог протянувшихся к шахтам и карьерам в Южных Вогезах.
Стены дома сложены из тёсаного камня различной величины и всяческих серо-буро-красных оттенков. Крыша высокая, из потемнелых, внахлёст уложенных досок как и над постройкой коровника-конюшни-сеновала примкнувшего к углу хозяйского дома, в поперечном ему направлении.
Дом, по Брянским понятиям – дворец: кухня, спальня, прачечная и кладовая. Ну а коровник с конюшней понятно, хотя ж опять же из камня!
Ивану выдали гражданское обмундирование, от младшего брата Эмиля, уже полгода как призванного.
Неделю откармливали пришлого на сеновале. Места тут тихие, но бережёного Бог бережёт.
И спал он там же.
Когда Эмиль увидел, что с сеновала Иван сходит не только по нужде, то вечером отвёл в коровник и дал лопату, показал где тачка и куда навоз возить.
А Иван и рад – глаза закроешь, вдохнёшь, а дух сладкий как от Бурёнки в сараюшке возле Батениной избы на Брянщине.
Так и пошло, хотя не только Бурёнка, конечно, опять же и мерин чалый и виноградник большой, да и дров наколоть. Но это Ивану не в тягость, сызмальства приучен, но правда, в работе порой застывал – вокруг поглядишь, ух до чего забирает эта горная красота.
Обедают Эльзасцы на кухне, в конце дня, после трудов праведных.
Потом Мадлен и Ивану поесть приносила с фонарём, на сеновал же. Не ровён час наскочит эСэС-мэнеров патруль на своём мотоцикле.
Он жевал, а она на него смотрела в скудном свете от фонаря на крюку, а уж как он рот оботрёт, она ему viens ici, fou Ivan, спиною на сено, подол выше живота и коленками в темноте отсвечивает. А Иван-то и рад. Хотя не каждый день.
В первый раз, как она ему viens ici показала, Ивану как-то ну совсем никак ну не так как-то. Эмиль мужик неплохой и опять же хозяин. Оно и хочется, и колется куда ни кинь.
– Так Эмиль же, – сказал Иван.
Мадлен засмеялась, подлегла поближе, говорит: «Fou Ivan!», – и ладошку свою женскую ему туда запустила, откуда все какие есть в голове соображения улетучиваются, а дальше и не приходят, покуда и сам рядом на сено не опрокинешься, отдышаться.
Наутро он на Эмиля и глаз не мог поднять, только кивает да работу работает. Потом однако втянулся помалу. Молчком.
Томило это всё Ивана, да куда деваться, разговору ни с хозяином, ни с женой его, Мадленкой, никак не получится. Языка он ихнего не знает. Ну так, с бору по сосенке, pelle, cheval, vache, brouette, lait, pain. Из такого разговор не складёшь.
Так и жили дальше.
Единственно с кем у Ивана разговор получался – это сынишка ихний, Этьен. Три года ему, шустрый такой парнишка, только не говорит пока. Языка не знает. Но с Иваном полное взаимопонимание. Он малышу покажет «идёт коза рогатая…», а потом «забодаю!», малыш – заливается.
Один раз он Ивана спас, когда тот с виноградника вертался. А дитё его на тропке позади коровника дожидает: «Ы!» – говорит, – «ы!» – а ручонками на голове круглую каску показывает и Ивана обратно на тропку отпихивает.
Отбежал Иван, залёг среди лоз, и через час, наверное, мотоцикл с коляской уфурчал по дорожной колее прочь с фермы…
Младший брат Эмиля, Жером, был «мальгри-эль», так на Французском называли призывников из Эльзаса во время Второй Мировой, да они и сами себя так же в точности называли—«подневольные»—и при первом удобном случае дезертировали.
Германское командование, чтоб отчасти решить незадачу, направляло их в полевую жандармерию, войска СС. Но на всех СС не хватало, вот и гнали «подневольных» на фронт, в основном Восточный.
В 1944 Советская Ставка передала 1400 Эльзасцев из Тамбовского лагеря генералу де Голлю, после его встречи с Верховным Главнокомандующим, товарищем генералиссимусом В. И. Сталиным.
Де Голль тогда разворачивал театр военных действий в Алжирской Африке против Французских войск Французского правительства, которое возглавлял генерал Петэн в курортном городе Виши, которое подчинялось Германскому правительству.
Именно там и погиб Жером, в Алжире, под командованием генерала де Голля.
Но случались и добровольцы среди Эльзасцев. Из тридцати «подневольных» участников карательной операции проведённой в Орадуре силами Второй Танковой Дивизии СС один оказался добровольцем из Эльзаса. За что, впоследствии, был осуждён Французским судом.
Остальные 29 утверждали (как и он), что никого и пальцем не тронули и это без них распинали ребёнка, резали мужиков из пулемётов и сжигали баб в церкви (всего 640 человек за один световой день, правда начали в 4 утра).
Свидетелей не осталось, кроме свихнувшейся от пережитого старухи (она из окна ризницы выпрыгнула, а за ней ещё две, но их из автоматов расстреляли, выжила она одна), да пары мужиков недорасстрелянных, которых на следующий день откопали под грудой трупов…
И таким образом на суде каждый свидетельствовал сам за себя, что он не при делах.
Добровольца повесили, остальных отпустили.
Прочих свидетелей кровавой бани судили в послевоенной Германии, откуда они родом, и те жили долго, но не очень счастливо и умерли не в один день…
Отпустите меня в динозавры, а? Всего сто лет назад Джеймс Джойс мог писать роман без единой сцены насилия (один синяк одному пьядалыге не в счёт) и – читается с упоением.
Ну отпустите, а? Я тоже хочу в предрассветную тишь с К. Паустовским с удочками выходить, ну на худой конец проскакать где-нибудь на розовом коне…
За что мне знать всё это? За что? Ну отпустите!
Я больше не буду… мамой клянусь, не буду!
(Чьей мамой-то, болезный?.
Какая тебе разница чьей? Лишь бы отпустили…)
А на новый год Ивана позвали праздновать вместе со всей семьёй, на кухне.
Пили светлое Эльзасское вино. Хозяева пели, Этьен смеялся.
Когда Иван засобирался к себе на сеновал, Мадлен ухватила фонарь. Он испугался, что Эмиль всё поймёт, ведь он уходит сытым и Мадлен там нечего делать.
– Pas! Pas! – сказал Иван.
Эмиль спросил: «Qu'est-ce qui ne va pas?»
– Il a peur que tu devines que je le baise, – сказала Мадлен.
Эмиль засмеялся и хлопнул Ивана по плечу:
– Fou Ivan! C'est une bonne femme, Ivan. Elle mérite plus que toi et moi. Madeleine mérite tous les mâles du monde. Allez, mec, allez!.
Когда Мадлен ушла от него, унося тусклый свет фонаря, Ивану вдруг даже слеза навернулась от стыда и обиды, что до чего он такой fou Ivan, ну прям полный Ванька-дурак, и никогда, как ни бейся, ему не понять эту грёбаную Европу…
Всплакнул, или всё же сдержался Иван-Россиянин в наступающем 1945?
Как-то вот упустил я спросить, а теперь уж и не с руки…
* * *

Комплектующая # 22: Пресечение Процветания
– Так-так… Тут у вас, как я вижу, признания в содомии… что уже по всей Европе обратилось в заеложенное, общепринято проходное место… эдаким нынче мало кого раскачаешь… хотя же и без него как-то непривычно – что за признание без содомии?. Ладно, пусть останется…
Ну-ка, а тут что?. «при посвящении в рыцари брал в рот у посвящающего..» ха! Свежо! И воображение подстёгивает… это пойдёт… однако же это вот: «плевал отсосанной спермой на крест распятия»… тут, знаете ли, чересчур, надо и меру знать какую-то! Нет, это место явный перебор! Неподготовленный слушатель начнёт слюну глотать от неожиданности… да и подражатели, в конце концов, найдутся – сейчас их столько развелось всех этих сатанистов… зачем же им ещё и подсказки делать-то?. Это признание снимите и пусть подпишут заново.
– Так что – теперь их снова перепытывать?
– Ну это как получится. Нам не до деталей и, кстати, первоначальную версию непременно уничтожить…
(Вот! Именно это и стало причиной разночтений в wiki! Как раз таки наличие двух документов с показаниями одних и тех же обвиняемых.
Не уничтожил, сука, решил, как видно, подчистить и толкнуть переписчикам Нового Завета в каком-нибудь монастыре, на выручку от такенного куска пергамента, почти свежего, загульная вечеря в харчевне – обеспечена…
А заодно не исключим, что в сейфах Ватикана найдётся и третий пергамент на эту тему – это ещё та контора, но вместе с тем и суверенное государство размером в 40 с половиной га и фиг ты у них чего допросишься для алтаря наук общественного достояния.
Относительно же представленного выше диалога, приоткроем завесу вразумительности – он представляет собой выдержку из стенографической записи замечаний Папы Римского Клемента 5-го по делу тамплиеров, они же Нищие солдаты Христа и Храма Соломонова, которую составил неизвестно кем подосланный соглядатай под личиной безграмотного монаха-премонстратензианца.)
Клемент 5-й: В делах обеспечения секретности лучше пере-, чем недо-, знаете ли. 1310 год, как никак! Полное падение нравов, пропащий век, утраченное поколение… развращены до кончиков ногтей, готовы не задумываясь перенять любую безнравственную гадость у тех развратных, пошлых, загнивающих Итальянцев!
И это в чём угодно! Напропалую распевают их песенки, канцоны из Сан-Ремо! Тьфу! Как будто наши им уже чем-то не тем намазаны! А или чем плоха вот эта, например, её мой дед в одном ВИА с Кобзоном бацал:
Вышел дру́ид на крыльцо
почесать своё яйцо…
Ведь сразу ж чуешь нашенский, истинно галльский дух!
(Дальнейший, правый нижний, угол листа пергамента, увы, ахти, и к сожалению – оборван.)
Ну. чё? Порезвился, а? А теперь пахай, сука! (Цитируя известный хит и клип старушки Бритни.)
(Ланна,
иИ –
паа-Ехали!).
Шахматный Этюд На Троих:
1) Нищие Солдаты Христа и Храма Соломонова (рыцарский орден),
2) Филип 4-й Французский (кличка Красавчик, он же Железный),
3) Клемент 5-й (Папа Римский).
Кратким образом орден назывался «Храмовники» и учредился он в Португалии в 1119 г. для охраны Европейских Паломников в Святую Землю, куда те стремились в целях познавательного ознакомления с архитектурной и религиозной жемчужиной, основной достопримечательностью Иерусалима – Храмом Соломона.
Охранять требовалось от разбойников-грабителей-насильников-убийц различных национальностей и вероисповеданий. Времена тогда были глубоко и сурово средневековые, что и вызывало настоятельную потребность оберегания путешественников при их передвижениях.
Рыцари ордена охранителей являлись боевой ударной силой по меркам той эпохи и отличались не только ратной выучкой (даже кони их были обучены рвать противника в бою), но и высоким боевым духом.
Им не полагалось отступать, пока силы противника не превзойдут их числа в соотношении 3 к 1, да и то лишь по приказу их командира.
Рыцари являлись «вершиной айсберга» в структуре ордена.
Вступивший в орден рыцарь становился монахом. Он одевал белую рясу с нашивкой большого мальтийского креста алого цвета. Ему не позволялось жениться, обручаться или входить в какой-либо другой орден на стороне.
Не мог брать в долг больше, чем в состоянии вернуть.
Остальную часть айсберга составляли храмовнические священники (обмундирование из зелёных ряс и никогда не снимаемых перчаток, за исключением момента раскладки причастия по ртам верующих) и конница.
Каждому коннику полагались две лошади; обращаясь один к другому, служивые говорили «брат», цвет рясы чёрный или коричневый, с учётом их принадлежности к тому или иному разряду обслуживающего персонала (оруженосцы, конюхи, телохранители, повара и т. д.), для боя «братья» облачались в кольчугу или частичную броню.
Такая инфраструктура позволяла держать боевую готовность на завидной высоте и обеспечивала высокую степень мотивации: для рыцаря-монаха пасть на поле битвы – почётная участь.
Тактически, они стали воплощением мечты Святого Бернарда о том, что малым числом можно громить превосходящие силы, если условия позволяют.
Так, в Битве у Горы Гисард (1177) 80 храмовников со своей обслугой прорвались к 500 рыцарям (плюс их обеспечение) Иерусалимского короля Болдвина 5-го, которые успели оказаться в окружении со стороны 26 000-го войска мусульманского полководца Саладина.
В результате последовавшего затем сражения, у Саладина остались 2600 бойцов, он отступил к югу и более года не тревожил Иерусалимское королевство в Святой Земле…
Экономическая структура ордена, обеспечивала строительство церквей, монастырей, управление сельским хозяйством, банковским делом (чековые книжки туристам под обеспечение из предварительно внесённой ими платы – изобрели именно храмовники.
То есть, разбойникам как-то уже не интересно стало грабить паломников – у тех вместо звонкой монеты всего лишь книжка, которую можно обналичить только в следующем монастыре/замке храмовников.
Замковый казначей делал в книжке зашифрованную пометку для следующего казначея по маршруту следования об остатке на счету путешественника от внесённых им на старте фондов).
Обширные земельные владения как в Европе, так и на Среднем Востоке обеспечивали политическое влияние ордена способного в любой момент собрать войско до 4000 конников. Магистры ордена из различных средневековых стран подчинялись Главному Магистру, а тот отчитывался одному только Папе Римскому.
Так продолжалось 195 лет…
Филип, которого Мария Брабантская родила в 1268, оказался крепким и красивым ребёнком и потому, когда он стал Филипом 4-м за ним закрепилось прозвище «Красавчик», по чисто физическим признакам, хотя недоброжелатели могли порой и «Железякой бесчувственной» обозвать, но это издалека, находясь вне пределов досягаемости.
Мама упала с лошади и, будучи беременной, неудачно. После её похорон, папа женился дальше и, когда текущая королева собиралась родить, а медработницы акушерства тех времён сказали, что (по очертания живота) точно мальчик будет, она отравила Луи, старшего брата Филлипа, расчищая путь к трону для своего (пока ещё нерождённого) дитяти. Ну, а покуда что прямым наследником оказался Филип. В возрасте 8 лет.
А когда ему исполнилось 16 (дожил-таки везунчик!), он женился на королеве Жанне 1-й из Наварры. 16 августа 1284, ей как раз уже 13 исполнялось. Дальнейшая брачная жизнь продолжилась 34 года, но когда Жанна умерла, он не стал расширять свои владения (хотя советники настоятельно были «за») ни одной из политически выгодных партий – невест с королевствами тогда хватало.
Сам же он правил с 17 лет и, можно сказать, удачно. Долг оставшийся на нём от отца из-за Крестового похода на Арагон (да, крестовые походы устраивались и на соседей по Европе) он погасил – все 8 бочек серебром.
В 1286 годовые поступления в казну Франции составили 46 бочек серебром. Но потом начался спад.
Да, войны продырявят бюджет любого государства. Война с Англией. Война с Фландрией. Девальвация государственной монеты, ревальвация. Головной боли у средневековых королей хватало.
Хотя решимости Филипу 4-му, королю Франции, не занимать. Если что, так он и епископа арестует, а надо будет, то и Папу Римского, Бонифация 8-го, под домашний арест возьмёт.
В 1306 утомился Филип 4-й от постоянного безденежья и придумал способ: изгнать из страны всех Евреев! Пускай идут на все четыре стороны, но имущество, чтобы тут оставили. Потому что король задолжал Евреям весьма крупные суммы на свои монаршьи расходы.
Не помогло однако. И на следующий год король повторяет фокус – разослал по всей Франции тайный указ и 13 октября 1307 года всех, сколько смогли поймать, храмовников на территории государства арестовывают. За что? Угадать не трудно – они имели неосторожность одолжить королю десятков несколько бочек серебра.
Однако даже королям приходится думать о правильной пропаганде и потому весь рыцарский орден обвинялся во множестве прегрешений: ересь, сатанизм, содомия и… некоторые списки доходили до 124 пунктов.
Земельные владения и прочая недвижимость-движимость переходят в собственность государства (которое « – это я!»). Во все королевские дворы Европы отправлен призыв «делай как я!» против еретиков, сатанистов… и так далее, по списку.
Правители соседних государств плечами, конечно же, пожали, но от нежданных дивидендов кто откажется?. Хотя пропаганде поверили не больше, чем и сам фабрикант её сфабриковавший.
Средневековая чернь неистовствует, расправу требует учинить над еретиками окаянными (хотя основной мотив, как всегда, любовь к зрелищам – охота посмотреть, как людей живьём жгут).
Малость подгадил Папа Римский Клемент 5-й, бухтеть начал, мол, давайте, чтоб всё на законных основаниях; комиссии из кардиналов стал направлять и даже симпозиум созвал в Вене по вопросу храмовников.
А вопрос и впрямь не маленький – 15 000 «домов храмовников», из коих каждый (при переводе на нынешние мерки) – 5-звёздочный отель, насчитывалось тогда по всей Европе.
Интересный момент, что самих храмовников как-то и не нашлось. Испарились все гостиничные менеджеры, осталась лишь местная прислуга. А архивы за долгие годы банковского учёта – где? Где реликвия из головы Иоанна Крестителя? Где военные трофеи из Святой Земли? Подарки и сувениры от благодарных паломников за 195 лет – где?
А вот нету, словно и не было.
Даже и во Франции, при проведении Спец-Операции «хватай их всех!» из 3000 задержано какие-то сотни две-три. Чаще всего в преклонном возрасте.
Из 138 храмовников задержанных в Париже, 123 признались палачу, что на распятие плевали; 105, что отказались от Христа; 103, что целовали старших по должности в жопу.
Кое-кого пришлось и сжигать, периодически, чтоб как-то потушить всенародное негодование.
Но что всего сильнее возмущает, так это двурушничество арестантов – как только комиссия проверяющих кардиналов приедет, они на попятную, от показаний отказываются: «меня пятками на горящих угольях держали, железом бока дырявили». Столь неприкрытая беспринципность даже и Папу уже рассвирепила, тем более, что у них с Филипом дружба имелась с лет юности обоих.
Тянулась эта канитель 7 лет, до самой кульминации на островке посреди реки Сена в Париже 18 марта 1314, как раз напротив сада королевского дворца.
Там воздвигли помост, чтобы Жак де Малой, 23-й Великий Магистр ордена храмовников, совместно с Жоффреем де Черни, магистром Нормандским, и ещё с одним кем-то из их иерархии, вышли бы и прилюдно покаялись и отринули ересь их соблазнившую.
Но они вдруг от прежних своих показаний прилюдно отказываются, заявляют, будто верно служили Богу и людям!
Что оставалось делать? Подвезли дров и на том же самом помосте, на самом медленном огне кончали еретиков проклятых.
А как огонь угас, то кости обгорелые в реку Сену сбросили, чтоб не плодилось суеверие и не позволить населению растащить их останки на реликвии.
Правда, король своё пари проиграл кардиналу, который привёз согласие Папы Римского на эту казнь, буде храмовники вдруг заартачатся. Король говорил, что палач у него отменно умелый и заставит еретиков визжать словно свиньи. На чём и проиграл 10 ливров. Не завизжали, упрямые попались.
Те двое вообще молчали, и только 23-й Великий Магистр всё каркал – не сойдёт это с рук ни королю, ни Папе. Будет им расплата, причём скорая.
Так ведь и накаркал же ж!
Папа Римский Клемент 5-й в течение 1 (одного) календарного месяца окачурился от болезни именуемой «люпус» («волк» на Латинском наречии), которая неизвестно откуда берётся и по сю пору не поддаётся медицинским воздействиям.
Филип Красавчик же до ноября дотянул, а как выехал в лес на вепря, кондрашка его хватила, по всем признакам церебральная, дня три ещё похрипел, а дальше средневековая медицина оказалась бессильной.
Правда, похоронить его всё же удалось, в отличие от Клемента.
В того—как уже в церковь отпевать отнесли—молния шандарахнула, так и сгорел Папа Римский вместе с ни в чём не повинным зданием.
Это всё к тому, что в Гугл на ночь глядя лучше и не заглядывать, а тихо-мирно посмотреть старый добрый ужастик про бензопилу в Техасской шахте…
* * *

Комплектующая #23: Отклонение Предложения
Во глубине недр первого этажа Вавилонообразно пирамидального здания отсутствие окон и дверей прямого доступа в шумы городской спешки отсекло их, как и непрестанно изменчивое коловращение визуальности, сотворяя свой, особный режим температуры и автономную тональность освещения, с тем характерно ускользающим отсветом илистого дна глубокого, но не чрезмерно, водоёма.
Касаемо температуры, Герасим Никодимычу, в целом, как-то и фиолетово даже.
Из одежд окружающих и по своему пальтецу тоже нетрудно сделать вывод, что где-то там—на улице—уже осень, возможно и зимы начало, однако воздерживаясь от резких движений, вряд ли взопреешь, даже и в пальто.
Другое дело освещённость, с этим да, она здесь тускловата и причиняет Герасим Никодимычу необходимость в стискивании век, и тем самым корёжить из своего лица страждущую рожу закоренелого хроника миопио-астигматизма. Потому что он пишет. Стоя…
Да, ему пришлось пойти на поводу у стола, который нисколько не рассчитан на пользование им в сидячей позе. Отнюдь! Он приподнят, на манер конторок для писчебумажного труда банковских клерков в эпоху Диккенса и зарождения капитализма в России. Вместе с тем, столешница имеет горизонтальную, а не наклонную, направленность и Герасим Никодимыч может упирать в неё свои локти, всё так же стоя, чтобы удобнее писалось.
Он пишет ручкой в стиле ретро (трудно поверить, но они таки встречаются ещё!), ручкой с пёрышком, хотя весь цивилизованный мир давным-давно втянулся писать шариковыми, привязанными к чему-нибудь стационарному в интерьере общественного места, в котором пишешь.
Пёрышко приходится обмакивать в одну из пары чернильниц соседствующих друг с дружкой в чёрной пластмассе прибора в центре высокого стола.
Он выбрал правую для куда макать, даже в макании он однолюб. Вторая оставлена желающим пристроиться с потустороннего края широкой столешницы, в непосредственной близи ко второй ручке, что протянулась, выжидательно, в продольной выемке-бороздке у всё того же прибора, по ту сторону чернильниц, которых в нём ровно две.
Его как-то особо трогает вот эта поволока с прозеленью, что плёночно подёрнула поверхность чернил налитых в правую чернильницу, как, впрочем, и в левую, но туда он не макает, не разбивает поволоку на плавучие чешуйки зелени над тихим чёрным омутом в платмассе.
Макать надо осторожно, не до самого дна, поскольку чернил налито туда чрезмерно чересчур. Ему никак не хочется запачкать себе пальцы, в ходе писания, второпях, на обороте очередного телеграфного бланка в помещении международной телефонной и телеграфной связи Киевского Главпочтамта.
Даже зажмурено прижатыми глазами, ему не различить что именно он пишет, там, среди расплывчато неразличимых строк, но он слышит, как сам же приговаривает своей руке:
– Это элементарно, Ватсон, 18 галер вышли из порта Ла Рошель в неизвестном направлении… след флотилии затерялся в череде неспешных волн по курсу в гавань Лиссабона…
Исписанные бланки Герасим Никодимыч складывает, не слишком тщательно, и набивает ими левый карман пальто, уже достаточно припухший, рост объёма отчасти приподнял суконный клапан над карманной прорезью и даже оттопырил эту деталь одежды, в какой-то мере.
А что, скажи на милость, остаётся ему делать, коль скоро четверть часа с гаком, как его Муза прищучила его, вот прямо тут, на Главпочтамте.
Невидимая никому, даже и самому творцу-подельнику, но столь неодолимо требовательная, не терпящая прекословий Муза.
Хорошо хоть бланки подвернулись на столе, с его прибором в центре.
– О, черт! Во что же всё же был он там обряжен? В гробу том грёбаном?
– Не беспокойся, в саван его закатали, который уж истлел х3 когда.
Герасим Никодимыч схватился за карман пальто:
– Вы подглядывали?
– Какие подглядки в аудиокнигу, чудак-человек?
Герасим Никодимыч прекратил жмуриться, чтобы всмотреться в нежданного собеседника по ту сторону разделяющего их стола.